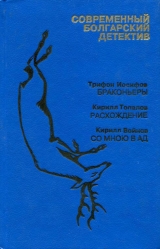
Текст книги "Браконьеры"
Автор книги: Трифон Иосифов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
– Я убью тебя, если ты хоть что-нибудь скроешь, гадина! Ну? Будешь говорить?! Один, два…
У меня в руке появился пистолет. Кожух застыл, лицо его побелело, и, глядя на дуло, он стал мелко дрожать.
– Я скажу, скажу тебе все, Боров, ты только не думай, что я виноват…
– Хватит вилять! Вот тебе бумага и ручка – пиши! Пиши немедленно все, что знаешь.
– Но… но я… это…
– Пиши, с каких пор и откуда у тебя появился итальянский карабин, где ты его скрывал, сколько муфлонов убил из него! Ну?!
И он начал с трудом царапать по бумаге. При свете коптилки я едва различал его кривые буквы. Вскоре я уже мог из-за его плеча прочесть и про карабин, и про муфлонов, и про то, что продавал их головы Митьо и за каждую получал сто левов…
– Это все? – Глядя на меня все с тем же страхом, Кожух протянул мне испачканный грязными руками листок.
– Нет, не все! Сейчас ты напишешь, кто тебе велел стрелять в меня!
– А-а, а вот этого не будет! – отпрянул он, но я погрозил ему кулаком. – Да ты чего от меня хочешь, а? На виселицу хочешь меня отправить?
– А ты зачем стрелял в меня?
– А ты никогда этого не докажешь!
Я знал – не докажу. Но припугнуть попробую.
– Еще как докажу! Я подобрал дробь, которая попала в дерево. Есть люди, которые сумеют доказать, что это из твоего ружья.
– Ерунда! – Кожух впервые за все это время осклабился и нагло выставил свои гнилые зубы. – Ты что, за дурака меня держишь? Дробь для всех винтовок одинаковая, а дула – гладкие. Ты скажи спасибо, что я только припугнуть тебя хотел!..
Мне еле удалось удержаться, чтоб не избить его до полусмерти. Я снова схватил его левой рукой за шиворот и рванул к себе, а правой приставил пистолет к груди.
– Значит, припугнуть… А Герасима Борова кто убил? Говори, дрянь!!! И не пытайся выкручиваться! Ну?!
Кожух застонал, заскулил и рухнул на стул.
– Не убивал я его, Боров, вот те святой крест – не убивал! Клянусь памятью матери – другой это сделал!
– Кто?! Кто?! Говори же!!!
– Отец мой… – Губы у Кожуха стали покрываться серой пеной. – И карабин его…
– Где? Где карабин?
– Там… – и он мотнул головой в угол, где были свалены какие-то грязные, трухлявые мешки. Я разрыл ногой кучу хлама, но там ничего не оказалось. – Под досками, под досками смотри…
Я с отвращением взялся за две шаткие доски и поднял их. В зияющей неглубокой дыре лежал итальянский карабин. Вот он, наконец-то! Я держал его обеими руками, он был тяжелый, такой тяжелый, что у меня едва выдерживало сердце… Железные части проржавели, ложе и приклад были изрешечены дырками, краска давно стерлась.
– Отец признался мне только через десять лет, перед смертью, – тихо хлюпал Кожух. – А я любил Герасима, хочешь верь, хочешь не верь! Если бы я его не любил, взял бы я Диму? Она же понесла от него, а я ее взял в жены… Разве бы я…
– Шагай! – Я подтолкнул его к двери. – И не вздумай бежать! Тут же уложу!
Кожух зашатался и с трудом переступил порог. Мы пошли обратно в село. Светлая декабрьская ночь продолжалась. Я тащил его в общинский совет, там он будет под присмотром, а то, глядишь, выстрелит в себя или, например, повесится, и будет у меня на совести его смерть. Я смотрел на его костлявую, хилую согбенную фигуру и – да, да! – жалел эту кучу дерьма. Вместо удовлетворения я испытывал нечеловеческую тоску, мне хотелось поднять вверх голову и волком завыть в небо… Меня уже трясло так, что я едва удерживал в руках карабин…
VII
Утром следующего дня Дяко рассказал ребятам из охраны о моих «подвигах». Я ожидал увидеть радостные лица – еще бы, наконец-то закончилась история с истреблением наших муфлонов! Но все молчали и виновато глядели на меня. Что-то зацепилось в сознании – отведенные в сторону глаза, жалкие улыбки… Но сейчас додумывать нет сил и неохота – потом… А Митьо нет. Видно, узнал о задержании Кожуха, не вышел на работу и, скорее всего, скрылся где-нибудь в укромном месте. А мне бы надо встретиться с ним и посчитаться…
Вторая новость сразила меня наповал: Марина! На скорую руку сложила свои вещички, оставила заявление об уходе и дунула в город на грузовике лесничества. Да-а, перехитрила и опередила меня эта женщина. Я спросил у Дяко, как воспринял поступок жены Васил. А никак! Дрыхнет как убитый, его и добудиться невозможно – он вчера пил целый день до позднего вечера. Совсем от рук отбился, пора бы тебе как начальнику – Дяко сдвинул брови – сделать что-то, чтобы прекратилось это безобразие… Да, ты прав, милый мой Дяко, я сделаю, я такое сделаю, что никому и не снилось, но прежде я должен остаться один. Не хочу ни с кем прощаться, потому что это будет похоже на плохой театр. Официальные «грустные» прощания мне вообще не по вкусу. Сейчас я дам охране самое легкое задание, Дяко поведет ребят, они проведут в центре заповедника час-другой, но именно это мне и надо…
Я подождал, пока они ушли, и поднялся к себе в комнату. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы запихнуть в спортивную сумку то, что мне будет нужно на первое время, – бритву, две рубашки, пуловер, кое-какое белье… А что делать с остальным?
Запихиваю в гардероб полушубок, кожаную куртку, сапоги, оглядываюсь вокруг и спускаюсь вниз. Вряд ли я еще вернусь сюда…
Гай, увидев меня, радостно прыгает и рвется с цепи, но я стараюсь не смотреть на него – совестно. Вывожу из-под навеса свой собственный старый раздрызганный «москвич», делаю плавный разворот по двору – и врезаюсь, как вихрь, в глубокий снег дороги. В машине холоднее, чем снаружи, металлические части совершенно ледяные. А вот и водохранилище… Пересекаю узкую дамбу, и задние колеса едва не тонут в воде… Этого еще не хватало, надо быть поосторожнее. Пошли подъемы и спуски, дорога идет через перевалы, над пропастями и скалами, чуть зазеваешься, пропустишь поворот – и готово, летишь с невероятной высоты, потом бум! – взрыв, клубы пламени, и – здравствуй, святой Петр…
Я действительно едва не пропустил крутой поворот – завозился с трескучим приемником – и очень четко представил себе, что было бы, если бы… Откуда такое воображение? Разумеется, это все кино.
Треклятое кино дает рецепты на все случаи жизни – можешь представить себя в виде погибающего героя, отвергнутого любовника, вождя и учителя и бог знает еще кого…
Давно ко мне не являлась моя пантера… Но стоило мне вспомнить о ней, как на дороге показалось гибкое черное тело, она, видно, замерзла и медленно шла ко мне, поблескивая зелеными глазищами. Делать нечего – я пустил ее в машину, она разлеглась на заднем сиденье и, согревшись, стала рассуждать, что до сих пор не пробовала мясо муфлонов, а оно, говорят, повкуснее овечьего…
Мы подъезжали к городу, движение стало более оживленным, пахло бензином, то и дело попадались шумные толпы, с балконов падали на тротуары плохо закрепленные вазоны с цветами… Пантера, как и я, не любит город, не зря же она – детище моего собственного воображения…
Я припарковался возле автовокзала, отворил заднюю дверцу – прошу! Людям я наверняка казался сумасшедшим, но они, честно говоря, мало интересовали меня. Пантера медленно вышла из машины, махнула лапой на прощание, с интересом поглядела на меня и пропала в толпе. Мне было грустно – наверно, я видел ее последний раз…
Я закрыл машину и только тогда понял, что я действительно в городе. Возбужденная толпа куда-то тянула меня за собой, я глох от шума и никак не мог понять, почему люди смотрят на меня так пристально и подозрительно. Оглядев себя с головы до ног, я понял, в чем дело, – ведь я нес под мышкой узел из овечьей шкуры, из которого торчало ржавое дуло итальянского карабина…
Итак, наступило время сжечь за собой мосты, назад дороги нет. Я оторвал от себя пантеру, скоро расстанемся с Генчевым, а сегодня вечером или завтра утром мне предстоит встреча и прощание с Надей… Я попрошу Генчева, чтобы разрешили мне оставить при себе карабин хотя бы на одну ночь. Я смогу убедить его, что не собираюсь никого убивать. Просто… после долгой разлуки к любимой идут с букетом цветов, а я приду с карабином… Конечно, не для пустого эффекта в слезной сентиментальной сцене – я просто хочу объяснить Наде свое поведение за последние годы. Другой вопрос – захочет ли она понять меня. И все же – если у нее хоть что-то осталось от прежнего, если там, у этого проклятого «Очарования», она была искренна – Боже мой, а вдруг, можно начать все сначала?..
Через десять минут я уже в управлении, сдержанно отвечаю на приветствия коллег и спешу к Генчеву. Слава Богу, шеф в кабинете один.
Он поднимает глаза, и я вижу в его взгляде не только удивление, но и – очень странно! – радость.
– Привет, Боров! Только что звонил с базы Дяков, там волнуются, никто не знает, куда ты подевался. Ну, садись, я уже все знаю!
– Вот как? Кто же вам рассказал?
Я положил узел на стол, и, пока я стаскивал с себя теплый плащ, Генчев нетерпеливо разворачивал шкуры.
– Это неважно – знаю, и все. Я звонил тебе недавно, но тебя уже не было… Это тот самый карабин, да?
Он вертит его в руках и внимательно разглядывает.
– Надо же – трех муфлонов нам стоило это старое железо…
«И жизни моего отца», – произношу я про себя и сажусь за длинный, покрытый зеленым сукном стол.
– Будешь пить кофе?
– Можно… Но прежде у меня к вам просьба… Я бы хотел, чтобы этот карабин на одну ночь остался у меня. Только не спрашивайте зачем.
Шеф внимательно смотрит на меня, заказывает по селектору два крепких кофе, потом внезапно наклоняется и хлопает меня по плечу:
– Ладно, потом поговорим об этом. А теперь рассказывай!
И я рассказываю ему все, начиная с Марины и тайника в Чистило, потом про Митьо и выстрел в меня, – что скрывать, ведь все уже завершилось. Под конец описываю задержание Лалю и вынимаю из кармана несколько исписанных листков бумаги. Два из них откладываю в сторону – для них время еще не пришло. Остальные отдаю Генчеву, он читает, и лицо у него делается встревоженным. Приносят кофе. Молчим. Потом он спрашивает, нет ли еще чего.
Закуриваю, выдерживаю паузу и…
– Нет, не все, есть более неприятные вещи… Лалю Тотев убивал муфлонов и за сто левов продавал головы и рога Митьо, а тот в пять раз дороже продавал их…
– Кому? Кому продавал?
– Он сам вам скажет – должен будет сказать. Кстати, несколько дней назад я случайно наткнулся на одного из его клиентов. Помните, я в субботу вечером был в дачной зоне?
– Конечно, помню… – Лицо у Генчева посерело.
– Помните, надеюсь, и то, в чью дачу влезли собаки?
– Да, помню… – Несчастный шеф, чтобы скрыть смущение, опустил голову над чашкой и стал медленно глотать горячий кофе.
– Так вот – на этой даче я видел рога муфлона, который был застрелен весной. Очень красиво они выглядят на стене!
– Знаю…
– Что вы знаете?
– Знаю, что ты видел там рога муфлона…
От неожиданности я чуть не захлебнулся кофе. Смотрю на шефа во все глаза.
– А… кто вам рассказал?
– Твоя бывшая жена.
Я онемел. Не верю, не могу поверить…
– Она пришла ко мне сегодня утром. – Генчев прячет от меня глаза. – Сама пришла…
– Зачем? – Я едва узнаю свой собственный голос.
– Она просила… просила не разглашать, что ты видел рога на даче. Все-таки дача принадлежит… ну, ты знаешь, кому она принадлежит! Надя сказала, что она уже уладила с тобой эту проблему…
Мне показалось, что чья-то рука в перчатке крепко ударила меня по подбородку – потолок кабинета взметнулся вверх, а лицо Генчева поехало куда-то далеко назад и стало совсем маленьким.
– Она… сама… пришла или ее послали? – Я едва собрал силы, чтобы задать этот очень важный для меня вопрос.
– Об этом не было речи. Конечно же, сама…
Наше молчание длится целую вечность. Наконец я все-таки прихожу в себя – надо кончать затянувшуюся историю.
– Что же вы теперь собираетесь делать?
– А ты что бы посоветовал?
– Не знаю. Это ваше дело. Я доложил вам обо всем. А это… – и я кладу перед ним последний листок.
– Что это? А… Заявление об уходе?
Генчев вертит его в руках, потом кладет на стол. Он не кричит, не грозит порвать заявление и послать меня куда подальше. Наоборот, он осторожно гладит рукой мятый листок…
– Значит, вот как… Ты подаешь рапорт, где выдвигаешь против высокого начальства обвинение в браконьерстве, потом суешь мне заявление об уходе, потому что это не твое дело и тебя не интересует, что будет дальше! Ты – в кусты, а Генчев пусть ломает на этом свои старые зубы, так?!
– У меня нет другого выхода…
– Нет, говоришь? Забросал меня бумажками и бежишь как заяц? Ну, хорошо же! Беги! Но прежде я тоже покажу тебе кое-что!
Первое, что я вижу, – его собственный рапорт в министерство и окружной совет. Описано все подробно (наверно, от Нади узнал многое), и в конце поставлена его подпись. Ай да Генчев! А я-то думал, что он обыкновенная чиновная крыса, которая зубами и ногтями держится за свои привилегии…
Вторая бумага – официальное письмо на бланке, в котором требуют, чтобы мы высказали свое мнение по поводу отчуждения пятидесяти декаров от территории заповедника для постройки дач. Пятьдесят новых дач по одному декару земли… Указано даже, где будет строительство: они хотят захватить угол между концом водохранилища и Лисьими норами, на склоне горы. Самая прекрасная земля – я так и знал… Там еще сохранились старые запущенные сады, небольшие поля и луга с травами, где мы собираем корм для дичи. Теперь у нас хотят это отнять, и самое страшное – в конце письма стоит подпись того самого всезнающего, всемогущего владельца «Очарования». Он, видно, решил всю свою власть употребить и узаконить появление пятидесяти лисьих нор в сердце заповедника…
– Ну? Что скажешь? Согласимся?
Я смотрю на Генчева и начинаю истерически хохотать, а у самого на глазах наворачиваются слезы. Боже мой, какими же ничтожествами кажутся мне сейчас разные Лалю Кожухи и Митьо по сравнению с этими браконьерами высшего эшелона, сидящими на своих дачах с венецианской мозаикой, песком, навезенным из другой страны, и рогами убитых муфлонов! Вот они встают из дачной зоны над водохранилищем, протягивают свои длинные алчные ручищи, отрывают один за другим лучшие уголки заповедника и копаются в моем сердце, чтобы и его разорвать на куски…
– Ну, говори же, наконец, чему смеешься?
Я смотрю на Генчева и будто вижу его в первый раз, вскакиваю и сильно бью его по плечу – наверно, у меня и вправду вид ненормального, потому что он с осторожностью отступает слегка назад.
– Конечно же – нет! Не соглашаться ни в коем случае!
– Но ты, надеюсь, понимаешь, что это письмо – пустая формальность. Этот тип атакует с помощью гораздо более высоких инстанций…
– Да, знаю, знаю, что он дьявол! Но что с того? Мы встречались с дьяволами и пострашнее на Пределе, верно, шеф?!
Хватаю плащ и бегу к двери.
– Да погоди ты, черт тебя возьми! Кто напишет про наше несогласие? Ты ведь знаешь, что я не очень-то силен по письменной части…
– Я напишу, не беспокойся! Так напишу, что ему зубки-то обломают!
Уже у двери слышу:
– А карабин почему не взял? Он же нужен был тебе…
– Не нужен он мне больше, оставьте его себе, дорогой мой шеф…
Надо пересечь шумную магистраль, проделать сложный слалом по улицам, переполненным людьми и машинами, чтобы попасть на другой конец города, к дому Васила – я был у них раза два и помню, где это. Открываю калитку во двор, спрашиваю какую-то старуху, где можно видеть Марину, и не получаю никакого ответа, будто я столб или стена. В глубине двора мотается еще одна бабка, и тут из двери дома быстро выходит Марина с чемоданом, смотрит на меня как на привидение, я хватаю из ее рук чемодан и бросаю, что мне надо поговорить с ней, она лихорадочно оглядывается по сторонам и быстро шепчет: «Не здесь…» Мы идем к калитке, а сзади обе бабки провожают нас ругательствами и заклинаниями…
И вот мы у моей машины, я спрашиваю, почему она уходит.
– Это его дом.
– Хочешь, я отвезу тебя куда-нибудь?
– Да, на вокзал.
Я сажусь за руль, открываю дверцы «москвича», и Марина, чуть помедлив, опускается рядом.
– Ты уезжаешь?
– Да, я ведь не софиянка…
Вокзал недалеко, но мне так хочется побыть с ней, и я выбираю самый длинный путь.
– Сколько осталось до твоего поезда?
– Он уходит завтра утром…
– Но тогда… – я напускаю на себя равнодушный вид, а в горле застревает какой-то комок, – почему бы тебе не провести этот вечер у меня?
Краем глаза вижу: Марина улыбается.
– Только этот вечер? – спрашивает она игриво. Значит, все в порядке – Марина снова Марина.
– Можно и всю жизнь.
– Добрый ты, Боян… Добрый и чуть глупый… – Она кладет мне руку на плечо, нагибается и целует меня куда-то около уха. – Ты такой добрый, что даже страшно, и тебе нужно беречься! Ладно, вези меня к себе…
Поворачиваю и еду домой. Я давно не был здесь. Ввожу «москвич» в свой маленький дворик, открываю дверь холодной квартиры и приглашаю:
– Входи, располагайся. Здесь есть электрическая печка, можешь включить, а я сбегаю в магазин.
Через час я возвращаюсь – и не узнаю своего дома: вымытые изнутри окна зеркально сияют, в прихожей и в коридоре пахнет мылом и порошками, комната блестит, как после ремонта, а в кухне над столом колдует хрупкая стройная женщина с грустным, будто обиженным лицом. Как же много ей пришлось пережить, бедняжке… При виде ее лица у меня от жалости перехватывает горло, и я готов сделать невозможное, чтобы снять с нее эту пелену страха и боли. Марина смотрит на меня и с блестящими от слез глазами крепко обнимает за шею. Я целую ее горячие губы, она что-то говорит – быстро, бессвязно, мы стоим обнявшись целую вечность, и разорвать эти объятия нет сил ни у меня, ни у нее… Потом она все же размыкает руки, умело выкладывает из сумок пакеты, бутылки, через несколько минут на столе роскошный ужин, и рядом Марина – такая, какой я знаю ее и помню в самые лучшие дни на базе. Мы что-то едим, пьем, и она говорит не переставая, рассказывая мне всю свою одиссею, в чем-то оправдывается, за что-то просит прощения, я слушаю плохо, целую ее руки, и мы снова стоим обнявшись посреди кухни, и день переходит в вечер, а вечер падает в ночь.
За окнами уже темно, в домах напротив зажглись огни, я включаю старый приемник и удивляюсь, что он работает после столь долгого молчания. Мы слушаем дивную музыку, Марина нежно прижимается ко мне.
– О чем ты думаешь?
– Не знаю… Мне очень хорошо…
Я целую ее глаза.
– Ты устал? – Она осторожно трогает ладонью мой лоб. – По-моему, у тебя все еще температура…
Я целую ее снова…
…Резкий телефонный звонок будит меня, я вскакиваю и оглядываюсь вокруг. Марины нет, ушла. Но ничего, теперь я знаю, где ее искать. Сейчас семь часов, значит, она уже в поезде. Телефон звонит беспрерывно. Поднимаю трубку и узнаю голос Нади. Он раздается будто издалека, она о чем-то спрашивает меня, я слышу свое имя – но не отвечаю, молча кладу трубку. Все. Подхожу к окну, настежь открываю его, и меня охватывает бодрящий морозец. Я смотрю вниз на белую глухую пелену и глазам своим не верю: сегодня утром здесь пробегала и оставила глубокие следы по пути к далеким силуэтам Старцев и Предела большая черная пантера…








