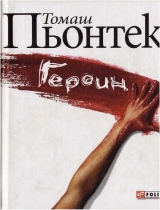
Текст книги "Героин"
Автор книги: Томаш Пьонтек
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Помню, что утром следующего дня меня будит что-то в животе. Будто бы я должен родить нечто мертвое. Словно это мой ребенок, который не может жить. Но это только такая мысль, не сильно мешающая, так как во мне еще сохранилось тепло со вчерашнего дня. Я чищу зубы. Не ощущаю вкуса пасты. Но чувствую, что она очень приятно действует внутри меня. Я звоню к Ками. Ками стоит под дверью – он энергичный загорелый шатен, но побоится сюда войти. Я хочу лишь, чтобы он привел Пинг-Понга. Так они его зовут. В первый же день после того случая я велел им называть его Гением. Но они подумали, что я шучу.
Вообще-то Гений появился после того, как пацаны рассказали мне о вьетнамском баре «Тигр». Там работал какой-то узкоглазый говнюк, который готовил заебательские вещи. Пацаны рассказывали, что это наилучшее, что они в жизни ели. Они, конечно же, в жизни ели не так много разных вещей. Они не смогли бы вести программу «Готовь с нами». Но я, в конце концов, позволил им себя убедить. Но, правда, оказалось, что вьетнамец к тому же знает и китайскую кухню. Они привезли мне самое лучшее ю-чжоу, которое я когда-либо ел, только вот называлось это блюдо «цыпленок пикантный» – гнусно и по-базарному. Я приказал детям, чтобы они поувивались вокруг узкоглазого. Это было нетрудно, потому что все вьетнамцы курят. Он начал готовить для пацанов на шару, чтобы получать героин. А пацаны должны были научить его польскому языку, и это им в какой-то мере удалось. Вьетнамцы учатся быстро. А мне нужно было с ним объясниться. Я не хотел разговаривать с ним через переводчика. Я не хотел, чтобы какой-нибудь вьетнамец знал об этом разговоре. Я знал почти наверняка, что парень побоится прийти. Но он согласился при условии, что ему никогда не придется готовить на вынос. Он боялся, что если какой-нибудь вьетнамец съест приготовленную им жратву, то сразу же узнает, кто ее приготовил. И таким образом его нынешний работодатель и кредитор – у вьетнамцев почему-то принято, что работодатель всегда является и кредитором, – некий господин Транх узнает, куда пропал его повар. Тихий пансионат, спрятанный глубоко в лесах за Варшавой, как нельзя лучше подходил моему маленькому вьетнамцу, поскольку он боялся, что господин Транх будет его всюду искать. Парень все еще пахнул имбирем, но мне это даже нравится.
Когда произошла эта история, мне очень нужно было что-либо мягкое. Я велел ему приехать на всю ночь. Ему даже не надо было курить. Когда мы познакомились, у него уже было удалено то, отчего люди становятся твердыми. Он думал, что его ждет порция экстремальных нежностей. Но я не смог выдержать и до того, как он приехал, сам употребил немного мягкого вещества, и позднее лишь ласкал его, а немного погодя – себя. Но самое лучшее, что было этой ночью, – это то, что она, честно говоря, так до сих пор и не закончилась. Я до сих пор не выходил из комнаты.
Я делаю себе новый макияж специально перед приходом парня, Я – Императрица. Косые фиолетово-золотые тени. Губы – тоже вишнево-фиолетовые, И темно-синий парик. Я сегодня – Императрица, но такая сладкая и ослабевшая. Словно вот-вот уснет. Словно вот-вот уснет и уже никогда не вернется. Хотя тут так же, как и везде, – кайфово. Я ищу фольгу, но как раз в дверь звонит Ками. Он пришел с вьетнамцем. Ками запрещено входить и даже смотреть внутрь комнаты, на меня. Я спокойно открываю дверь и одновременно поджигаю фольгу. Мне очень сладостно разговаривать с вьетнамцем. Он понимает через слово, но догадывается, что я говорю одни лишь комплименты. Его немного пугает макияж, но, увидев его, он начинает понимать, что сегодня не будет экстремальных нежностей. Мне бы хотелось, чтобы он перестал бояться. Он не должен бояться, потому что Императрица хочет подарить ему все теплые моря – в одно мгновение. Я достаю серебряную коробочку с моим желтым порошком.
Мы выкуриваем с ним вторую, еще более крепкую хапку. Моя голова похожа на душ: из нее выливается что-то очень теплое на все тело, вниз. Я укладываю уже совершенно мягкого вьетнамца в кровать и раздеваю его, подготавливая к ласкам, А потом беру его за руку – и все просто чудесно. А немного погодя опускаю руку и мне очень приятно. Очень горячо и недвижимо. Вдруг звонит телефон.
Сначала звонит юрист, мой юрист – раз в неделю звонит действительно мой юрист. Сразу же после него – депутат, мой депутат. Интересно, знают ли они, что разговаривают с большим аквариумом, наполненным медом, который подвешен где-то высоко и колышется, как колокол. Наверное, знают, поскольку хотят встретиться.
Я не знаю, что им нужно, но, честно говоря, знаю, потому что им всегда нужно одно и то же. Чтобы я вытянул их из всего этого – из этих фирм, должностей, бизнеса, семей, детей, жен, домов. Из этой беготни по кругу за своим собственным, еще до конца не высранным, говном. Чтобы я раздел их донага и окунул в нечто похожее на море в Израиле. Вроде бы Мертвое, но теплое. Но Императрица уже начала строить для них домик. Они смогут спрятаться в нем. И преподносить себе самый сладкий в мире расслабон настолько долго, насколько они выдержат.
Медленно начинает темнеть, но все еще хорошо виден газон. Он выглядит как зеленая скатерть в пятнах. Повсюду разбросаны большие коричневые куски в бордовых лужах. У меня тоже где-то есть бордовая помада, и когда я вечером уединюсь – один или с вьетнамцем, – то сделаю себе настоящий макияж. А может, и на все тело – мое или его тело.
Деревянная дверь, похожая на ворота в конюшне, открыта. Кто-то стоит в дверях с подносом, но засыпает на ходу и покачивается. Я целую его в голову и шею. Он постанывает, но не просыпается. Раньше тут был агротуристический пансионат, ранчо, школа верховой езды и конюшни. Я купил его со всем этим добром. На открытие мне пришло в голову приготовить татарский гриль, как в фильме о Чингисхане. Его когда-то показывали по телевизору – в те времена, когда еще показывали монгольские фильмы. Вьетнамец должен был вылить из бассейна всю воду, чтобы залить туда на метровую высоту специального соуса для гриля. Я нашел его потом в этом соусе, но его голова находилась над поверхностью. Я хотел его вытянуть, чтобы уксус и перец не обожгли его игрушечки, которые находятся в штанах. Но я засыпаю, а просыпаюсь, когда начинает темнеть, и там его наверняка нет. Я курю еще несколько раз по маленькой хапке.
У каждого моего ребенка есть своя квартирка. Квартирки маленькие, но очень мягкие. Но им и не нужны большие квартирки. Ни одно окно не подает признаков жизни. И очень хорошо. Не нужно, чтобы они двигались, ходили, ведь они в гостях у своей самой лучшей мамы. И думать им слишком много не нужно, они даже и не должны думать, чтобы шоколад не помутнел. У одного из них есть даже своя собственная фирма – маленькая, но неплохая: он придумал какой-то набор для приемов – пластиковая тарелочка с ручкой для стаканчика, чтобы можно было кушать стоя и ставить стаканчик на ту же тарелочку, с которой ешь, чтобы он не мешал. Он это придумал, а сейчас все у него это покупают, потому что никто раньше до этого не додумался. Он, наверное, сейчас о чем-нибудь думает, потому что большинство его мыслей, скорее всего, приятные. Но зачем? Так называемого успеха добиваются не для того, чтобы о нем думать, а для того лишь, чтобы уже ни о чем не надо было думать.
Из дома выходит Ками. Я приказываю ему забрать кумыс. Он делает это как-то очень четко. Так как при всем этом он вообще-то заторможенный. Сегодня он попросил у меня разрешения пыхнуть. Боялся, бедняга. Не нужно меня бояться. Я лучше всех знаю, что всем нужно немного счастья. Он наверняка хотел заныкать кумыс и выпить его завтра, чтобы его прочистило. Может, приказать ему выпить его прямо сейчас? И он, конечно же, выблевал. Маленькое наказание.
Я опять просыпаюсь. Уже почти совсем стемнело. Тихонько стрекочут галки, но как-то несмело. Должно быть, наши кони их возбуждают, но они для них все еще слишком горячие или слишком острые. Один из них, наверное, пошевелился. Нет, это кто-то заснул возле коня. Возможно, его привлекло тепло жаркого. Но зачем ему еще какое-то тепло? Он сам должен быть теплым как никогда. Когда я засну, а потом проснусь, то вытяну его из лужи и еще больше накурю. Хотя он никогда не достигнет такой степени обдолбанности, как я.
На следующий день я просыпаюсь утром со сладкими остатками обкура, но почти трезвая. Я выглядываю из окна. Муравьи сделали нечто наподобие муравейника на одной из наших кляч. Но это какой-то спокойный муравейник.
Я открываю двери комнаты. Я ожидаю бормотания заткнутого кляпом человека, но сначала входят парни и застывают в абсолютной тишине, увидев мой макияж.
– Смерть, – представляюсь я. Только теперь они успокаиваются и возвращаются к своему занятию. То есть тащат кресло, на котором сидит привязанный Лукаш. Его рот заткнут кляпом, а руки в районе большого пальца забинтованы.
– Раз в неделю – это слишком мало, – успокаиваю я. – Я знаю. Даже раз в день может быть слишком мало, если ты хочешь почувствовать себя так, как я.
Я вижу несколько розовых разводов, которые замечаю все чаще и не могу попасть иглой в его жилу, хоть она у него и набрякла. Лукаш тихо плачет. Жаль, что не от волнения. Я приказываю Ками закончить укол. Ками умеет делать уколы – когда-то он их делал себе.
Через некоторое время Лукаш, конечно же, переживает то же, что и я. Потом его глаза расширяются и становятся косыми, а через кляп просачиваются коричневые струйки. Это блевотина, он задыхается ею. Я приказываю всем ребятам со мной пыхнуть, потому что от этого им станет лучше. Я подаю им фольгу, комната наполняется дымом и устанавливается атмосфера, как на обеде у старой, мудрой и очень любимой родственницы.
В час приезжает депутат. Он нигде не может найти своего ребенка, который убежал из реабилитационного центра три месяца назад.
Только сейчас, когда у него серое, обездвиженное лицо, видно, как он сильно похож на сына. Ему наверняка мешает мой макияж. Может, он думает, что это как-то связано с делами клуба.
Нужно основать закрытый клуб, но только для нескольких десятков человек. Недавно я купил подвал в центре – как раз что надо. Необходимо установить одно правило: в клубе в течение 24 часов в сутки должен находиться по крайней мере один обдолбанный. В этом месте всегда будет героин. И если кому-либо захочется купить геры и обкуриться, то он всегда сможет туда прийти. У него там будет, типа, самый лучший домик. Для тех, кто не сможет выехать из города в мой сельский домик. Я знаю тут одного, который мог бы таким клубом управлять и даже украсить его золотыми проволочками, хотя этот один, возможно, скоро умрет. Депутат боится этих клубных игр. Он боится провала, налета полиции, компрометации и всего, чего только может бояться такой депутат. А я ему помогу. Я дам ему нечто намного лучшее, чем сын. Я принесу ему облегчение.
Я вытягиваю фольгу и жду. После нескольких секунд депутат указывает на фольгу. Он сделал свой выбор, чтобы почувствовать себя лучше. Он делает три глубокие хапки и становится мягким, почти плюшевым – и я его могу щупать, переворачивать и поднимать.
Но мне приходит в голову мысль, что, может, будет еще лучше, если я ему покажу его сына. Он увидит, что его совершенно не мучит большое горе. И только тогда он поймет, как он охуенно счастлив.
Он умоляюще смотрит на меня и на фольгу.
– Спокойно. Принцесса Гера сейчас придет к тебе, – говорю я. А до него медленно начинает доходить, что не макияж является ненастоящим, а то, что находится под ним.
Я очень медленно раскачиваю его на кровати, а он блюет чем-то светлым.
Когда депутат погружается в свой самый лучший сон, я звоню так называемому Ломаному. Его так называют, потому что у него сломанный нос. Он живет в однокомнатной квартире, завешанной кусками золотых проволочек. Золотые проволочки – это его наваждение, и он когда-то накупил их целую кучу. А сейчас он их продает, чтобы купить себе дряни.
– Алло? – говорит Ломаный своим грубым, но слегка мяукающим голосом, как у ребенка-великана.
– Алло, это я, – отвечаю я и знаю, что по его телу бегают мурашки. – Ты должен ко мне сейчас прийти.
– Ну, знаешь, ну я приду, но я не знаю, насколько это будет быстро, ты же знаешь…
– Что я знаю?
– Ну, я несколько раз по дороге к тебе засну, когда выйду в город. Ну, знаешь, ну, всюду в городе должны быть такие маленькие капсулы размером с человека, не больше, обитые изнутри какой-нибудь тканью. Чтобы человек, который идет по городу и вдруг чувствует, что он не в себе, ну, чтобы он мог там спрятаться и чтобы там ничего другого не было.
– Я приготовлю для тебя такое место, что когда ты придешь, то тебе уже не нужно будет вообще выходить.
Я слышу, как где-то там, по другую сторону телефонной трубки, переливается какая-то тяжелая масса. Он наверняка поднимается, он наверняка придет. И, конечно же, наверняка уже никогда отсюда не выйдет.
Я зову Ками в мою маленькую закрытую комнатку. Ками сегодня трезвый и твердый. Он вообще очень часто должен быть твердым, потому что он следит за тем, чтобы все было в порядке и так далее. Каждый раз, когда он курит, то очень сильно это переживает, потому что для него курение является чем-то, что ломает твердого парня. Я даже придумываю для него специальное упражнение, чтобы он на трезвяк почувствовал такую же мягкую привязанность, какую Чувствует под действием героина.
Вчера он курил, поэтому у него наверняка страшный запор. В центре комнаты я кладу большое зеркало в золотой раме. Ками входит в комнату, а я приказываю ему раздеться и присесть на корточки перед кроватью.
Потом мне становится так хорошо, что я на минутку засыпаю. А когда опять вижу Ками, оказывается, что он вообще не раздет. Он стоит над зеркалом и, не отрываясь, смотрит на меня. Меня посещает видение: Ками сидит на корточках, тужится и пытается посрать по моему приказанию, а я сижу и наблюдаю за его задним проходом в зеркале, не выходит ли оттуда какая-нибудь засохшая коричневая какашка. Я объясняю ему, что это такое маленькое наказание за тот ебучий кумыс и за то, что он тогда так у курился, что уснул возле запеченного коня. Но он все еще не шевелится.
Может, у него какое-то другое видение. Например такое: я, связанная по рукам и ногам, лежу, опершись щекой о коня, и сдуваю муравьев, которые копошатся у моей головы, а он прикладывает мне пистолет к виску и спрашивает, где героин.
Я опять просыпаюсь после нескольких секунд сна, но ничего не изменилось, потому что Ками все еще стоит возле меня. Я удобненько устраиваюсь в кресле, словно меня тут вовсе и нет. Потом говорю Ками, что это была шутка, а так как он продолжает на меня смотреть, я протягиваю ему фольгу. Мы делаем по три хапки и ему уже ничто не мешает, даже то, что я обвиваюсь вокруг него. Если бы я приказала ему тужиться над зеркалом, может, он бы и потужился, хотя сейчас он бы уж точно не посрал. Но он и не должен срать. Сейчас ему уже хорошо, почти так же, как и мне.
Ведь если обо мне речь, я всегда счастлив настоящим, наибольшим счастьем, таким большим, что ему дальше некуда увеличиваться. Но, собственно, именно поэтому я не могу сдержаться и каждому, действительно каждому, хочу это дать. Тем более что кто-то очень сильно это способен пережить. Как мой маленький, твердый Ками. Но существует же кто-нибудь еще более твердый, более испытанный. Такой если и сломается, то с кайфом.
Потом приходит Ломаный, то есть ребята докладывают мне, что нашли его, счастливого, на тротуаре под воротами. Я не могу удержаться, чтобы не выйти и не посмотреть на него. Его лицо со сломанным носом и ирокезом – это клевое зрелище, но не о том речь. Я хочу посмотреть на человека, которому хотелось полностью слиться с Императрицей Герой.
Когда я выхожу к нему, ему настолько хорошо, что даже разговаривать с ним тяжело. Впрочем, мне и не нужно с ним разговаривать, потому что мне так же хорошо, как и ему – даже еще лучше. Потому что мой организм сильнее и так легко не засыпает. Его большие глаза вытаращены на меня, он наверняка чувствует, что я целиком наполнен тем же, что и он. Возможно, он даже чувствует, что в моем случае нет ничего больше. Я приказываю парням отвезти его в наш подвал в центре и рассказать ему, что ему следует сделать, когда он будет менее счастливым.
Я возвращаюсь в комнату и включаю радио, то есть мою любимую с некоторых пор радиостанцию.
– Но это необходимо легализовать, – какой-то говнюк лает, как маленькие черные собачонки, по-моему, крысоловки.
– Да, правда, – говорит своим грубым голосом Мат, – это необходимо легализовать, потому что человек свободен и имеет право делать с собой все, что ему вздумается. Но почему ты так, ну, сильно кипятишься? Запрет курения может обозлить людей. Но особенно сильно обозлит тех, которые попросту хотят курить. Или ты тоже куришь?
Молчание. А потом раздается сигнал «занято».
– Хм, – задумывается Мат. – Неужели так трудно ответить на этот вопрос?
Я быстренько набираю номер студийного телефона для слушателей. Я уже выучил его наизусть, хотя звоню в первый раз.
– У нас звонок. Алло?
– Алло, – отвечаю я.
– Ты кто?
– Никто подобный тебе еще не звонил.
– Ооо. А как зовут-то тебя?
– Я – гера.
– Ты – коричневый порошочек?
– Нет. Я – это то, что ты чувствуешь после коричневого порошочка.
– И все? Ну и убогая же у тебя житуха.
– Убогая? Почему же тогда стольким людям хочется чувствовать то же, что чувствую я? Они хотят чувствовать это и ничего больше. Каждому из них хочется быть мной.
– Это вопрос вкуса. А может, ты нам скажешь, коричневый порошочек, хочешь ли ты быть легальным или нет?
– Думаю, что я не буду легальной или нелегальной, потому что скоро на самом деле уже не найдется человека, который мог бы меня запретить. Буду одна лишь я. Потому что людям больше всего хочется быть счастливыми. И поэтому все, в конце концов, придут ко мне.
– Я думаю, что ты своими словами рассмешила наших слушателей.
– Пускай они смеются. Но тебе лучше всех известно, что так и есть на самом деле. Можешь говорить, что тебе вздумается. Ты можешь сказать, например, что я – убийца. Или что я нудная. Но сможешь ли ты отрицать, что я дала тебе наибольшее счастье в мире и никто другой ничего подобного тебе никогда не даст?
Молчание.
– Хм, – говорит, наконец, Мат. – Может быть. Но я не знаю, живет ли человек для того, чтобы быть счастливым. Не знаю, всегда ли счастье приносит людям добро. Я помню, что со мной происходило, когда я курил. Я был очень счастлив, но со мной происходили такие вещи, что сейчас я не могу о них спокойно думать. И я постоянно о них вспоминаю. А как вы считаете? Думаете ли вы, что счастье всегда приносит человеку добро? А может, кто-нибудь думает иначе? Наш телефон…
Меня отключают. Потом, когда Мат заканчивает программу, я звоню ему на редакционный номер.
– Алло? Это я, гера, – говорю я весело.
– А, блядь, это ты? Как тебя зовут? Охуенный разговор получился. Ты был просто необыкновенным.
– Не настолько необыкновенным, как ты. Ты сдал экзамен.
– Какой еще, блядь, экзамен? – интересуется Мат.
– Ты не подставил жопу героину.
– Слушай, скажи мне, как тебя зовут и чем ты занимаешься.
– У меня свой центр для зависимых. Главным образом для алкоголиков, но и для героинистов тоже. Может, тебе будет интересно, потому что мы делаем то, чего еще никто в этой стране не делает. У нас, типа, агротуристический центр, который находится на юге от Варшавы. Сауна, хорошая кухня. Это, конечно, не по карману бедным алкоголикам. И это не обычный реабилитационный центр. Мы их не отучаем от пьянства.
– Нет. Вы подаете им «Май Тай», «Голубую лагуну» и «Желтого боксера».
– Можно и так сказать. Мы их учим, как обращаться с алкоголем. Как пить мало. Как пить для удовольствия, но так, чтобы не упиваться. Мы делаем то, чего не удается сделать с алкоголиком.
– Хм, – пробурчал Мат, – может, может… Знаешь, у меня иногда возникают проблемы с алкоголем, может, этот курс помог бы мне… Погоди, ты сказал мне, что у вас и героинисты имеются. Вы что, учите их, как мало курить?
– Скажем, как курить соответствующим образом. Тебя это интересует?
– Нет.
Щелк. Мат бросил трубку. Он, наверное, не хочет, чтобы ему было хорошо. Возможно, он – единственный человек, который этого заслуживает.
Чувак, который познал счастье, но может его отвергнуть, – это чувак, который будет настолько сильным, чтобы выдержать счастье. Он должен стать счастливым – и как можно быстрее.
Отец Мата выглядит как помесь викинга с хомячком. У него длинные белые волосы, белая борода, широкое лицо с большими щеками и мощная челюсть. Все вместе напоминает так называемого Бога-Отца.
Я пришла к нему без макияжа. Он не знает, что я – некто очень счастливый. И очень богатый. Отец Мата – научный работник, преподаватель. Первый раз я договорилась о встрече у него в кабинете в универе. Я сразу же сказала ему, что в свое время не закончила учебу и никогда не занималась историей, но меня очень интересуют современные исторические исследования с более смелой трактовкой. У меня есть деньги, и я могу финансировать исследования, а также издание книги на определенную тему.
Ему захотелось узнать, на какую тему.
Я ответила, что тема очень сложная и лучше обсудить ее в комфортных условиях. Я пригласила его к себе домой. При случае он сможет увидеть фирму, экспортирующую пластиковые наборы для приемов, которую я недавно приняла во владение. Чтобы он увидел, откуда я беру деньги на спонсирование науки. И при случае он может зайти ко мне домой и познакомиться с мастерством моих поваров.
Увидев его щеки и губы, я сразу же поняла, что он не отвергнет мое предложение.
Три дня спустя мы сидели в салоне для гостей и пили горячее сакэ. Мне не очень-то и хотелось выдумывать темы для этих исследований, поэтому, когда он пришел, я объяснила свою позицию очень просто. Речь шла о чем-то вроде книги типа «Краткая история могил» или «Мировая история цветов». Единственное условие; эти книги должны быть об удовольствиях. О том, что люди постоянно открывали для себя большие и сильнейшие удовольствия и наверняка они постепенно приближаются к тому, чтобы открыть самое большое удовольствие. Такое удовольствие, что уже не останется даже малейшего места для чего-то неприятного. Я могла бы профинансировать исследования в Европе, если существует потребность в посещении каких-нибудь университетов или библиотек.
– Это интересная тема, – отец Мата улыбнулся своей белой бородой. – Вы позволите спросить, почему она вас так заинтересовала?
У меня были разные причины для этого. В том числе и личные. Но он мог быть спокоен; я не хотела финансировать эти исследования только для того, чтобы найти это самое сильное удовольствие. Мне не нужно его искать. В моей жизни вообще нет ничего неприятного. Мне бы скорее было интересно найти человека, который смог бы жить в состоянии неустанного, большого удовольствия и при этом бы не сломался. Поэтому меня интересует данная тема: как люди переносят удовольствия и почему переносят их так плохо.
Он начал говорить о таких вещах, как антропология, культура, история, идея и исследовательские фонды, Я предложил довольно серьезную сумму, поэтому он притих на некоторое время, а потом повара подали нам блюда. Сегодня они прислуживали нам за столом, потому что выглядели соответствующим образом – они были желтыми.
Кушанья начали действовать уже в самом начале – настолько они были ароматными и разноцветными. Отец Мата много чего пробовал, но чего-то такого – еще нет. Сначала он пытался еще как-то себя контролировать, что-то говорить между одной порцией и следующей, но когда он увидел мое расположение, то позволил себе большое обжорство.
– О, Роберт, это настолько вкусно, – пробормотал он спустя час, в течение которого повара только приносили кушанья и относили тарелки, – Мне так приятно стало. Знаете, удивительно, что после такого обжорства я так хорошо себя чувствую. Мне стало так тепло, даже голова – теплая.
– Собственно, это то, что чувствует ребенок, когда в первый раз пьет материнское молоко. Именно так действует хорошая, настоящая пища. Единственная пища, которую человек должен впускать в свой организм. Она сделана при помощи специального тепла. Это темное тепло, такое же, как в организме матери, только намного более сильное. Оно согревает не только тело. Оно может войти в человека через рот, а также вместе с едой.
Он улыбнулся и сблевал.
– Извините, извините… Это необыкновенно… – прохрипел он от счастья. – Это, наверное, с непривычки… А где можно достать такую еду?
– Вы хотите почувствовать это еще сильней?
Потом стало черно, тепло и очень клейко, хоть я и не курила. Помню, что я говорила о многом, потом мы спали, а потом опять не спали, а только лежали на кроватях. Я говорила почти постоянно, Я рассказывала ему о том, как люблю Мата и как хорошо я ему сделаю. И как я люблю его, потому что он отец Мата и потому что я вообще всех люблю, А под утро мне захотелось, чтобы он что-нибудь рассказал о Мате, хоть мне уже немного и стало стыдно. Поскольку я уже знала, что не нужно было этого говорить – тем более, что он тоже протрезвел. Я думала, что когда я немного протрезвею, то смогу себя как-то контролировать. Но чем больше я трезвела, тем больше мне хотелось Мата, и я почему-то стеснялась того, как я себя веду на трезвяк. Каждый раз, когда я открывала рот, чтобы сказать что-нибудь другое, меня почему-то постоянно колбасило, и я опять начинала говорить о Мате, а потом мне приходилось снова аккуратно устраиваться в постели, будто бы меня тут и не было.
Наконец я опять закурила и стала любить еще больше. Так сильно, что мне перестало хотеться об этом говорить. Мне уже не хотелось целиком завладеть Матом, чтобы выпросить отца привести его сюда. Может, мне бы хватило просто увидеть его, разговаривать с ним, вести себя с ним нормально, как все близкие ему люди. И как только я об этом подумала, сразу же стало по-настоящему темно и тепло.
Это одно из наиболее необычных явлений, когда что-нибудь старое, использованное и окостеневшее внезапно молодеет на твоих глазах и становится мягким. И хотя вроде бы ничего и не происходит, просто очень и очень спокойно, я бы не удивилась, если бы оказалось, что в нескольких засохших пауках со скрюченными ножками, которые неизвестно что делали в машине, есть что-то от цветов.
У меня есть шарик. Время от времени я мну его в ладони, а вчера я даже не заметила, что так долго его мяла, что он превратился в мягкий блинчик пластилиновой консистенции. Как хорошо, что я живу сама. Как хорошо, что я уже не живу дома. Никто не волнуется, что меня нет дома. Люди звонят на мобилку. Никто меня не найдет, потому что я постоянно нахожусь в разных местах. Я в какой-то степени чувствую себя как в четырнадцатилетнем возрасте, когда я убегала из дома, С той лишь разницей, что сейчас я очень спокойна.
Этот громадный покой помогает мне вести машину. Я целый день езжу по разным, главным образом пустым, окрестностям. Ночью я останавливаюсь в лесу, раскладываю заднее сиденье и засыпаю. Хорошо, что у меня «комби». Достаточно просто разложить сидения, бросить матрац и можно лежать с закрытыми глазами. Я взяла официальный отпуск по состоянию здоровья. Пока что никто незнакомый не спрашивал обо мне. Полиция тоже не спрашивала.
Я тоскую только по Мату, Конечно, это тоже совсем не болезненно. Для меня эта тоска – огромное умиление, зрелое и сладостное, когда я думаю о Мате, последний контакт с которым был неудачным.
Интересно, что наибольшее в жизни спокойствие охватило меня только после того, как я убила человека, Точнее, немного раньше, но с тех пор оно меня не отпускает. Потому что у меня был достаточно трезвый рассудок, чтобы понять, что большой пакет с бежевым порошком меня успокоит и необходимо его забрать. И чтобы сказать охранникам, что тот чувак уснул и не хочет, чтобы его до вечера будили. Хотя я наверняка страдала – во мне, должно быть, еще с вечера сохранились остатки спокойствия. Иначе я бы обосралась от страха. А сейчас я вообще не сру. Мне даже и кушать не нужно: я избавилась от всех жизненных функций. Мое тело настолько легкое, очень сладкое, но словно несуществующее. Вместо тела – одна сладость. Ведь я – это чистые эмоции, глубокие и пространные. Я даже могу не спать, потому что постоянно то ли сплю, то ли не сплю – нахожусь между явью и сном. Интересно, что после первого раза у меня была тошнота. Но сразу же после этого мне стало так горячо. Как тогда, когда я впервые увидела своего сыночка.
Подобное состояние должно быть доступно только определенному типу сладких созданий. Они могут естественным образом в нем раствориться. Злое создание отравит собой даже самое сладкое состояние, когда по воле какой-то ошибки это состояние его охватывает. Мерзко, когда такой ублюдок пытается сожрать – да еще и причмокивая – то, что ты так сильно любишь. То, что только тебе одному принадлежит.
Я выкуриваю еще немного порошка. Наверное, много дыма зря пропадает, потому что организм еще не привык к поглощению большего количества. Но пусть себе пропадает, этот дым, – у меня еще все равно полкило осталось. Даже мой рассудок не способен постичь это богатство. То есть он-то его постигает, но не в состоянии его поделить на количество дней и часов. Уже долгое время длится тот же час.
Я подъезжаю к дому и выхожу – как будто бы и двигаюсь, но я – неподвижна. Баськи не должно быть в это время дома, она наверняка с тем своим сотрудником. Матик будет один. В подъезде на подоконнике я курю еще один раз, потом прохожу несколько интенсивных, густых метров, чтобы, наконец, позвонить в дверь.
– Матик! – кричу я.
– Иди отсюда, – отвечает ребенок из-за двери.
– Матик, открой. Что бы ни случилось, я остаюсь твоим отцом.
– Ты – не мой отец.
– Ну что же ты говоришь? – отвечаю я спокойно, даже с некоторой сладостью. – Ты у меня это не сможешь отобрать. Я тебя на руках носил. Я помню, как ты выплевывал сосочку, а потом плакал из-за того, что ее у тебя нет. А когда я тебе ее снова давал, ты был на седьмом небе. Ты знаешь, что чувствует отец по отношению к своему ребенку? Мне всего лишь хочется, чтобы тебе всегда было так же, как тогда.
– Знаю я тебя. Ты не мой отец.
– Матик! Матик!
Дверь медленно открывается. Я вхожу внутрь. У него так сильно напрягаются лицевые мускулы, что глаза становятся длинными, как у трупа. Он смотрит мне в глаза.
– Ну конечно, это правда, – соглашаюсь я. – Я – не твой отец. Я – твоя мама. Твоя настоящая мама.
– Ты обкуренный! Ты обкуренный, – говорит он, а потом странно – сухо и громко – кашляет.








