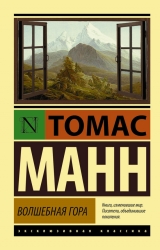
Текст книги "Волшебная гора. Часть I"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Ну конечно, женщина
Сколько это продолжалось, он не знал. В положенное время раздались звуки гонга – еще не призыв к обеду, а лишь напоминание о том, что пора готовиться к нему; Ганс Касторп это знал и остался лежать, пока металлический звон не прозвучал вторично, то нарастая, то удаляясь. Когда Иоахим зашел за ним, Ганс Касторп хотел было переодеться. Однако кузен удержал его, заявив, что уже некогда. Он ненавидел и презирал всякие опоздания. Как можно, говорил Иоахим, добиться чего-нибудь и выздороветь, чтобы служить в армии, если мы настолько безвольны, что не можем даже вовремя являться к столу? Тут он, конечно, был прав, и Гансу Касторпу оставалось только заявить, что хотя он не болен, но ему почему-то ужасно хочется спать. Он лишь поспешно вымыл руки, и они спустились в столовую – в третий раз.
Поток больных вливался через два входа, а также через распахнутые двери на веранду на том конце зала, и скоро все семь столов оказались занятыми, будто люди вовсе и не вставали после завтрака. Таково было по крайней мере впечатление, возникшее у Ганса Касторпа, – правда, довольно фантастическое и противное разуму, однако его затуманенный мозг все же не мог на миг ему не поддаться, и оно даже понравилось ему; ибо он несколько раз пытался во время обеда снова вызвать его в своей душе, и это удавалось, причем иллюзия действительности была полной. Веселая старушка опять что-то лопотала на своем непонятном языке сидевшему от нее наискось доктору Блюменколю, и тот слушал ее с озабоченной миной. Ее тощая внучатная племянница наконец ела какое-то другое кушанье – не простоквашу, а, как выяснилось, ячменное пюре, которое «столовые девы» подавали в глубоких тарелках; однако она проглотила лишь несколько ложек и больше к нему не прикоснулась. И опять красивая Маруся совала в рот пахнувший апельсинными духами носовой платочек, чтобы заглушить приступы неудержимого смеха. Мисс Робинсон читала те же написанные округлым почерком письма, которые уже читала сегодня утром. Она, видимо, не знала ни слова по-немецки и знать не хотела. Иоахим, который старался держаться по-рыцарски, сказал ей что-то по-английски насчет погоды, и она, с набитым ртом, односложно ему ответила, а затем снова погрузилась в молчание. Что касается фрау Штер, появившейся в своей неизменной шотландской блузе, то выяснилось, что сегодня в первую половину дня она была на врачебном осмотре; рассказывая об этом, она вульгарно жеманилась и то и дело улыбалась, вздергивая верхнюю губу и открывая заячьи зубы. В верхней части правого легкого, жаловалась она, у нее хрипы, кроме того, звук под левой лопаткой очень укорочен, и «старикан» сказал, что она должна пробыть здесь еще пять месяцев.
По своей невоспитанности она называла гофрата Беренса «стариканом». Она возмущалась тем, что «старикан» сидит не за их столом, хотя согласно очередному «турне» (она, видно, хотела сказать «туру») сегодня вечером должен был сидеть именно с ними, а он опять пристроился за столом слева (гофрат Беренс действительно сидел там, сложив перед тарелкой свои непомерные ручищи). И понятно – почему: там место «этой коровы», фрау Заломон из Амстердама, а она даже в будни является к столу декольтированная, и «старикану», должно быть, это очень нравится; но она, фрау Штер, удивляется, к чему это, ведь во время осмотра он может любоваться ее прелестями сколько угодно. Потом она принялась рассказывать взволнованным шепотом, что вчера вечером в общей галерее для лежанья, – знаете, той, на крыше, – погасили свет и, конечно, по причине, которую фрау Штер определила как весьма «прозрачную». «Старикан» это заметил и так разбушевался, что во всем доме было слышно. Но виновного, разумеется, опять не нашли, хотя вовсе не нужно учиться в университете, чтобы угадать, кто это: конечно, опять капитан Миклосич из Бухареста, ему в дамском обществе никогда не бывает достаточно темно, он человек совершенно невоспитанный, хотя и носит корсет, – это, по правде говоря, просто хищный зверь, – да, хищный зверь, повторила фрау Штер сдавленным голосом, причем на лбу и на верхней губе у нее выступили капли пота. В каких отношениях с ним состоит жена генерального консула Вурмбрандта из Вены – известно решительно всем и в деревне и в поселке, так что едва ли тут можно говорить о загадочности этих отношений. Мало того, что капитан иной раз прямо с утра заявляется в комнату консульши, когда она еще лежит в постели, и присутствует при всех подробностях ее туалета, – в прошлый вторник он изволил выйти из комнаты Вурмбрандтши только в четыре часа утра.
– Сиделка молодого Франца из девятнадцатого номера, у которого произошла какая-то неудача с пневмотораксом, сама лично на него наскочила, она со стыда попала не в ту дверь и очутилась в комнате прокурора Параванта из Дортмунда. – Потом фрау Штер еще долго распространялась относительно какого-то «космического заведения» внизу в местечке, где она покупает эликсир для зубов, а Иоахим слушал все это, уставившись в свою тарелку.
Обед тоже был приготовлен отлично, и все подавалось необычайно щедрыми порциями. Этот обед, включая питательный суп, состоял по меньшей мере из шести блюд. За рыбой последовало вкусное мясное блюдо с разнообразным гарниром, затем овощи, жареная птица, мучное, не уступавшее поданному вчера вечером, и наконец сыр и фрукты. Каждым блюдом обносили дважды – и не напрасно. Больные, сидевшие за всеми семью столами, накладывали себе полные тарелки и усердно все съедали, – здесь царил прямо-таки львиный аппетит, какой-то неистовый голод, и наблюдать за обедающими можно было бы даже с удовольствием, если бы в этом усердном насыщении не сквозило что-то жуткое и даже отталкивающее. Такое чувство вызывали не только самые бодрые пациенты – они оживленно болтали и бросались хлебным шариками, – но и тихие и угрюмые, которые в перерывах подпирали голову руками и сидели, глядя перед собой отсутствующим взглядом. Какой-то недоросток за столом слева, по виду еще школьник, с короткими руками и в круглых очках, мелко изрезал все, что навалил себе на тарелку, так что образовалась каша и мешанина из кусков; затем склонился над ней и начал жадно поедать ее, засовывая время от времени салфетку за стекла очков, чтобы протереть глаза, и неизвестно было, что он вытирает – пот или слезы.
Во время главной трапезы – обеда – два происшествия привлекли внимание Ганса Касторпа, поскольку это было возможно при его состоянии. Во-первых, кто-то снова грохнул застекленной дверью. В это время подавали рыбу. Ганс Касторп досадливо вздрогнул и с решимостью раздражения обещал себе на этот раз во что бы то ни стало подстеречь виновного. Он не только подумал, он заявил о своем намерении вслух, столь искрение было его возмущение. «Я должен выяснить, кто это!» – прошептал он с чрезмерной горячностью, так что и мисс Робинсон и учительница удивленно на него взглянули. Притом он повернулся всем корпусом влево и вдруг широко раскрыл глаза с покрасневшими белками.
Виновницей оказалась дама, вот она идет через зал, молодая женщина, скорее молодая девушка, в белом свитере и пестрой юбке, рыжевато-белокурые волосы просто заплетены в косы и уложены вокруг головы. Гансу Касторпу почти не удалось рассмотреть ее профиль. Неслышно, словно крадущейся походкой, что странно противоречило ее шумному появлению, и слегка вытянув вперед шею, направлялась она к крайнему столу слева, стоявшему перпендикулярно к двери на веранду: это был так называемый «хороший» русский стол; одну руку она держала в кармане вязаной кофточки, обтягивающей ее фигуру, а другую, поправляя волосы и как бы поддерживая их, поднесла к затылку. Ганс Касторп взглянул на эту руку. Он знал толк в человеческих руках, относился к ним требовательно и со вниманием и, знакомясь с новыми людьми, прежде всего смотрел на их руки. Эта рука, поддерживавшая волосы на затылке, была не очень-то дамской, не такая холеная и изысканная, как руки женщин из тех общественных кругов, в которых вращался Ганс Касторп; в этой руке, довольно широкой, с короткими пальцами, чувствовалось что-то наивное, детское, что-то напоминавшее руку школьницы; кое-как подстриженные ногти, видимо, не знали маникюра, они были тоже как у школьницы, а вокруг них кожа чуть шершавилась, и можно было заподозрить, что их владелица страдает невинным пороком – грызет заусенцы. Впрочем, Ганс Касторп мог об этом только догадываться – дама была от него все же слишком далеко. Опоздавшая кивнула своим соседям, села за стол, спиной к залу, рядом с доктором Кроковским, который занимал председательское место за этим столом, и, все еще придерживая волосы на затылке, повернула голову, через плечо окидывая взглядом публику; Ганс Касторп мельком заметил, что скулы у нее широкие, а глаза узкие… И когда он это увидел – смутное воспоминание о чем-то или о ком-то легко коснулось его словно мимоходом…
«Ну конечно, женщина!» – подумал Ганс Касторп и еще раз пробормотал это даже вслух, причем так выразительно, что учительница, фрейлейн Энгельгарт, поняла. Тощая старая дева улыбнулась с растроганным видом.
– Это мадам Шоша, – сказала учительница. – Она так небрежна… Прелестная женщина. – И лиловатый румянец на щеках фрейлейн Энгельгарт стал еще ярче, что случалось, впрочем, всякий раз, когда она говорила.
– Француженка? – строго спросил Ганс Касторп.
– Нет, русская, – ответила Энгельгарт. – Вероятно, муж – француз или французского происхождения, я точно не знаю.
Ганс Касторп, чье раздражение еще не улеглось, осведомился, не тот ли вон ее муж, указав на господина с опущенными плечами, сидевшего за «хорошим» русским столом.
– О нет, не он, – ответствовала учительница. – Он еще не бывал здесь, его никто не знает.
– Закрывала бы дверь, как полагается! – сказал Ганс Касторп. – Каждый раз хлопает. Это же невоспитанно!
И так как учительница приняла упрек смиренно улыбаясь, словно сама была виновата, о мадам Шоша больше не говорили.
Второе происшествие состояло в том, что доктор Блюменколь встал и вышел из столовой – только и всего. Выражение легкого отвращения на его лице проступило резче, и он, как обычно не сводя озабоченного взгляда с какой-то воображаемой точки, вдруг неслышно отодвинул свой стул и удалился. И тут фрау Штер показала свою невоспитанность во всей красе: вероятно, наслаждаясь постыдно радостным сознанием, что она не так серьезно больна, как Блюменколь, эта особа проводила его полусочувственным, полупрезрительным замечанием: «Бедняга! – И продолжала: – Скоро он… скоро ему крышка… Опять понадобился Синий Генрих!» Совершенно непринужденно, с глупо невинным видом произнесла она это нелепое прозвище – «Синий Генрих», и от ее слов Гансу Касторпу стало противно и смешно. Впрочем, доктор Блюменколь через несколько минут вернулся и с тем же скромным видом, с каким вышел, снова уселся за стол и продолжал есть. Он тоже ел очень много, накладывал каждое кушанье дважды, и все это – молча, с озабоченным, замкнутым лицом.
Обед кончился. Благодаря расторопности служащих – карлица оказалась особенно быстроногой – он продолжался лишь один час. Ганс Касторп кое-как взобрался к себе наверх и опять улегся, тяжело дыша, в своем удивительном шезлонге на балконе, ибо после обеда полагалось лежать до чая, – врачи считали это предписание особенно важным и требовали, чтобы больные ему неукоснительно подчинялись. И вот, между матовыми стеклянными перегородками балкона, отделявшими его, с одной стороны, от Иоахима, с другой – от русской супружеской пары, лежал он, погруженный в какое-то полусознательное состояние; его сердце колотилось, он дышал ртом. Когда Ганс Касторп высморкался, на платке оказалась кровь, но у него не хватило сил задуматься над этим обстоятельством, хотя он страдал некоторой мнительностью и был склонен к ипохондрии. Он снова взялся за «Марию Манчини» и на этот раз докурил ее до конца, но у нее был по-прежнему препротивный вкус. Голова его томительно кружилась, и он лениво раздумывал о том, как странно себя чувствует здесь наверху. Два-три раза его грудь сотрясалась от беззвучного смеха, когда он вспоминал о жутком прозвище плевательницы, которое фрау Штер, по своей бестактности, произнесла во всеуслышанье.
Господин Альбин
В саду перед домом легкий ветер развевал фантастический флаг с жезлом, обвитым змеей. Небо снова закрыла сплошная пелена туч. Солнце село, и сразу потянуло неуютным холодком. Общая галерея для лежания казалась переполненной; оттуда доносились болтовня и хихиканье.
– Господин Альбин, умоляю вас, спрячьте нож, уберите его, иначе случится беда! – жалобно молил высокий дрожащий женский голос.
– Милейший господин Альбин, ради бога, пощадите наши нервы, спрячьте в ножны это страшное орудие убийства, – вмешался второй голос. На что белокурый молодой человек, сидевший боком на шезлонге и куривший папиросу, дерзко ответил:
– И не подумаю! Надеюсь, дамы все же разрешат мне поиграть моим ножом! Да, конечно, это особенно острый нож. Я купил его в Калькутте у слепого колдуна… Он проглатывал этот нож, а его сподручный сейчас же выкапывал его за пятьдесят шагов из земли… Хотите взглянуть? Он гораздо острее бритвы. Достаточно прикоснуться к лезвию, и оно само собой входит в тело, как в масло. Стойте, я подойду к вам поближе… – И господин Альбин поднялся. Раздался визг. – Впрочем, лучше я покажу свой револьвер! – продолжал господин Альбин. – Это будет интереснее. Хитрая штука! И такая дальнобойность… Сейчас я принесу его из своей комнаты.
– Господин Альбин, господин Альбин, не приносите! – завопило несколько голосов. Но господин Альбин уже вышел из галереи и устремился в свою комнату; он был еще совсем мальчишка, с размашистыми движениями, розовым детским лицом и крошечными бачками около ушей.
– Господин Альбин, – крикнула ему вслед какая-то дама, – лучше принесите свое пальто и наденьте его, прошу вас. Ведь вы полтора месяца пролежали с воспалением легких, а теперь сидите в одном костюме, не покрылись даже одеялом, да еще курите сигареты! Честное слово – вы искушаете судьбу, господин Альбин!
Но он только рассмеялся уходя и через несколько минут вернулся с револьвером. Тогда поднялся еще более глупый визг, и было слышно, как некоторые больные повскакали со своих шезлонгов, накинули на головы одеяла и легли ничком.
– Видите, какой он маленький и блестящий, – сказал господин Альбин, – но если я нажму вот на это, он куснет… – Снова раздались вопли. – И, конечно, в нем полный заряд, – продолжал господин Альбин. – В этом барабане шесть пуль, после каждого выстрела он сам повертывается… Впрочем, я держу его не для забавы… – продолжал молодой человек и, заметив, что впечатление уже ослабевает, сунул револьвер в нагрудный карман, опять сел на свой шезлонг, закинув ногу на ногу, и закурил новую сигарету. – Отнюдь не для забавы, – повторил он и решительно сжал губы.
– А для чего же? Для чего же? – вопросили задрожавшие от догадки голоса. – Какой ужас! – вдруг крикнул кто-то, и господин Альбин кивнул.
– Вижу, что вы начинаете понимать, – сказал он. – Да, именно для этого я его и держу, – продолжал он небрежно, сделав глубокую затяжку, несмотря на только что перенесенное воспаление легких, и выпуская огромные клубы дыма. – Я приготовил его для того дня, когда мне наконец надоест вся эта канитель и я буду иметь честь почтительнейше удалиться из этого мира. Все делается довольно просто… Я некоторое время изучал данный вопрос, и теперь мне ясно, как это наилучшим образом обстряпать (при слове «обстряпать» снова раздается крик). Область сердца исключена… Неудобно целиться… И я предпочитаю немедленно лишиться сознания, а потому всажу такое вот изящное инородное тельце в этот интересный орган… – И господин Альбин поднес указательный палец к своей коротко остриженной белокурой голове. – Надо приставить вот сюда… – Господин Альбин снова извлек из кармана никелированный револьвер и постучал дулом по виску, – вот сюда, над височной артерией… Даже без зеркала можно найти… проще простого…
Снова раздались умоляющие и протестующие голоса, послышались даже чьи-то судорожные рыдания.
– Господин Альбин, господин Альбин, уберите револьвер, не держите его у виска, смотреть страшно! Господин Альбин, вы же молоды, вы поправитесь, вы вернетесь в жизнь, и все будут любить вас, даю вам слово! Только наденьте пальто, лягте, укройтесь, лечитесь. Не прогоняйте массажиста, когда он приходит растирать вас спиртом! Бросьте вы ваши сигареты, господин Альбин, слышите, мы молим вас, сохраните вашу жизнь, вашу молодую, драгоценную жизнь!
Но господин Альбин был неумолим.
– Нет, нет, – сказал он. – Не уговаривайте меня, хорошо, благодарю вас. Я еще никогда ни в чем не отказывал даме, но вы увидите – бесполезно совать судьбе палки в колеса. Ведь я здесь уже третий год… С меня хватит, я выхожу из игры – разве можно за это упрекнуть? Неизлечим, сударыни, – видите, вот я сижу перед вами, и я неизлечим – сам гофрат, даже ради чести и репутации заведения, уже не делает из этого тайны. Так разрешите мне некоторые вольности – положение вещей дает мне право на них. Помните, как в гимназии, когда уже решено, что ты остаешься на второй год, и учителя тебя уже не спрашивают, и ничего уже не надо делать… Я теперь снова вернулся к этому счастливому состоянию. Мне больше ничего не нужно желать, на меня махнули рукой, и я надо всем смеюсь. Хотите шоколаду? Пожалуйста, берите! Нет, вы не обидите меня, в моей комнате целые груды шоколаду! Восемь бонбоньерок, пять плиток Гала-Петер и пять фунтов линдтовского шоколаду – всем этим меня снабдили наши санаторские дамы, когда я болел воспалением легких…
Неожиданно донесся чей-то бас и приказал всем успокоиться. Господин Альбин коротко рассмеялся – это был порхающий отрывистый смех. Потом на галерее стало тихо – так тихо, словно развеялся какой-то сон или наваждение; и в этой тишине как бы еще звучало эхо только что произнесенных слов. Ганс Касторп вслушивался в него, пока оно окончательно не замерло, и хотя ему казалось, что господин Альбин все-таки дуралей, он не мог подавить в себе некоторой зависти. Именно это сравнение с гимназической жизнью оказало свое действие, ибо он сам остался в шестом классе на второй год и до сих пор помнил то несколько постыдное, но приятное ощущение беспризорности, которое испытал, когда в последней четверти как будто сошел с беговой дорожки и мог «надо всем этим» смеяться. Но все же его размышления были путанны и туманны, и нам трудно определить их более точно. Сводились они к тому, что если честь имеет немалые преимущества, то их имеет, и позор, и тогда они, пожалуй, даже необъятнее. А когда он, для пробы, перенесся в положение господина Альбина и постарался представить себе, что будет, если совсем освободиться от бремени чести и вкушать лишь бездонные преимущества позора, то на миг с испугом ощутил неистовое блаженство, которое заставило его сердце биться еще торопливее.
Сатана делает оскорбительное для чести предложение
Потом он совсем потерял сознание. Его часы показывали половину четвертого, когда голоса за стеклянной стеной опять разбудили его: доктор Кроковский, делавший в этот час обход без гофрата, говорил по-русски с невоспитанной супружеской четой, он, видимо, осведомлялся о здоровье супруга и спросил табличку его температуры.
Однако он не продолжил затем свой путь по отдельным балконам, а, обойдя балкон Ганса Касторпа, вернулся в коридор и вошел оттуда к Иоахиму. В том, что врач сделал крюк и обогнул его балкон, Гансу Касторпу почудилось что-то оскорбительное, хотя он отнюдь не горел желанием остаться с глазу на глаз с Кроковским. «Ведь я здоров и не могу идти в счет…» – говорил он себе, – ибо тут у них наверху только тот шел не в счет и не подвергался расспросам, кто имел честь быть здоровым; но именно это и злило молодого человека.
Пробыв у Иоахима две-три минуты, Кроковский по балкону проследовал дальше, и Ганс Касторп услышал голос кузена, напоминавшего ему, что пора вставать и готовиться к ужину.
– Хорошо, – отозвался он и встал. Но от долгого лежания у него кружилась голова, дремота не освежила его, а лишь снова вызвала в лице мучительный жар, хотя тело скорее познабливало, – может быть, он недостаточно тепло укрылся?..
Он вымыл руки и промыл глаза, пригладил волосы, оправил одежду и, выйдя в коридор, встретился с Иоахимом.
– Ты слышал рассуждения этого господина Альбина? – спросил Ганс Касторп, когда они спускались по лестнице.
– Конечно, – отозвался Иоахим. – Его следовало бы приструнить. Нарушает весь послеобеденный отдых своей болтовней и так расстраивает дам, что потом идут насмарку результаты нескольких недель. Грубейшее нарушение правил. Но кому же охота быть доносчиком! И потом такие разговоры для большинства – даже развлечение.
– А ты допускаешь, – спросил Ганс Касторп, – что он говорит серьезно насчет виска и что проще простого, как он выражается, всадить туда «инородное тельце»?
– Ну конечно, – ответил Иоахим, – ничего невозможного тут нет. Такие случаи у нас здесь наверху бывают. За два месяца до моего приезда некий студент – он жил в санатории уже давно – после очередного обследования взял да и повесился в лесу. В первые дни после моего приезда об этом еще много говорили.
Ганс Касторп нервно зевнул.
– Да, не скажу, чтобы я чувствовал себя хорошо у вас, – заявил он. – Может быть, я не смогу остаться дольше, слышишь? И мне придется уехать… Ты очень обидишься, если я это сделаю?
– Уехать? Чепуха! – воскликнул Иоахим. – Да ведь ты только что приехал! Как можно судить по первому дню?
– Боже мой! Неужели все еще первый день! У меня такое ощущение, точно я у вас здесь уже давным-давно.
– Только не начинай опять мудрствовать насчет времени! – сказал Иоахим. – Ты меня сегодня утром совсем сбил с толку.
– Не беспокойся, я все начисто забыл, – возразил Ганс Касторп. – Весь комплекс. И вся острота мысли исчезла, это прошло… Значит, сейчас будет чай…
– Да, а потом опять пройдемся до той скамьи, куда ходили утром.
– Сделай одолжение! Надеюсь только, что на этот раз мы не встретим Сеттембрини. Я сегодня больше не могу участвовать в разговорах высокообразованных людей, предупреждаю.
В столовой подавались все напитки, какие только можно было пить в этот час. Мисс Робинсон снова глотала свой кроваво-красный чай из шиповника, а внучатная племянница ела ложкой простоквашу. Кроме того, можно было получить молоко, чай, кофе, шоколад, даже мясной отвар, и за всеми столами больные, которые после сытного обеда два часа лежали, все же усердно намазывали маслом огромные ломти пирога с изюмом.
Ганс Касторп спросил чаю и стал пить, макая в него сухарики. Попробовал он и мармелада. На пирог с изюмом он, правда, поглядывал, но при мысли о том, чтобы съесть кусок, буквально содрогнулся. И вот он опять сидит на своем месте в этом зале с пестро расписанными сводами и семью столами, сидит уже в четвертый раз. Несколько позднее, а именно в семь часов, он сидел там в пятый раз и ужинал. В промежутке, который был очень короток и прошел незаметно, двоюродные братья, как и утром, совершили прогулку до той же скамейки у отвесной скалы и желоба с водой, – на этот раз дорога была полна гуляющими больными, так что кузенам приходилось то и дело раскланиваться. Затем снова последовало лежание на балконе в течение каких-то бессодержательных, мгновенно пролетевших полутора часов. Во время лежания Ганса Касторпа мучительно знобило.
К ужину он добросовестно переоделся и затем, сидя между мисс Робинсон и учительницей, ел суп-жюльен, жареное и тушеное мясо с гарниром, проглотил два куска какого-то торта, в который было намешано невесть что: пресное тесто, крем, шоколад, фруктовый мусс, марципаны, – и завершил все это сыром, положив его на вестфальский пряник. За ужином он опять приказал подать себе бутылку кульмбахского пива. Но, сделав основательный глоток из высокого стакана, вдруг почувствовал совершенно ясно и отчетливо, что ему нестерпимо хочется спать. В голове шумело, веки, казалось, налились свинцом, сердце словно било в литавры, и в довершение всех этих мук ему почудилось, что когда хорошенькая Маруся, наклонившись вперед, рассмеялась и прикрыла лицо рукой с маленьким рубином на пальце, она смеется над ним, а ведь он изо всех сил старался не дать к этому никакого повода. Словно издали слышал он голос фрау Штер – она что-то объясняла или доказывала, и это представилось ему таким диким вздором, что он совсем растерялся и даже усомнился – быть может, виноват его сонный мозг, превративший слова фрау Штер в какую-то галиматью. Она уверяла, будто умеет приготовлять двадцать восемь разных соусов к рыбе, – и имеет смелость на этом настаивать, да, да, хотя собственный муж предупреждал ее не упоминать об этих ее талантах. «Не заговаривай о соусах, – сказал он ей. – Никто тебе все равно не поверит, а если и поверят, то найдут это смешным!» И все-таки она решила сегодня заявить вслух и признать открыто, что да, она умеет готовить двадцать восемь соусов! Бедный Ганс Касторп пришел в ужас; он прямо-таки перепугался, схватился рукою за голову и забыл дожевать и проглотить кусок честера с пряником, которые были у него во рту. Когда встали из-за стола, он все еще не прожевал их.
Кузены вышли в левую застекленную дверь, в ту роковую дверь, которая всегда так громко хлопала. Она вела в холл. Почти все пациенты устремились через ту же дверь, ибо, как узнал Ганс Касторп, у обитателей санатория было принято собираться после обеда в этом холле и в гостиных и проводить какую-то часть вечера вместе. Большинство больных, разбившись на мелкие группы, болтали стоя. За двумя раскрытыми зелеными столами уселись игроки в домино и в бридж; тут была только молодежь – среди них господин Альбин и Гермина Клеефельд. В первой гостиной оказались интересные оптические приборы: стереоскоп, сквозь линзы которого можно было рассматривать вставленные в него фотографии, – например венецианского гондольера во всей его бескровной и застывшей рельефности; затем калейдоскоп в виде подзорной трубки, к нему достаточно было приложить глаз и поворачивать колесико, и перед вами представала волшебная игра пестрых арабесок и звезд; и, наконец, вращающийся барабан, в который вставлялись кинематографические ленты: если смотреть сбоку в его отверстия, вы могли наблюдать мельника, дерущегося с трубочистом, учителя, который наказывает школьника, канатного плясуна и деревенскую парочку, танцующую сельский танец. Ганс Касторп, опершись ледяными руками о колени, довольно долго смотрел в каждый аппарат. Постоял он и возле стола, за которым играли в бридж и где неизлечимый господин Альбин, опустив уголки рта, с небрежностью светского человека тасовал карты. В углу сидел доктор Кроковский, занятый беседой по душам с оживленными дамами, разместившимися полукругом, среди которых были фрау Штер, фрау Ильтис и фрейлейн Леви. Сидящие за «хорошим» русским столом после ужина удалились в соседнюю маленькую гостиную, отделенную от карточной комнаты лишь портьерой, и образовали там интимную группу. Кроме мадам Шоша, в нее входили: вялый господин с белокурой бородой, впалой грудью и глазами навыкате; очень темная брюнетка, – оригинальный и несколько комический тип, – с крупными золотыми сережками и растрепанными волосами; затем доктор Блюменколь, присоединившийся к ним, и еще двое сутулых юношей. Мадам Шоша была в голубом платье с белым кружевным воротником. Она сидела в центре группы на диване возле круглого стола в глубине маленькой комнаты, лицом к игравшим в первой гостиной. Ганс Касторп, который не мог смотреть на эту невоспитанную женщину без внутренней укоризны, думал: «Что-то она мне напоминает, но что – не знаю…» Долговязый мужчина лет тридцати, с редеющими волосами, сыграл три раза подряд на маленьком коричневом фортепиано свадебный марш из «Сна в летнюю ночь»[33]33
«Сон в летнюю ночь» – романтико-фантастическая увертюра известного немецкого композитора Феликса Мендельсона-Бартольди (1809—1847), написанная на шекспировский сюжет, обработанный немецкими поэтами-романтиками Шлегелем и Тиком.
[Закрыть], и когда дамы особенно горячо стали просить его, заиграл эту мелодичную вещь в четвертый раз, предварительно посмотрев каждой в глаза молча и проникновенно.
– Разрешите, инженер, осведомиться о вашем самочувствии? – спросил Сеттембрини; засунув руки в карманы, он прогуливался среди больных и теперь подошел к Гансу Касторпу. На нем был тот же серый ворсистый сюртук и светлые клетчатые брюки. Свое приветствие он сопровождал улыбкой, и Ганс Касторп снова испытал какое-то отрезвление при виде этой умной и насмешливой улыбки, от которой у итальянца дрогнул уголок рта под изгибом темных усов. Но взглянул он на Сеттембрини довольно тупо, губы его отвисли, глаза покраснели.
– Ах, это вы, – сказал он, – тот господин, которого мы встретили на утренней прогулке возле скамейки наверху… у водостока… Конечно, я вас сразу узнал. Поверите ли, – продолжал молодой человек, хотя отлично понимал, что этого говорить не следовало, – я вас тогда в первую минуту почему-то принял за шарманщика. Конечно, это чистейший вздор… – добавил он, заметив, что взгляд Сеттембрини стал холодно-настороженным. – Словом, ужасная глупость. Я просто понять не могу, каким образом я…
– Не беспокойтесь, это не имеет никакого значения, – ответил Сеттембрини, после того как молча поглядел на него. – Как же вы провели день – ваш первый день в этом увеселительном заведении?
– Благодарю, – отозвался Ганс Касторп, – я в точности следовал предписаниям, и образ жизни вел преимущественно горизонтальный, как вы любите выражаться.
Сеттембрини усмехнулся.
– Может быть, я случайно так и выразился, – сказал он. – Что ж, летело для вас время при таком образе жизни?
– И летело и тянулось, как посмотреть… – отозвался Ганс Касторп. – Иногда одно от другого трудно отличить, знаете ли. Но мне отнюдь не было скучно, у вас тут наверху все так оживлены и деятельны. Видишь и слышишь так много нового, необычного… С другой стороны, мне кажется, точно я здесь не один день, а уже давно, и даже как будто стал старше и умнее, вот какое у меня ощущение.
– Умнее тоже? – спросил Сеттембрини и удивленно поднял брови. – Разрешите мне один вопрос: сколько же вам лет?
И вот оказалось, что Ганс Касторп не знает! Да, он в данную минуту забыл, сколько ему лет, несмотря на все свои прямо-таки отчаянные усилия припомнить. Чтобы выиграть время, он заставил итальянца повторить вопрос, затем сказал:
– Мне… сколько лет?.. Ну, конечно, двадцать четвертый! Значит, будет двадцать четыре. Простите, но я очень устал! – добавил он. – Впрочем, усталость – не то слово! Знакомо вам такое состояние: видишь сон, знаешь, что это сон, стараешься проснуться и не можешь? Вот и я чувствую себя в точности так же. Наверное, у меня жар, иначе я никак не могу себе объяснить такое состояние. Представьте себе – у меня ноги оледенели до самых колен! Если можно так выразиться, ведь колени – это, разумеется, не ноги… Извините, я что-то совсем запутался, да это в конце концов и не удивительно, если тебя с раннего утра освистывают… пневмотораксом, а потом слышишь разглагольствования господина Альбина, да еще притом находишься в горизонтальном положении. Подумайте, у меня все время такое ощущение, словно я не могу больше доверять своим пяти чувствам, и, должен признаться, это смущает меня еще больше, чем жар в лице и ледяные ноги. Скажите откровенно: считаете вы возможным, чтобы фрау Штер умела готовить двадцать восемь соусов к рыбе? Я спрашиваю не о том, может ли она их действительно приготовить, это исключено, но действительно ли она говорила об этом за столом, или мне только померещилось – вот что я хотел бы знать.








