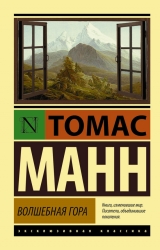
Текст книги "Волшебная гора. Часть I"
Автор книги: Томас Манн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Острота мысли
Однако Иоахим отвечал на этот вопрос как-то сбивчиво и неясно. Он даже успел вынуть из лежавшего на столе красного кожаного футлярчика, обтянутого внутри бархатом, маленький градусник и сунул себе в рот заполненный ртутью кончик. Он держал градусник слева, под языком, отчего стеклянный инструмент торчал слегка вбок и кверху. Затем переоделся, надел башмаки и нечто вроде тужурки, взял со стола печатную таблицу, карандаш и книгу – русскую грамматику, – Иоахим изучал русский язык, ибо надеялся, по его словам, что знание русского ему пригодится на службе, – и, оснащенный всем этим, вышел на балкон, где и расположился в шезлонге, лишь слегка прикрыв ноги одеялом из верблюжьей шерсти.
Да в нем и не было нужды: за последние четверть часа пелена облаков становилась все тоньше, и наконец прорвалось солнце – такое по-летнему жаркое и ослепительное, что Иоахиму пришлось защитить голову белым полотняным зонтиком, который с помощью хитроумного и несложного приспособления можно было прикреплять к подлокотнику шезлонга, меняя его наклон в зависимости от положения солнца. Ганс Касторп похвалил это приспособление. Ему хотелось узнать, что покажет градусник, и пока Иоахим держал его, он наблюдал за этой процедурой, осмотрел и меховой мешок, обнаруженный им в углу лоджии (Иоахим пользовался им в холодные дни); затем оперся о балюстраду балкона и стал глядеть в сад, где находилась общая галерея для лежания; там оказалось немало больных, они лежа читали, писали, болтали. Впрочем, ему была видна только часть галереи и человек пять пациентов.
– Сколько же времени нужно держать градусник? – спросил Ганс Касторп и обернулся.
Иоахим поднял семь пальцев.
– Но они, наверное, уже прошли – эти семь минут?
Иоахим покачал головой. Через некоторое время он вынул градусник изо рта, взглянул на него и сказал:
– Да, когда за ним следишь, за временем, оно идет очень медленно. И я ничего не имею против того, чтобы мерить температуру четыре раза в день. Тут только и замечаешь, какая, в сущности, разница – одна минута и целых семь, при том, что семь дней недели проносятся здесь просто мгновенно.
– Ты говоришь «в сущности». Но ты так говорить не можешь, – возразил Ганс Касторп. Он сидел боком на перилах, белки его глаз покраснели. – Время вообще не «сущность». Если оно человеку кажется долгим, значит оно долгое, а если коротким, так оно короткое, а насколько оно долгое или короткое в действительности – этого никто не знает. – Он не привык философствовать, но сейчас испытывал потребность порассуждать.
– Почему же? – возразил Иоахим. – Мы все-таки измеряем его. У нас есть часы и календари, и когда прошел месяц, он прошел и для тебя, и для меня, и для всех нас.
– Но ты послушай меня, – остановил его Ганс Касторп и даже поднес указательный палец к помутневшим глазам. – Значит, длина одной минуты такова, какой она тебе кажется, когда ты измеряешь себе температуру?
– Одна минута тянется… она длится ровно столько, сколько нужно секундной стрелке, чтобы обежать свой круг.
– Но ведь это время может быть самым различным для нашего ощущения. И фактически… я подчеркиваю: фактически, – повторил Ганс Касторп и так сильно нажал указательным пальцем на свой нос, что совсем пригнул его кончик к губе, – движение стрелки есть движение в пространстве, не так ли? Нет, подожди, постой! Значит, мы измеряем время пространством. Но это все равно, как если бы мы захотели измерять пространство временем, – а так его измеряют только совершенно необразованные люди. От Гамбурга до Давоса двадцать часов поездом. А пешком сколько? А в мыслях? Меньше секунды!
– Послушай, – заметил Иоахим, – что это на тебя нашло? Или здешний воздух подействовал?
– Молчи! У меня сегодня мысль работает необычайно остро. Что же такое время? – спросил Ганс Касторп и так решительно отогнул в сторону кончик носа, что кровь от него отхлынула и он побелел. – Может быть, ты объяснишь мне? Ведь пространство мы воспринимаем нашими органами чувств, зрением и осязанием. Хорошо. Ну а каким же органом мы воспринимаем время? Может быть, ты мне ответишь? Видишь, вот ты и влип. Но как можем мы что-либо измерять, если, говоря по правде, не можем назвать ни одного, ну ни одного его свойства! Мы говорим: время проходит. Хорошо, пусть себе проходит. Но чтобы измерять его… подожди! Чтобы быть измеряемым, оно должно протекать равномерно, а где это сказано, что оно так и протекает? В восприятиях нашего сознания этого нет, мы лишь допускаем равномерность для порядка, и наши измерительные единицы – просто условность. Так вот, разреши мне…
– Хорошо, – прервал его Иоахим. – Значит, условность и то, что мой градусник показывает на пять черточек больше нормы? А из-за этих пяти лишних делений я должен здесь прозябать и не могу служить в армии, это же факт, хоть и отвратительный!
– У тебя 37,5?
– Она уже начала понижаться. – Иоахим занес температуру в табличку. – Вчера вечером было почти 38, в результате твоего приезда. У всех, к кому приезжают гости, она повышается. И все-таки твой приезд – это благо.
– Я сейчас уйду, – сказал Ганс Касторп. – У меня в голове еще пропасть мыслей о времени, могу сказать – целый комплекс. Но я не хочу тебя волновать, у тебя и так слишком много черточек. Я этих мыслей не забуду, и мы потом к ним вернемся, может быть после завтрака. Когда настанет время завтрака, ты позовешь меня. Сейчас я тоже пойду полежу, меня ведь от этого, слава богу, не убудет. – И он прошел мимо стеклянной стенки на собственный балкон, где и для него были приготовлены шезлонг и столик, принес из уже аккуратно прибранной комнаты книжку «Ocean steamships» и свой пушистый мягкий плед в темно-красную и зеленую клетку и улегся.
Однако очень скоро ему пришлось раскрыть зонтик: здесь, на балконе, солнце жгло нестерпимо. Но лежать было необыкновенно удобно, Ганс Касторп тут же отметил это с удовольствием – он не помнил, чтобы ему так приятно лежалось в каком-нибудь шезлонге.
Кресло это, несколько старомодной формы – явная стилизация, ибо оно, бесспорно, было новым, – состояло из полированной рамы – имитации красного дерева – и матраса, обитого какой-то мягкой материей наподобие ситца; матрас, вернее – три сложенных вместе пухлых перины, покрывал весь шезлонг и свешивался со спинки. Кроме того, в изголовье висел на шнурке не слишком мягкий и не слишком жесткий валик в полотняном вышитом чехле, и на него было особенно удобно откидывать голову. Ганс Касторп оперся локтем на широкий плоский подлокотник и, щурясь, спокойно поглядывал вокруг; он не чувствовал потребности развлекать себя книжкой «Ocean steamships». Перед ним лежал суровый и скудный пейзаж, но он был залит солнечным светом и, обрамленный аркой лоджии, казался вставленной в раму картиной. Ганс Касторп задумчиво созерцал ее. Вдруг он что-то вспомнил и нарушил тишину, громко спросив:
– Она ведь карлица, эта, которая подавала нам за первым завтраком?
– Тсс… – остановил его Иоахим. – Тише. Да, карлица. А что?
– Ничего. Мы просто с тобой об этом еще не говорили.
И опять отдался своим думам. Когда он лег, было уже десять часов. Прошел час. Обыкновенный час, не длинней и не короче. Но вот он истек, и по дому и саду разнесся звук гонга, сначала далекий, потом все ближе, потом опять удаляясь.
– Завтрак, – сказал Иоахим, и было слышно, как он встает.
Ганс Касторп также встал и вошел в комнату, чтобы привести себя в порядок. Двоюродные братья встретились в коридоре и пошли вниз. Ганс Кастора сказал:
– Ну, лежалось мне отлично. Что это у вас за шезлонги? Если тут можно купить такие, я увезу один в Гамбург, в нем лежишь как в раю. Или ты предполагаешь, что они сделаны по особому заказу Беренса?
Но Иоахим этого не знал. Они разделись и вторично вошли в столовую, где трапеза была уже в самом разгаре. Всюду белело молоко: у каждого прибора стоял большой, по меньшей мере полулитровый стакан молока.
– Нет, – сказал Ганс Касторп, когда он снова уселся между портнихой и англичанкой и покорно развернул салфетку, хотя чувствовал в желудке тяжесть еще после первого завтрака. – Нет, – сказал он, – да простит меня бог, но молока я вообще не пью, а тем более сейчас. Нельзя ли получить портер? – И он прежде всего вежливо и мягко обратился с этим вопросом к карлице. Но портера не оказалось. Однако она обещала принести кульмбахского пива, и принесла. Густое, черное, с коричневой пеной, оно вполне заменяло портер. Ганс Касторп жадно пил его из высокого полулитрового стакана, закусывая холодным мясом и гренками. Снова подали овсяную кашу и в изобилии масло и овощи. Но он только поглядывал на них, ибо есть был уже не в состоянии. Рассматривал он и публику за столами – лица уже не сливались в одно и не казались одинаковыми; начали выделяться отдельные фигуры.
Его стол был занят целиком, кроме одного места на конце, против него, – оказывается, оно предназначалось для врача. Ибо врачи, когда позволяло время, участвовали в общих трапезах, причем садились то за один стол, то за другой; поэтому в конце каждого одно место оставалось свободным. Сейчас отсутствовали оба; кто-то сообщил, что у них операция. Снова явился молодой человек с усами, опустил подбородок на грудь и уселся с озабоченным и замкнутым видом. Оказалась на своем месте и тощая блондинка, она так усердно загребала ложкой простоквашу, как будто, кроме этого, есть было нечего. Рядом с ней Ганс Касторп увидел маленькую веселую старушку, которая обращалась по-русски к молчаливому молодому человеку, а он озабоченно смотрел на нее и только кивал головой, причем так кривил лицо, точно держал во рту что-то очень невкусное. Против него, по ту сторону старухи, сидела еще одна молодая девушка – и прехорошенькая: цветущий румянец, высокая грудь, волнистые темно-каштановые, красиво причесанные волосы, круглые карие детские глаза и маленький рубин на прекрасной руке. Она часто смеялась и тоже говорила по-русски, только по-русски. Ее звали Марусей, как узнал Ганс Касторп. Потом он заметил, что, когда она болтала и смеялась, Иоахим со строгим видом опускал глаза.
Сеттембрини вошел через боковую галерею и, подкручивая усы, проследовал на свое место в конце стола, стоявшего под углом к столу Ганса Касторпа. Когда он сел, его соседи звонко рассмеялись; вероятно, он отпустил какую-нибудь дерзость. Узнали Ганса Касторпа и члены «Союза однолегочных». Гермина Клеефельд с глупым видом протискалась на свое место за столом перед одной из дверей на веранду и приветствовала губастого юнца, перед тем столь неприлично задиравшего свою куртку. Фрейлейн Леви, с лицом цвета слоновой кости, сидела рядом с толстой пятнистой Ильтис у поперечного стола, справа от Ганса Касторпа; их окружали еще неведомые ему люди.
– Вон твои соседи, – вполголоса сказал Иоахим, наклонившись к двоюродному брату… Супруги прошли вплотную мимо Ганса Касторпа к последнему столу в том же ряду, это был «плохой» русский стол, где какая-то чета с некрасивым мальчиком уже поглощала огромные порции овсяной каши. Сосед оказался человеком тщедушного сложения, его серые щеки ввалились, на нем была кожаная куртка, на ногах – неуклюжие фетровые сапоги с застежками. Его жена, тоже худенькая, но изящная, в шляпе с развевающимися перьями, просеменила к столу в юфтяных сапожках с высокими каблучками; ее шею обвивало грязноватое боа из птичьих перьев. Ганс Касторп рассматривал обоих с неприсущей ему бесцеремонностью, он сам почувствовал в ней что-то грубое; но именно эта грубость почему-то вдруг доставила ему удовольствие. Его взгляд был тупым и настойчивым. Когда в ту же минуту застекленная дверь слева захлопнулась, так же как и сегодня утром, со звоном и дребезгом, он не вздрогнул, а лишь сделал ленивую гримасу; все же он хотел потом повернуть голову в сторону двери, но вдруг решил, что это требует усилий и не стоит труда. Поэтому случилось так, что он и на этот раз не выяснил, кто же так неаккуратно обращается с дверью.
А причина его странного состояния крылась в том, что выпитое за завтраком пиво, обычно лишь весьма умеренно оживлявшее его, сегодня совершенно оглушило сознание и сковало тело, точно Ганса Касторпа ошарашили ударом по лбу. Веки у него налились свинцом, язык плохо слушался, и когда молодой человек из учтивости вздумал поболтать с англичанкой, ему было трудно выразить самую простую мысль; чтобы перевести взгляд с одного на другое – и то требовалось усилие, а в довершение всего и лицо у него препротивно разгорелось, в точности как вчера; ему чудилось, будто щеки его распухли от жара, он дышал тяжело, сердце стучало в груди, словно молот, обернутый чем-то мягким, и если все это не слишком его мучило, то лишь потому, что сознание его было затуманено, точно он сделал несколько вдыханий хлороформа. И когда доктор Кроковский все же пришел завтракать и уселся за свой прибор как раз напротив Ганса Касторпа, молодой человек заметил это словно сквозь сон, хотя Кроковский не раз пристально поглядывал на него, в то же время болтая по-русски с дамами, сидевшими по его правую руку; причем и цветущая Маруся и тощая простоквашница покорно и стыдливо опускали глаза. Все же Ганс Касторп держался вполне пристойно, предпочитая молчать, ибо язык не повиновался ему, и даже как-то особенно корректно обходился с ножом и вилкой. Но вот кузен кивнул и поднялся; он тоже встал, поклонился своим сотрапезникам, которых видел точно сквозь туман, и, особенно твердо ступая, последовал за Иоахимом.
– Когда же нужно опять лежать на воздухе? – спросил он, едва они вышли из санатория. – Насколько я могу судить – это пока здесь лучшее. Мне хотелось бы опять очутиться в моем замечательном шезлонге. Мы далеко пойдем гулять?
Лишнее слово
– Нет, – ответил Иоахим, – далеко мне ходить нельзя. В этот час я обычно спускаюсь ненадолго вниз и, если у меня есть время, иду через деревню и дохожу до местечка. Видишь людей и магазины, делаешь покупки. Потом лежишь опять час перед обедом, – да, полагается до четырех, – так что еще належишься, не беспокойся.
Они спустились по освещенной солнцем подъездной аллее, перешли мост над потоком и узкие рельсы, все время имея перед глазами горные вершины правого склона: Малый Шьяхорн, Зеленые башни, Дорфберг; Иоахим называл их одну за другой. На той стороне, несколько выше, лежало окруженное стеною кладбище деревни Давос. Иоахим тоже указал на него своей горной палкой. И они наконец добрались до главной улицы, которая тянулась по скалистому выступу, образовавшему над долиной как бы первый этаж.
Деревней это, собственно говоря, трудно было назвать: во всяком случае, от нее осталось одно имя. Курорт поглотил ее, он непрерывно разрастался, почти достигая устья долины, и та часть поселка, которую именовали деревней, незаметно переходила в так называемый Давос-курорт, мало чем от нее отличавшийся. Гостиницы и пансионы со множеством крытых веранд, балконов и галерей для лежанья, а также частные домики, где сдавались комнаты, тянулись по обе стороны дороги; кое-где виднелись и новостройки; местами участки еще пустовали, и глазам открывались луга в долине…
Ганс Касторп, испытывавший потребность в привычном любимом возбуждении, опять закурил сигару и, вероятно благодаря выпитому пиву, к своему невыразимому удовольствию снова начал по временам ощущать вожделенный аромат, – правда, лишь изредка и слабо, надо было сделать некоторое нервное усилие, чтобы испытать хотя бы намек на привычное удовольствие, и все-таки во рту оставался мерзкий привкус кожи. Но он не мог преодолеть свою вялость и, сделав несколько попыток вернуть былое наслаждение, то ускользавшее от него, то дразнившее издали смутным намеком, в конце концов устал и с отвращением бросил сигару. Несмотря, однако, на внутреннюю скованность, он счел долгом вежливости поддерживать разговор и старался для этого вспомнить все те замечательные «мысли о времени», которые ему так хотелось высказать перед завтраком. Но вдруг понял, что начисто забыл весь «комплекс», и относительно проблемы времени в его голове не осталось ни единой, даже самой ничтожной, мыслишки. Вместо того он начал говорить о телесных явлениях и притом как-то странно.
– Когда тебе опять надо мерить температуру? – спросил он. – После обеда? Это правильно. Тогда организм особенно деятелен и градусник все покажет правильно. Послушай-ка, ведь предложение Беренса, чтобы я тоже себе мерил, это была шутка? Правда? И Сеттембрини расхохотался, ведь это же бессмысленно. Да у меня и градусника нет.
– Ну, – сказал Иоахим, – за этим дело не станет. Возьми да купи. Они тут везде продаются, чуть не в каждом магазине.
– Зачем же! Нет, лежать – пожалуйста, лежать я буду вместе с вами охотно, но измерять температуру – это для гостя уже слишком, этим уж занимайтесь вы тут наверху. И почему, – продолжал Ганс Касторп, прижав, словно влюбленный, обе руки к груди, – почему у меня все время так колотится сердце… Это меня очень беспокоит, и давно. Видишь ли, сердцебиение бывает у человека, когда его ждет какая-нибудь особенная радость или когда он пугается, – словом, при сильных душевных движениях, верно? Но когда сердце начинает колотиться ни с того ни с сего, так сказать, по собственной инициативе, в этом, пойми меня правильно, есть что-то жуткое, точно тело существует само по себе и у него нет связи с душой, ну примерно как у трупа, но ведь труп тоже не мертв – какое там! – напротив, он ведет весьма оживленное существование, и тоже по собственному почину: еще вырастают волосы и ногти, да и вообще, как мне говорили, начинается пребойкая деятельность – всякие там процессы, физические и химические.
– Что это за выражения, – сказал Иоахим со сдержанным укором. – Пребойкая деятельность! – Может быть, он этим хотел слегка отомстить за сегодняшнее упоминание о бубенцах.
– Но ведь так оно и есть! Это действительно весьма бойкая деятельность! Почему ты обижаешься? – спросил Ганс Касторп. – Впрочем, я вспомнил об этом лишь мимоходом. И хотел я сказать только одно: когда тело начинает жить самостоятельно, вне связи с душой, и воображать о себе невесть что, как при таком беспричинном сердцебиении, – это жутко и мучительно. Вот и ищешь формальной причины, какого-нибудь душевного движения, которое могло его вызвать. Ну, внезапного чувства радости или страха, послужившего бы ему оправданием, что ли, – по крайней мере так я воспринимаю это. Я могу говорить только о себе.
– Да, да, – согласился Иоахим, вздохнув, – словно у тебя лихорадка, и притом в теле начинается этакая «пребойкая деятельность», если воспользоваться твоим выражением; тогда, может быть невольно, начинаешь искать какого-либо душевного движения, как ты говоришь, которое хоть сколько-нибудь разумно объяснило бы эту деятельность… Но что за неприятную чепуху мы несем, – сказал он дрогнувшим голосом и вдруг умолк; Ганс Касторп в ответ только пожал плечами, и притом совершенно так же, как вчера это сделал Иоахим, удивив его столь непривычным жестом.
Они шли некоторое время молча. Наконец Иоахим спросил:
– Как тебе понравилась здешняя публика? Я имею в виду наших соседей по столу.
Ганс Касторп придал себе равнодушно-скептический вид.
– Ну, – заметил он, – я бы не сказал, что они очень интересны. За другими столами сидят, вероятно, более интересные люди; впрочем, может быть, только так кажется. Фрау Штер следовало бы вымыть голову, у нее ужасно жирные волосы. А эта Мазурка, или как ее там зовут, представляется мне довольно-таки глуповатой. Так хихикает, что вечно сует в рот платок.
Иоахим невольно усмехнулся этому искажению имени.
– Мазурка? Великолепно! – воскликнул он. – Но ее зовут Маруся, с твоего разрешения – все равно что Мария. Да, она действительно чересчур шаловлива, – продолжал он, – хотя имела бы все основания быть более серьезной, она очень больна.
– По ней не скажешь, у нее цветущий вид. Как раз на туберкулезную и слабогрудую она совсем не похожа! – шутливо заметил Ганс Касторп и бросил двоюродному брату лукаво-многозначительный взгляд; однако Иоахим не ответил ему таким же взглядом. Его загорелое лицо пошло пятнами, как бывает обычно с загорелыми лицами, когда они бледнеют, и губы как-то горестно скривились; это придало его лицу выражение, которое почему-то испугало Ганса Касторпа и заставило тотчас переменить тему разговора: он принялся расспрашивать о других больных, причем старался как можно скорее позабыть и Марусю, и выражение лица своего двоюродного брата. Это ему удалось вполне.
Оказалось, что англичанку, пившую чай из шиповника, зовут мисс Робинсон. Портниха вовсе не портниха, а учительница кенигсбергской казенной женской гимназии, вот почему она говорит так правильно. Ее зовут фрейлейн Энгельгарт. Что касается веселой старушки, то и сам Иоахим не знает, как ее зовут, хотя прожил здесь наверху уже довольно долго. Во всяком случае, она приходится двоюродной бабушкой той молодой девице; которая ест простоквашу, – старая дама живет с ней в санатории. Но самый больной из всех сидящих за их столом – это доктор Блюменколь, Лео Блюменколь из Одессы, ну, тот молодой человек с усиками и озабоченным замкнутым лицом. Он здесь наверху уже много лет…
Тротуар, по которому они теперь шагали, был вполне городским, ибо они вступили на главную улицу этого поистине интернационального местечка. Им попадались фланирующие курортники, по большей части молодежь: кавалеры в спортивных костюмах и без шляп, дамы – тоже без шляп и в белых юбках. Звучала русская и английская речь. Справа и слева тянулись нарядные витрины, и Ганс Касторп, чье любопытство упорно боролось с мучительной усталостью, заставлял себя разглядывать их; он долго простоял перед магазином модной мужской одежды и вынужден был признать, что выставленные товары – на должной высоте.
Затем они увидели ротонду с крытой галереей, в которой играл оркестр. Это был курзал. На нескольких теннисных кортах шла игра. Долговязые, тщательно выбритые юноши в фланелевых брюках с безукоризненно отутюженной складкой, в башмаках на резиновой подошве и в рубашках с закатанными рукавами играли против загорелых, одетых в белое девушек, которые на бегу подпрыгивали, вытягиваясь в солнечных лучах, чтобы отбить высоко в воздухе белый, словно меловой, мяч. Аккуратные спортивные площадки были точно осыпаны мучной пылью. Кузены уселись на свободную скамью, чтобы посмотреть на игру и покритиковать игроков.
– Ты здесь, вероятно, не играешь? – спросил Ганс Касторп.
– Мне ведь нельзя, – ответил Иоахим. – Нам велено как можно больше лежать… Сеттембрини уверяет, что мы проводим всю нашу жизнь в горизонтальном положении, поэтому являемся, так сказать, горизонталами… По-моему, довольно плоская шутка. Играют здоровые или те, кто не подчиняется запрету. Впрочем, играют они не всерьез… больше ради костюма… А что касается запрета, то здесь нарушаются многие запреты, – больные играют, понимаешь ли, даже в покер, а в некоторых гостиницах и в petits chevaux[32]32
Лошадки (франц.) – азартная игра.
[Закрыть], хотя есть указание врачей, что это самое вредное. Но некоторые после вечерней проверки еще бегут вниз и понтируют. Принц, пожаловавший Беренсу звание гофрата, тоже всегда так делал.
Однако Ганс Касторп едва ли слышал Иоахима. Он сидел открыв рот, так как почти не мог дышать носом, хотя никакого насморка у него не было. Его сердце колотилось не в такт музыке, звучавшей из ротонды, и это было почему-то мучительно. Продолжая ощущать непонятный разнобой и беспорядок в себе, он чуть было не задремал, но тут Иоахим напомнил ему, что пора домой.
Возвращаясь в санаторий, они почти все время молчали. Ганс Касторп даже несколько раз споткнулся на ровной дороге и, горестно усмехнувшись, покачал головой. Хромой поднял их на лифте. Они расстались перед дверью тридцать четвертого номера, обменявшись коротким «до свиданья». Ганс Касторп проследовал через свою комнату на балкон, где сразу же упал в шезлонг и, даже не приняв более удобной позы, немедленно погрузился в тяжелое полузабытье, не переставая мучительно ощущать учащенное биение своего сердца.








