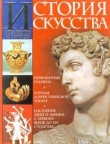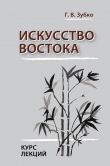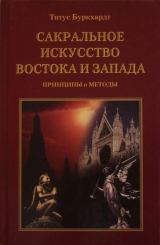
Текст книги "Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы"
Автор книги: Титус Буркхардт (Буркхарт)
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
V
Традиция сакрального изображения связана с устоявшимися прототипами, имеющими исторический аспект. Она содержит в себе доктрину, то есть богословское определение сакрального образа, и художественный метод, который позволяет воспроизвести прототип в форме, соответствующей его смыслу. В свою очередь, художественный метод предполагает существование духовной дисциплины.
Среди прототипов, передаваемых в христианском искусстве из поколения в поколение, наиболее значимым является acheiropoietos (« нерукотворный») образ Христа на Мандилионе ( Плащанице). Говорят, что Христос передал Свой образ, чудесным образом запечатленный на куске ткани, посланникам эдесского царя Авгаря, который попросил у Него портрет. Плащаница хранилась в Константинополе до тех пор, пока не исчезла при разграблении города крестоносцами (рис. 18). [74]74
Копия Плащаницы хранится в соборе Лаона.
[Закрыть]

Рис. 18. Мандилион
Другой прототип, не менее значимый, – это образ Богоматери, приписываемый св. Луке; он сохранился в многочисленных византийских репликах (рис. 19).

Рис. 19. Богоматерь Владимирская
Латинское христианство также имеет свои образцы, освященные традицией, такие, как, например, Святой Лик (Volto Santo) из Лукки [75]75
Или Спас нерукотворный. – Прим. ред.
[Закрыть], который представляет собой вырезанное из дерева распятие в сирийском стиле, приписываемое легендой Никодиму, ученику Христа.
«Подлинность» подобных реликвий, естественно, нельзя доказать исторически; возможно, их не следует понимать буквально, их задача – подтвердить авторитет традиционных источников, о которых идет речь. Что касается обычного традиционного изображения Христа, то его достоверность подтверждается тысячелетием христианского искусства, и одно только это является мощным аргументом в пользу этой достоверности, так как если подлинность не отрицается для всего этого ряда, то надо признать, что дух, присутствующий в традиции в целом, в скором времени исключит ложное физическое изображение Спасителя. Изображения Христа на некоторых саркофагах периода упадка Римской империи явно противоречат этому не более, чем натуралистические портреты Ренессанса, ибо последние уже не принадлежат христианской традиции, тогда как первые еще не вошли в нее. Следует заметить также, что отпечаток, сохранившийся на святой Плащанице из Турина, детали которого стали ясно просматриваться только благодаря современным методам исследования, своими характерными особенностями поразительно напоминает acheiropoietos («нерукотворный») образ. [76]76
Если бы этот отпечаток являлся творением художника, то было бы невозможно приписать его древнему или средневековому художнику или мастеру современной эпохи. Против любого подобного атрибутирования свидетельствуют, во-первых, отсутствие стилизации, а во-вторых, глубина духовности, не говоря уже об исторических аргументах. Так или иначе, не может быть и речи о том, что образ такой духовной достоверности был результатом обмана.
[Закрыть]
Все приведенные соображения по поводу традиционного изображения Спасителя в равной степени применимы к образу Богоматери, приписываемому св. Луке. Некоторые другие типы иконы, например изображение «Богоматери Знамение», представляющее Святую Деву в молитвенной позе с медальоном Христа Эммануила на груди, или фигурные композиции, некогда украшавшие стены церкви Рождества в Вифлееме, убедительны даже при отсутствии традиции, определяющей их источник, по причине своей духовной ценности и очевидной символики, свидетельствующих об их «божественном» происхождении. [77]77
Наиболее древний образец «Богоматери Знамение» датируется IV в.; он был обнаружен в римской катакомбе Cimitero Maggiore. Та же композиция стала весьма знаменитой в форме Blacherniotissa, чудотворной Девы из Константинополя.
[Закрыть]Некоторые варианты этих прообразов были канонизированы Восточной ортодоксальной церковью вследствие чудес, сотворенных благодаря их вмешательству или из-за их богословского или духовного совершенства [78]78
Это последнее обстоятельство связано с прославленной картиной св. Андрея Рублева, изображающей трех ангелов, посетивших Авраама. Сам по себе по себе этот мотив восходит к древнехристианскому искусству. Он представляет исключительно традиционную иконографию Святой Троицы (См.: Ouspensky and Lossky, «Der Sinn der Ikonen», Urs Graf-Verlag, Bern, 1952).
[Закрыть]; и эти варианты, в свою очередь, явились образцами для икон.
Весьма показательно для христианского искусства и для христианского взгляда вообще, что эти сакральные образы имеют сверхъестественное происхождение, которое, следовательно, является тайным и в то же время историческим. Этот факт к тому же очень усложняет связь между иконой и ее прообразом: с одной стороны, чудотворный образ Христа или Богоматери – это произведение искусства, оригинальное по отношению к своей копии, с другой стороны, чудотворный портрет по своей природе – не более чем отражение, или символ, вечного архетипа, в данном случае – подлинной природы Христа или Его матери. Положение искусства в данном случае точно соответствует ситуации в религии, поскольку христианская вера практически связана со вполне определенным историческим событием – нисхождением Божественного Слова на землю в форме Иисуса, – хотя по существу эта форма обладает внеисторическим измерением. Не является ли решающей особенностью веры принятие ею вечной Реальности, одним из выражений которой становится рассматриваемое событие? В том смысле что духовное сознание растет медленнее и религиозный акцент направлен на исторический характер чудесного события, а не на духовное его качество; религиозная мысль отворачивается от вечных «архетипов» и обращается к историческим условностям, которые с этого времени рассматриваются «натуралистическим» образом, то есть способом, наиболее доступным области чувств.
Искусство, которое руководствуется духовным сознанием, стремится упрощать черты сакрального образа и сводить их к сущностным характеристикам, но это совсем не означает, как иногда предполагают, жесткости художественного выражения. Внутреннее видение, ориентированное на небесный архетип, всегда может сообщить произведению неуловимое качество, проникнутое безмятежностью и полнотой. С другой стороны, в периоды духовного упадка неизбежно проявляется элемент натурализма. Этот элемент, в любом случае, содержался в скрытом состоянии уже в греческом наследии западной живописи, и его проникновение, угрожающее единству христианского стиля, стало ощущаться гораздо раньше Ренессанса. Опасность «натурализма», или произвольной напыщенности стиля, подменяющей духовную неуловимость образа чисто субъективными качествами, становилась все более реальной потому, что общественные страсти, сдерживаемые непоколебимыми библейскими традициями, находили отдушину в искусстве. С тем же успехом можно сказать, что христианское искусство является чрезвычайно хрупким предметом и может сохранить свою целостность только ценой неослабной бдительности. Когда оно искажается, идолы, которых оно тогда сотворяет, воздействуют, в свою очередь, преимущественно пагубным образом на общественную мысль. Когда это происходит, то ни противники, ни сторонники религиозного образа не ощущают недостатка в веских аргументах, потому что образ хорош в одном аспекте и плох в другом. Как бы то ни было, сакральное искусство нельзя уберечь без наличия формальных правил и догматического сознания у тех, кто контролирует и вдохновляет его; следовательно, ответственность падает на духовенство, независимо от того, является ли художник простым ремесленником или человеком гения.
Византийский мир осознал все значение сакрального искусства только в результате споров между иконоборцами и иконопочитателями и в значительной степени благодаря угрожающему приближению ислама. Непреклонная позиция ислама по отношению к образам создавала необходимость некоего подобия метафизического оправдания сакрального образа со стороны находящейся в опасности христианской общины, тем более что многие христиане, по-видимому, оправдывали исламскую позицию десятью заповедями. Это стало поводом напомнить, что почитание образа Христа не только допустимо, но и является явным свидетельством самого христианского, по существу, догмата: догмата о воплощении Слова. В своей трансцендентной сущности Бог не может быть изображен, но человеческая природа Иисуса, которую Он получил благодаря Своей матери, не является недоступной для изображения; человеческая форма Христа таинственным образом соединена с Его Божественной Сущностью, несмотря на различие этих «природ», и это оправдывает почитание Его образа.
На первый взгляд, такое оправдание иконы относится только к ее существованию, но не к ее форме; однако приведенный аргумент подразумевает развитие учения о символе, которое должно определить всю ориентацию искусства: Слово – это не просто возвещение о Боге, одновременно вечное и преходящее, это в равной степени и образ Бога, по словам св. Павла, [79]79
См.: 1.15: «Qui est imago Dei invistibilis, primogenitus omnis creaturae…» («Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари»).
[Закрыть]то есть оно отражает Бога на каждом уровне проявления. Таким образом, сакральный образ Христа является только заключительной проекцией нисхождения Божественного Слова на землю. [80]80
См.: L. Ouspensky and V. Lossky, op. cit.
[Закрыть]
Второй Никейский собор (787 г.) утвердил правомерность иконы в качестве молитвы, адресованной Деве, которая, будучи субстанцией, или опорой, воплощения Слова, является также подлинной причиной его изображения. «Не поддающееся определению (aperigraptos) Слово Отца сделало Себя определимым (periegraphe), приняв Твою плоть, о Матерь Божья, и, воссоздав образ [Бога], запятнанный [первородным грехом] в его прежнем состоянии, наполнило Его Божественной красотой. Но, исповедуя спасение, мы провозглашаем его делом и словом».
Принцип символизма уже демонстрировался Дионисием Ареопагитом [81]81
Никоим образом не оправдана недооценка, даже косвенная, этого великого духовного писателя, навязывание ему прозвища «Псевдо-Дионисий», какова бы ни была ценность новейших теорий.
[Закрыть]: «В этом и мы были наставлены, насколько это возможно для нас теперь – посредством священных завес свойственного Речениям и священноначальным преданиям человеколюбия, окутывающего умственное чувственным, сверхсущественное существующим, обволакивающего формами и видами бесформенное и не имеющее вида, сверхъестественную же лишенную образа простоту разнообразными частными символами умножающего и изображающего».
Символ двулик, объясняет он; с одной стороны, он несовершенен по отношению к своему трансцендентному архетипу, отделенный от него всей той бездной, которая отделяет земной мир от мира божественного; с другой стороны, он соучаствует в природе своего прообраза, поскольку низшее проистекает от высшего; только в Боге имеют место извечные символы всех существований, и все они увековечены Божественным Бытием и Божественным Светом. «Итак, и от маловажных предметов вещественного мира можно заимствовать образы, не неприличные для небесных существ, потому что мир сей, получив бытие от Истинной Красоты, в устройстве всех своих частей отражает следы духовной Красоты, которые могут возводить нас к невещественным первообразам, если только мы будем сами подобия полагать, как сказано выше, несходными, и одно и то же понимать не одинаковым образом, а подобающе и правильно различать духовные и вещественные свойства» («О небесной иерархии», 2.4) [82]82
Святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. – М., 1898. – Прим. ред.
[Закрыть].
Но двойственная природа символа, несомненно, не является ничем иным, как двойственной природой формы, понятой в смысле forma, как качественный отпечаток реальности, или субстанции; ибо форма всегда является пределом и в то же время выражением сущности, а сущность – это луч Вечного Слова, высшего архетипа всех форм, а следовательно, и каждого символа. На это указывают слова св. Иерофея, великого учителя, процитированные Дионисием в его книге «О божественных именах»: «В качестве формы, придающей форму всему бесформенному, будучи принципом формы, Божественная Природа Христа, тем не менее, бесформенна во всем том, что имеет форму, ибо Она превосходит всякую форму…» Вот онтология Слова в своем универсальном аспекте.
Упомянутым выше и как бы личным аспектом того же Божественного Закона является Воплощение, благодаря которому «не поддающееся определению Слово Отца сделало Себя определимым». Это выражено в следующих словах св. Иерофея: «Снизойдя в Своем человеколюбии до принятия человеческой природы, поистине воплотившись… [Слово], тем не менее, сохранило в этом состоянии Свою непостижимую и сверхсущностную природу. В самой сердцевине нашей природы Оно осталось чудесным и непостижимым, и в сущности нашей – сверхсущностным, вместив в Себе в высшем смысле все то, что принадлежит нам и исходит от нас вверх и по ту сторону наших собственных пределов» [83]83
Там же.
[Закрыть].
Согласно духовному ви́дению, соучастие человеческой природы Христа в Его Божественной Сущности является как бы «моделью» всего символизма: Воплощение предполагает онтологическое звено, соединяющее всякую форму с ее неизменным архетипом; в то же время Воплощение охраняет это звено. Осталось только связать это учение с природой сакрального образа, что и было сделано великими апологетами иконы, в особенности св. Иоанном Дамаскином [84]84
Существенно, что св. Иоанн Дамаскин (700–750) жил в небольшой христианской общине, со всех сторон окруженной исламской цивилизацией.
[Закрыть], вдохновителем Второго Никейского собора, и Феодором Студитом, окончательно закрепившим победу над иконоборцами.
В «Libri Carolini» Карл Великий противодействовал иконопочитательским формулировкам Второго Никейского собора, несомненно, потому, что увидел опасность нового идолопоклонства среди западных народов, менее созерцательных, чем восточные христиане: он хотел, чтобы искусство было дидактическим, а не священным. С этого времени мистический аспект иконы стал на Западе более или менее скрытым, тогда как на Востоке, поддержанный к тому же монашеством, он остался каноническим. Передача сакральных образцов продолжалась на Западе до Ренессанса, и даже в наши дни самые знаменитые чудотворные образы, почитаемые католической церковью, это иконы в византийском стиле. Римская церковь не смогла выдвинуть никакой доктрины образа в противовес разлагающему влиянию Ренессанса, тогда как в Восточной ортодоксальной церкви традиция иконы была пронесена, хотя и менее интенсивно, вплоть до современной эпохи [85]85
Эта традиция почти исчезла в XVIII в., но, по-видимому, вновь оживает в некоторых совершенно изолированных местностях в наши дни.
[Закрыть].
VI
Богословская основа иконы определяет не только ее основную ориентацию, ее предмет и иконографию, но также язык ее формы, ее стиль. Этот стиль является непосредственным следствием назначения символа: изображение не должно стремиться заменить изображаемый объект, который в высшей степени превосходит его. По словам Дионисия Ареопагита, оно должно «соблюдать дистанцию, которая отделяет умопостигаемое от чувственного». По той же причине изображение должно быть правдивым по своему замыслу, то есть не должно создавать оптических иллюзий, например связанных с перспективой или с моделировкой объема предметов, предполагающей наличие тени. В иконе единственная перспектива – логическая; иногда оптическая перспектива намеренно делается обратной; наложение «светов», унаследованное от эллинизма, настолько ослабляется, что уже не нарушает ровной поверхности изображения; нередко поверхность становится прозрачной, как если бы изображенные персонажи были проникнуты тайным светом. [86]86
Это связано с учением о преображении тел светом на Фаворе, согласно исихастскому мистицизму. См.: Ouspensky and Lossky, op. cit.
[Закрыть]В композиции иконы не существует никакого определенного освещения; взамен его «светом» называется золотой фон, соответствующий небесному Свету преображенного мира. [87]87
См. там же.
[Закрыть]Складки одежд, расположение которых также унаследовано от греческой античности, становятся выражением не физического, но духовного движения: не ветер раздувает ткани, а дух оживляет их. Линии больше не служат только для обозначения контуров тел, они приобретают непосредственную значимость, графическое качество, одновременно ясное и надрациональное.
Многое из духовного языка иконы передается техникой иконописи, организованной таким образом, что вдохновение сопутствует ей почти самопроизвольно, при условии что правила соблюдаются и сам художник духовно подготовлен для своей задачи. В общем смысле, это должно означать, что художник должен в достаточной степени слиться с жизнью церкви, в частности подготовить себя к работе молитвой и постом; он должен размышлять над темой, которую ему предстоит изобразить, с помощью канонических текстов. Когда избранная тема является простой, центральной, как образ Христа или Мадонны с Младенцем, размышления художника должны основываться на одной из формул, или молитв, представляющих сущность традиции. Тогда традиционная модель иконы с ее комплексной символикой ответит на мысленную суть молитвы и раскроет свои сокровенные качества. Действительно, схематичная композиция иконы всегда утверждает метафизические и универсальные основы религиозного предмета, и это в данном случае свидетельствует о нечеловеческом происхождении образцов. Так, например, в большинстве икон Мадонны с Младенцем контуры Матери как бы охватывают контуры Младенца. Облачение Богородицы часто темно-синее, подобно беспредельной глубине неба или глубокой воде, тогда как одежды Божественного Младенца ярко-красные. Все эти подробности имеют сокровенный смысл.
Наряду с нерукотворным образом Христа образ Богородицы и Младенца является иконой par excellence [88]88
По преимуществу (лат.). – Прим. ред.
[Закрыть]. Изображение Младенца, чья природа непостижимо божественна, в известном смысле оправдано образом Его Матери, воплотившей Его Своим телом. Тогда становится очевидной полярность между двумя изображениями, полными естественной прелести, но и неисчерпаемого смысла: природа Младенца рассматривается по отношению к природе Его Матери и как бы благодаря Ее природе; наоборот, присутствие Божественного Младенца с Его атрибутами величия и мудрости – или Его будущих крестных мук – дарует надперсональный и сокровенный аспект материнству. Мадонна – это образ души в своем состоянии изначальной чистоты, а Младенец подобен зародышу Божественного Света в сердце (рис. 20).

Рис. 20. Богоматерь Великая Панагия
Эта мистическая связь между Матерью и Младенцем находит свое наиболее непосредственное выражение в «Богоматери Знамение» , древнейшие варианты которой датируются IV или V в.; Мария представлена в молитвенной позе, с воздетыми кверху руками и с медальоном юного Христа Эммануила на груди. Это «Дева, которая пребудет с младенцем», согласно пророку Исайе, и также это возносящая молитвы церковь или душа, в которой проявит Себя Бог.
Образы святых богословски обоснованы тем, что они опосредованно являются изображениями Христа: Христос присутствует в освященном человеке и «живет» в нем, как это выражается в апостоле.
Основные сцены евангелий передаются в форме символических композиций; некоторые их особенности связаны с апокрифическим «Евангелием детства». То, что Младенец Иисус должен родиться в пещере, что пещера должна быть в горе и что звезда, возвестившая о Его рождении, должна испустить свой луч, подобный вертикальной оси, на колыбель в пещере, – во всем этом нет ничего, что не соответствовало бы духовной истине. То же относится и к ангелам, к царям-волхвам, пастухам и их стадам. Изображение такого рода согласуется со Священным писанием, но не проистекает из них непосредственно, и его невозможно было бы объяснить при отсутствии традиции, призванной охранять символику.
Показательно то, что, в соответствии с христианским мировоззрением, неизменная реальность предстает в форме исторических событий, и только это делает ее доступной для изображения. Так, например, нисхождение Христа в ад, рассматриваемое как событие, происходящее одновременно со смертью на кресте, на самом деле находится вне времени: если древние патриархи и пророки Ветхого завета могут избавиться от тьмы только благодаря вмешательству Христа, то это происходит потому, что Христос, о котором идет речь, является поистине Вечным Христом, Словом; пророки встретились с Ним до того, как он воплотился в Иисуса. Тем не менее, поскольку смерть на кресте подобна пересечению времени и вечности в жизни Иисуса, с символической точки зрения допустимо представить воскресшего Спасителя как нисшедшего в Его человеческой форме в преддверие ада, где Он разрушает врата и подает Свою руку прародителям человечества, патриархам и пророкам, созванным, чтобы приветствовать Его. Таким образом, метафизический смысл сакрального образа не отрицается его «детской» или «простодушной» наружностью.
Глава 3
«Я есмь дверь»
Размышления об иконографии портала романской церкви
I
Святилище подобно двери, открытой в иной мир, в Царство Божие. И сама дверь храма призвана отражать природу святилища в целом, подобными должны быть и их символические связи. [89]89
Иногда архитектурная форма святилища упрощается до формы одного входа; таков случай с японским torii, который отмечает священное место.
[Закрыть]Эта идея выражена в традиционной иконографии церковного портала, особенно в каноническом оформлении романского, а также раннего готического портала.
Архитектурная форма церковного портала той эпохи представляет собой своеобразное «резюме» сакрального здания, сочетая в себе два элемента: дверь и нишу; ниша морфологически соответствует хору церкви и отражает его характерное убранство.
С конструктивной точки зрения, сочетание двери и ниши имеет целью уменьшить вес, который несет на себе дверная перемычка: большая часть веса толщи стены приходится на свод ниши, а через него – на опоры откоса. Комбинация этих двух архитектурных форм со своими иконографическими композициями вызывает наложение этих композиций в своем облачении христианских символов; благодаря соответствию данной символике дверь и ниша являются проводниками изначальной космологической мудрости.
В любой сакральной архитектуре ниша символизирует форму святая святых, место Богоявления, независимо от того, представлено ли это явление образом в нише, абстрактным символом или не выражено вообще никаким знаком, за исключением чисто архитектурной формы. Таково значение ниши в индуистской, буддийской и персидской культуре; ту же функцию она сохраняет в христианской базилике, а также в исламской архитектуре, где обнаруживается в форме молитвенной ниши ( михраб). Ниша является упрощенным образом «пещеры мира»: ее арка, как и купол, соответствует небесному своду, а устои – земле, подобно кубической или прямоугольной части храма. [90]90
René Guénon, «La Symbolisme du dфme» («Etudes Traditionnelles», October 1938); см. также René Guénon, «La sortie de la caverne» (ibid., April 1938) и «Le dáme et la roue» (ibid., November 1938). Очертание ниши воспроизводит план прямоугольной базилики с полукруглой апсидой. Об аналогии между планом храма и формой портика упоминается также в герметическом сочинении, которое появилось в 1616 г.: Jean Valentin Andreae, «Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz», Paris, Chacornac frères, 1928 (первый французский перевод).
[Закрыть]
Что касается двери, которая, по сути, есть переход из одного мира в другой, то ее космический прообраз принадлежит временно́му и циклическому, а не пространственному порядку. Подобным же образом «врата Небес», т. е. двери солнцестояния, это, прежде всего, двери во времени, или паузы в цикле, их фиксация в пространстве является вторичной. [91]91
Хорошо известно, что точки солнцестояния изменяют свою позицию по отношению к неподвижным звездам, возвращаясь к исходной позиции за 25920 лет; тем не менее, они определяют кардинальные направления, а следовательно, и все постоянные критерии пространства.
[Закрыть]Следовательно, портал в форме ниши сочетает, благодаря самой природе своих элементов, циклическую, или временну́ю, символику, с символикой статической, или пространственной.
Таковы основы великих иконографических синтезов средневековых порталов. Каждый из таких шедевров христианского искусства, благодаря неограниченному иконографическому материалу, обнаруживает определенные аспекты этого неисчерпаемого комплекса идей, в то же время всегда обеспечивая их внутреннее единство, в соответствии с законом, который предписывает, что «дополнительная символика должна соответствовать символике, которая имманентна объекту» [92]92
См.: Frithjof Schuon, «De l’Unité transcendante des Religions», ch. IV: «La question des formes d’art», Gallimard, Paris, 1945, p. 84. Англ. перевод: «The Transcendent Unity of Religions», Faber, 1953.
[Закрыть]. Любое высеченное или нарисованное украшение портала связано с религиозным значением двери, которое, в свою очередь, отождествляется с назначением святилища и, тем самым, с природой Человеко-Бога, который сказал о Себе: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется…» (Ин. 10.9).
Мы опишем несколько типов портала романской церкви. Они значительно отличаются друг от друга как своей иконографией, тек и художественными особенностями.
Портал северного трансепта Базельского собора (рис. 21), называемый обычно «портал св. Галла» (Galluspforte, соответственно родовому имени прилежащей капеллы), является произведением чистейшего романского стиля. Ему присуще все статическое равновесие этого стиля и все его ясное структурное единство, хотя в историческом смысле он расположен на пороге готической эры. На первый взгляд, его иконография столь сложна, что некоторые люди предполагают, будто это не более чем смесь фрагментов, оставшихся от ранней постройки, разрушенной при землетрясении 1185 г.; мы увидим, однако, что расположение образов становится вполне последовательным, как только оно связывается с символикой двери как таковой.

Рис. 21. Романский портал Базельского собора
Прежде всего, следует перечислить основные элементы резного декора. Над тимпаном доминирует фигура Христа, восседающего между св. Петром и св. Павлом, которые ходатайствуют перед Ним от имени их protégés [93]93
Букв. протеже (фр.). – Прим. ред.
[Закрыть], жертвователя и строителя портала. [94]94
Ангел представил жертвователя св. Павлу. Художник преклоняет колена около св. Петра.
[Закрыть]Христос держит в Своей правой руке хоругвь, а в левой – открытую книгу. С этой фигурой Христа – победителя и судии – связана как с идеальным центром группа из четырех евангелистов, чьи изображения, увенчанные четырьмя животными из Апокалипсиса – крылатым человеком, орлом, львом и быком, – высечены между опорами двери таким образом, что включены в наружные углы ступенчатого откоса. Во внутренних углах откоса размещены небольшие колонны, которые, если смотреть спереди, наполовину прикрывают описанные изображения и символы. Эта планировка, напоминающая живописное убранство некоторых апсид, усложнена добавлением второй фигуры Христа на перемычке двери, где Он представлен как божественный жених, открывающий дверь мудрым девам, закрывая ее в то же время для неразумных дев.
Собственно портал обрамлен своеобразным наружным портиком, состоящим из небольших павильонов, расположенных друг над другом. Это можно сравнить с архитектурной отделкой римской триумфальной арки. В двух самых больших павильонах находятся статуи св. Иоанна Крестителя и св. Иоанна Евангелиста. Традиционная связь между этими двумя святыми имеет такое же отношение к присутствию Христа в тимпане, как альфа и омега идеограмм – к христианскому символу. Над этими статуями в двух других павильонах наружного портика расположены два ангела, возвещающие трубными звуками о Воскресении мертвых; со стороны каждого из них мужчины и женщины покидают могилы и облачаются в свои одежды [95]95
Что означает «надевание» их новых тел.
[Закрыть]. Под статуями св. Иоаннов и вплоть до верхней опоры портала шесть других павильонов, или вместилищ, содержат рельефы, представляющие благотворительные деяния. К этим основным элементам изобразительного декора добавлены другие украшения в форме животных и растений, о которых будет сказано ниже.
Иконография производит впечатление в некоторой степени двузначной; св. Иоанн Евангелист представлен дважды: один раз в группе из четырех евангелистов на опорах портала, а другой – в симметричной св. Иоанну Крестителю оппозиции на краю архивольта. Эта очевидная нелогичность, тем не менее, легко объяснима тем, что два образа, принадлежащие двум различным иконографическим группировкам, соответственно относятся к статическому (или пространственному) и циклическому (или временно́му) аспекту символики двери. В действительности, четыре евангелиста символически соответствуют четырем опорам – или углам, – на которых основано сакральное здание, так как представляют «земные» опоры проявленного Слова и тем самым отождествляются не только с краеугольными камнями церкви [96]96
Вообще говоря, апостолы идентичны колоннам Церкви, в соответствии с описанием Небесного Иерусалима: его стены укреплены 12 колоннами, несущими имена апостолов (Отк. 21.14). Небесный Иерусалим – это прототип христианского храма. Подобная иконографическая тема – статуи евангелистов образуют колонны портала – обнаружена во многих других романских церквях Франции и Ломбардии.
[Закрыть], но и с основами космоса в целом, т. е. с четырьмя элементами и их первопричинами, и сокровенными, и всеобщими. Эта аналогия обнаруживает свое наиболее древнее и наиболее непосредственное образное выражение в живописном или мозаичном украшении некоторых сводов, где образ Христа Пантократора доминирует в центре купола, поддерживаемый изображениями или символами четырех евангелистов, расположенными на парусах, соединяющих купол с углами здания. [97]97
Например, в церкви Сан Витторио в Ciel d’Oro с ее мозаичным куполом V в. Эта церковь включена теперь в комплекс базилики Сан Амброджио в Милане.
[Закрыть]Хотя земля зависима от Неба, или космос – от своего Божественного Закона, тем не менее, последний должен заботиться о земном, или космическом, порядке, если он призван проявить себя в нем во всей полноте, через «нисхождение», благодаря которому он приносит спасение. Эту онтологическую связь, в силу самой природы вещей, выражает статический план храма, и аналогичное явление мы обнаруживаем в уменьшенном масштабе в элементах портала, где тимпан соответствует своду, а четыре вертикали опор – четырем углам здания.
«Статический», или символический пространственный, аспект космоса – или божественного Откровения – в известном смысле противопоставлен циклическому, или временно́му, аспекту. Последний символизируется в рассматриваемой иконографии двумя св. Иоаннами, предтечей Христа и апостолом Апокалипсиса. Их миссии отмечают соответственно начало и конец цикла откровения Слова Божия на Земле, точно так же, как их праздники, выпадающие приблизительно на зимнее и летнее солнцестояния, соответствуют двум «поворотным точкам» солнца. А солнце как таковое – это космический образ Света, «который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1.9) [98]98
«…А что можно сказать о солнечном свечении самом по себе? Это ведь свет, исходящий от Добра, и образ Благости. Поэтому и воспевается Добро именами света, что Оно проявляется в нем, как оригинал в образе. Ведь подобно тому, как Благость запредельной для всего божественности доходит от высочайших и старейших существ до нижайших… – точно так же и проявляющий божественную благость образ, это великое, всеосвещающее, вечносветлое Солнце, ничтожный отзвук Добра, и просвещает все способное быть ему причастным, и имеет избыточный свет, распространяя по всему видимому космосу во все стороны сияние своих лучей» (Дионисий Ареопагит. О божественных именах. Ч. 4 / Пер. Г.М. Прохорова. – СПб., 1995).
[Закрыть]. Аналогия между двумя св. Иоаннами и двумя солнцестояниями в портале св. Галла выражена посредством их расположения по бокам архивольта, который во многих других порталах, украшенных знаками Зодиака, отождествляется с солнечным циклом.
Два солнцестояния называются «дверями» (januae), потому что через них солнце «вступает» в восходящую или нисходящую фазу своего ежегодного путешествия, или потому, что две противоположные космические тенденции «входят» через них в земной мир, претворяя, таким образом, временну́ю реальность в соответствующий пространственный символизм двери. Здесь важно вспомнить символику Януса. [99]99
См.: Renй Guйnon, «Les Portes solsticiales» («Etudes Traditionnelles», May 1938); «Le Symbolisme du Zodiac chez les Pythagoricien» (ibid., June 1938); «Le Synbolisme solstitial de Janus» (ibid., July 1938); «La Porte étroite» (ibid., December 1938); «Janua Coeli» (ibid., January-February 1946).
[Закрыть]Янус был божеством-покровителем collеgia fabrorum, чье наследие, почти несомненно, перешло к ремесленным корпорациям средневековья. Два лика Януса стали отождествляться в христианстве с двумя св. Иоаннами, тогда как третий лик, невидимый и вечно сущий лик Бога, проявился в личности Христа. Два ключа, из золота и из серебра, – неотъемлемая принадлежность древнего бога Инициаций – появляются вновь в руке св. Петра, как в рельефе на тимпане нашего портала.
Мы убедились, что циклический аспект откровения Слова предполагает порядок, обратный порядку его «статического», символически пространственного, аспекта, поскольку является причиной «поглощения» земного мира миром небесным, следующего за разделением между возможностями, поддающимися трансформации, и возможностями, которые должны быть отвергнуты. Такова позиция, подразумеваемая в отдельных элементах иконографии, таких, например, как трубящие ангелы. Притчу о мудрых и неразумных девах, представленную на перемычке двери, эта точка зрения связывает непосредственно с функциональным смыслом двери как таковой, поскольку жених Христос стоит на пороге двери в Царство Небесное, некоторых приглашая пройти, а другим отказывая в этом. Кроме того, у ног этого образа Христа расположен геометрический центр всего сооружения портала, план которого может быть вписан в круг, разбитый на 6 и 12 частей (рис. 22). [100]100
См.: P.-Maurice Moullet, «Die Galluspforte des Basler Mьnsters», Holbein Verlag (Basle), 1938. Следовало бы вспомнить, что пропорции сакрального сооружения обычно являются результатом гармоничного деления основного круга, символа небесного цикла. Благодаря этой процедуре пропорция, утверждающая Единство в пространстве, сознательно соотносится с ритмом, который выражает Единство во времени. Именно этим объясняется гармония романских порталов, одновременно и очевидная, и иррациональная: их измерения ускользают от количественного принципа числа.
[Закрыть]

Рис. 22. Геометрическая схема романского портала Базельского собора
Дверь – это не что иное, как Сам Христос. Это отрывок из Священного писания, переданный посредством изображений шести деяний милосердия, поскольку они являются также неотъемлемой частью темы Страшного суда, после того как Господь упомянет о них во время своего разговора с избранными, а потом – с осужденными на муки ада. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне… Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». А осужденным Христос скажет: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный… ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и вы не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Матф. 25. 34–43).
Милосердие, в таком случае, – это узнавание в творениях несотворенного Слова. Ибо творения не обнаруживают своей истинной природы, за исключением того, что они бедны и убоги, т. е. очищены от притязаний и от каких бы то ни было способностей, приписываемых самим себе. Тот, кто признает присутствие Бога в соседе, осознает его в себе. Это означает, таким образом, что духовная добродетель приводит к союзу с Христом, Который есть Путь и Божественная Дверь. Порога этой Двери не переступит никто кроме того, кто сам станет этой Дверью. В мифе о посмертном странствовании души в Каушитаки упанишаде это выражено следующим образом: когда душа достигает Солнца, оно вопрошает ее относительно ее подлинной сути, и только когда душа отвечает: «Я – это Ты», – Солнце позволяет ей вступить в божественный мир. Та же истина обнаруживается вновь в истории персидского суфия Абу Йазида ал-Бистами, который после своей смерти явился другу во сне и рассказал ему, как он был встречен Богом. Господь спросил его: «Что приносишь ты мне?» Абу Йазид перечислил свои добрые деяния, но ни одно из них не было принято; тогда он, наконец, сказал: «Я вручаю Тебе Тебя Самого», – и только тогда Бог признал его. [101]101
В суфизме Абу Йазид ал-Бистами является одним из тех, кому открылось «высшее тождество».
[Закрыть]


![Книга Нищита интеллигенции, или Тело власти III [опыт рефлексии комплекса бытия] автора Сергей Кутолин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nischita-intelligencii-ili-telo-vlasti-iii-opyt-refleksii-kompleksa-bytiya-273516.jpg)