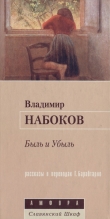Текст книги "Мир итальянской оперы"
Автор книги: Тито Гобби
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Джильда, переодетая юношей, в высоких сапогах, в плаще и шляпе, нерешительно подходит к лачуге и, приникнув к щели, подслушивает разговор брата с сестрой. В это время обсуждается план: Риголетто, когда он вернется с деньгами, надо убить, а красивого молодого человека отпустить на все четыре стороны. Девушка даже благодарна бессовестной Маддалене за то, что та хочет спасти юношу. «О доброе сердце!» – говорит Джильда. Но поскольку жизнь возлюбленного будет куплена смертью ее отца, она решает принести себя в жертву и отдаться в руки неумолимых брата и сестры.
В большом трио, которое исполняется в сопровождении одного лишь ритмического аккомпанемента бури, Джильда изливает свою раздираемую страстями душу. Драматическое crescendo наступает в тот момент, когда она отдает себя в руки убийц. В миг убийства раздается крик Джильды, и, когда злодейство свершилось, буря стихает.
Под крышей таверны Джильду засовывают в заранее приготовленный мешок, и Спарафучиле выносит его на плечах, чтобы отдать нетерпеливо ожидающему Риголетто. В этом месте, когда героиню снова несут по сцене, надо опять-таки соблюдать осторожность. На одном из представлений очаровательная, но весьма упитанная Пальюги оказалась слишком тяжелой для несчастного Спарафучиле, и он не мог оторвать мешок от пола. Слава богу, певец оказался сообразительным. Он взял нож и пропорол дно мешка. Таким образом, Джильда благополучно добралась до меня, ковыляя на собственных ногах.
История противоположного свойства произошла с чересчур хрупкой Джильдой. Мощный бас легко вскинул мешок на плечо, и с такой же легкостью Джильда выскользнула из него, ударившись головой о пол.
В последней сцене Джильда лежит, опираясь на камень, и полный отчаяния голос отца возвращает ей сознание. Девушка уже не чувствует ни усталости, ни боли, она испила всю чашу человеческих страданий, и, веря, что на небесах ее ждут ангелы, Джильда сама поет ангельским голосом, возносясь на крыльях божественной, небесной музыки Верди.
Теперь перейдем к Герцогу Мантуанскому. Вам может показаться странным, если я попытаюсь хоть немного его защитить. Конечно, Герцог распутный гуляка, но он – продукт своей эпохи и своего положения. Молодой, красивый, веселый, обладающий безграничной властью, он, естественно, страшно избалован. Женщины от него без ума, придворные наперебой льстят, одобряя каждую его новую выходку или дебош. Он как молодой жеребец, выпущенный на волю. Дворянки, уличные женщины, наивные девушки – ему все равно, за кем волочиться в поисках новых приключений.
Как я представляю его себе внешне? Мягкая бородка обрамляет красивое, постоянно улыбающееся лицо с приятным выражением и блестящими глазами. Когда он у себя во дворце, то роскошно одет – лучше всего для его костюма выбрать белое с золотом. Он в совершенстве познал науку нравиться женщинам; когда он появляется – гордая осанка, обаятельная улыбка, – вокруг него прямо-таки разливается очарование. Конечно, Герцог безжалостен. На него не производит никакого впечатления факт, что последняя его жертва оказалась дочерью его шута. Но, желая хоть как-то защитить Герцога, я вспоминаю прекрасную арию из второго действия, в которой он страстно предается странному, сладкому, доселе неизведанному чувству. Его внутренний мир здесь овеян дыханием невинности – может быть, так повлияла на него встреча с ангельски чистой Джильдой.
Когда вместе с хором входят Борса, Марулло и Чепрано, он вначале слушает их рассказ с удивлением и любопытством, но затем, при известии о похищении Джильды, его охватывает радость. Кабалетту с хором, которая идет вслед за этой сценой, иногда купируют. Очень жаль, поскольку она проливает хоть какой-то свет на образ мыслей нашего героя. Но боюсь, этот свет не настолько ярок, чтобы можно было найти достаточно убедительные аргументы в защиту Герцога.
В знаменитой балладе «Та иль эта – я не разбираю» он выставляет напоказ свои чувства, объясняет всем свои теории о любви и хвастается любовными приключениями. Как человек, хорошо владеющий шпагой, Герцог абсолютно равнодушен к опасности. И хотя в его натуре, безусловно, есть что-то низменное, одна черта, которая доминирует над другими, делает роль весьма соблазнительной для актера. Эта черта – неуемная веселость, живость, которую невозможно подавить ничем. Герцог должен быть очень подвижным, активным, не слишком жеманным, поскольку он не особо изнежен и не излишне напыщен. Он движется по своему дворцу, саду Риголетто, таверне Спарафучиле с неизменной свободой и изяществом. Он всегда готов посмеяться – вместе с кем-то, над кем-то или над целым миром, – не задумываясь о чувствах других людей.
Я сочувствую коллегам-тенорам, потому что, как ни пытаюсь, не могу придумать оправданий поступкам Герцога. Роль тем не менее очень интересна драматически, сложна музыкально и весьма выигрышна. Главное для актера – передать естественность и непринужденную живость своего героя. В партии Герцога великолепные арии и богатые россыпи высоких нот. Роль в целом приятно контрастирует с доминирующим в опере трагическим началом.
Настало время поговорить о Риголетто – трагическом шуте с сердцем, полным истинных чувств. Конечно, можно перечислять его грехи, но способность любить в Риголетто столь же велика, сколь тяжки страдания, которые преследуют шута всю его злосчастную жизнь.
Его появление в первом акте должно быть подобно взрыву. Музыке надо дать определенную свободу, не следует придерживаться очень строгого ритма; актер тогда сможет сыграть сцену появления шута по-настоящему захватывающе. Риголетто стремительно выбегает на сцену, с громким хохотом пробирается сквозь толпу придворных, его смех как бы катится вниз – от верхних, полных иронии нот к нижним, «жирным» звукам, – короткий и резкий, как удар хлыста. И тут же он задает оскорбительный вопрос: «Над лбом что у вас, милый граф мой Чепрано?»
Риголетто – человек отчаявшийся, и потому он не выбирает средств, защищая свое место при дворе; он вынужден совершать неблаговидные поступки и наносить оскорбления. Риголетто рассчитывает на покровительство господина; только благодаря службе у него он может заботиться о дочери, добывать для нее средства к существованию. Дочь единственное существо, для которого он живет, и ради нее он готов на все.
Задача Риголетто при дворе – развлекать Герцога, рассеивать скуку. Шут уже истощил свою фантазию и вместо острот рассыпает оскорбления; он устраивает представление – что-то вроде издевательского судебного процесса. Затем он оскорбляет Монтероне – страдающего отца, жертву Герцога, опускается до непростительных низостей, чтобы развлечь придворных. А эти придворные потом сыграют с ним ту же злую шутку, чтобы отомстить ему за насмешки. Когда в конце концов Риголетто вызывает на свою голову отцовское проклятие Монтероне, его охватывает ужас. С этого момента шут исчезает, остается обезумевший, охваченный страхом отец.
Поскольку Риголетто ведет двойную жизнь, его внешний вид, его костюмы имеют большое значение. «Домашний» костюм Риголетто должен быть темным и скромным. Дома у него небольшой горб, который почти незаметен под воротником. На нем темное трико и туфли с тупыми носами, длинный темный плащ с прорезями для рукавов куртки, которые он пропускает через эти прорези, на поясе – кошелек. Плотная, облегающая голову шапочка, заостренная на лбу и закрывающая сзади всю шею. Этот костюм мы видим на Риголетто в последнем действии.
Второй костюм – одеяние шута. Богатый, пестрый, длинные рукава с бахромой, плотно облегающий камзол, который свисает намного ниже талии. Горб гораздо больше, чем его собственный, из-за этого и живот кажется огромным, шут похож на обезьяну-бабуина. Голова опущена на правое плечо, что заставляет его все время как бы подаваться вперед, выставляя подбородок, который к тому же украшен козлиной бородкой. Орлиный нос – искривленный, как будто когда-то его перешибли. Челка седых волос – в полной симметрии с козлиной бородкой; остальная часть парика – длинная, плотная – ниспадает на шею. Я так подробно останавливаюсь на внешних приметах, потому что они сильно влияют на общее сценическое впечатление.
Я, как правило, прикладывал толщинку к левой лодыжке и подтягивал ее к колену под пестрым трико – таким образом я добивался того, что левая нога у меня была согнута, а стопа вывернута внутрь. Представляете, как это неудобно! Но неприятные ощущения прибавляли достоверности игре, к тому же я становился ниже (а рост у меня изрядный) и был действительно похож на искривленного уродца, на шута, каким его обычно изображают на картинках.
Кукла, которую Риголетто держит в руках, сделана из папье-маше, – она воспроизводит черты Риголетто. Одетая в костюм, украшенная пестрыми лентами, она надета на палочку. Когда Риголетто выступает в роли шута, кукла всегда при нем; изрекая наиболее жестокие, оскорбительные шутки, он иногда обращается к ней.
Я сам сделал себе куклу, она очень нравилась мне, но оказалась слишком тяжелой. Обошлось это мне недешево. В Каире, разыгрывая драматическую сцену с придворными, я так увлекся, что со всей силой швырнул куклу в кого-то из них и поранил одного из хористов. Он попал в больницу с сильным ушибом. И хотя жизни его ничто не угрожало, он разыграл настоящую трагедию. Разумеется, я выплатил ему полную компенсацию, но мне пришлось расстаться с куклой и выступать с резиновым паяцем. Теперь старая кукла хранится вместе с моими театральными костюмами в шикарном помещении Музея Бассано-дель-Граппы (в моем родном городе).
Но вернемся к драме. После ужасной сцены при дворе Риголетто, дрожа от страха, спешит к дочери и неподалеку от дома встречает Спарафучиле. Именно здесь убийца предлагает шуту свои услуги: он человек полезный, может убрать врага за достаточно скромное вознаграждение. Сначала Риголетто отталкивает его, но затем поддается искушению и выслушивает Спарафучиле – кто знает, если возникнет реальная опасность, может быть, ему придется воспользоваться услугами убийцы. Он спрашивает, где можно будет найти Спарафучиле в случае... «Но где же тебя найти могу?» Потом он отстраняет убийцу и несколько раз повторяет: «Ступай, ступай».
Я помню, как в 1947 году, в Стокгольме, великий дирижер Антонио Гварньери перевернул мои представления об этом дуэте. Мы с Чезаре Сьепи, который был великолепным Спарафучиле, проводили первую репетицию. Нам казалось, что все идет гладко, как вдруг, в конце дуэта, дирижер устроил настоящую бурю – обвинения и проклятия посыпались на наши бедные головы. «О чем вы думаете? Вы что, заснули на сцене? Этот дуэт надо петь с ощущением тайны, а в голосе Риголетто должен чувствоваться ужас». В этой сцене удвоенные басы играют прелестную мелодию, а наши голоса, как сообщил нам Гварньери, должны быть еле слышны, чтобы передать атмосферу таинственности происходящего.
Мы с Чезаре были просто ошеломлены, но почувствовали, что нам открылось новое окно в мир вердиевской музыки. Мы попытались спеть так, как учил маэстро, и дуэт зазвучал совсем по-другому – так прекрасно, что оркестранты начали аплодировать дирижеру.
После ухода Спарафучиле Риголетто в большом монологе «С ним мы равны» здраво и жестко оценивает сам себя. Шут считает, что он мало чем отличается от убийцы, поскольку его язык обладает столь же губительной силой, как нож разбойника.
Но когда Риголетто входит в калитку своего сада, заходит в дом, вся горечь истаивает, и он снова становится любящим отцом. Он попадает в маленький рай, где живет единственное существо, которому шут отдает всю свою привязанность. Риголетто говорит Джильде: «Вера, семья и отчизна слились воедино в тебе лишь одной».
Как обычно, он отмалчивается на вопросы дочери о его происхождении и жизни вне дома; с глубоким чувством он рассказывает о покойной жене и ее нежной любви. «Не говори о ней со мной». Это место очень трудно петь, тут надо использовать mezza voce и предельно точно контролировать дыхание.
Риголетто озабочен, иногда отвечает на вопросы Джильды достаточно резко. Наконец, приказав Джильде никуда не отлучаться, он зовет коварную Джиованну и поручает ее заботам свой «нежный цветок». «О, береги цветок мой нежный» – эта фраза требует чрезвычайно точного пения, она звучит в высокой части регистра; сопрано присоединяется к баритону – мы слышим нежный дуэт allegro moderato assai – эта помета композитора очень важна (но чересчур замедлять темп нельзя ни в коем случае).
Почти успокоившись, бедный Риголетто собирается уходить, не догадываясь о том, что Герцог вот-вот объявится в его доме, а придворные уже готовят ему свой сюрприз. Убежденные, что Риголетто посещает любовницу, придворные собираются похитить ее, чтобы развлечь своего господина.
Риголетто уходит; однако, словно предчувствуя что-то недоброе, возвращается и неподалеку от дома сталкивается с придворными. В ответ на его подозрительные расспросы они рассказывают, что хотят похитить жену графа Чепрано. Риголетто не колеблясь присоединяется к ним, благодаря судьбу за то, что его дочери не грозит опасность. Он уводит придворных подальше от своего дома; следуя общему примеру, разрешает надеть на себя маску, позволяет завязать глаза. Придворные морочат ему голову, сбивают с толку, и в конце концов он теряет ориентацию. Затем придворные просят его подержать лестницу, приставленную к стене дома. Лишь после того, как Джильду уже похитили Риголетто понимает, что он сам, своими руками помог выкрасть любимую дочь.
Объятый ужасом, он вбегает в дом, мчится наверх громко призывает Джильду, и голос его похож на вой раненого животного. Затем он выбегает из дома и падает, потрясенный воспоминанием о проклятии Монтероне.
В дни юности я стремился как можно эффектнее упасть в этом месте; в доме была небольшая мраморная лестница, и я падал с нее. После таких падений я ходил весь в кровоподтеках, и моя семья взбунтовалась. Но к моменту генеральной репетиции я отработал метод падения и, никого не предупредив о своих блестящих достижениях, издав полный отчаяния крик: «Ах, старца сбылось проклятье!», покатился по лестнице – от ее начала до конца, – сопровождаемый воплями ужаса коллег. Однако маэстро Серафин остался совершенно равнодушен к моим «подвигам» и сказал: «Ваш трюк был бы неплох в цирке Барнума, но для Верди это, пожалуй, чересчур». Он разрешил мне падать только с высоты последних ступенек. Предполагается, что Риголетто в эту ночь блуждает по улицам в бесплодных поисках дочери. А ранним утром приходит во дворец, в комнате карликов переодевается в костюм шута и, собрав все оставшиеся силы, идет в покои придворных в надежде узнать хоть что-то о пропавшей дочери.
«Ла-ра, ла-ра», которое оповещает о его приходе, поется устало, разлаженно (allegro assai moderato). В этих звуках уже ничего не осталось от шутовства, в них только жалоба. Со стиснутыми зубами он отвечает на иронические приветствия придворных и горько укоряет Марулло. Затем входит Паж, и происходит быстрый обмен репликами между ним и придворными. Тут Риголетто начинает догадываться, что реально произошло, и полностью теряет самообладание.
«Он любовницу ищет в герцогском покое», – сообщают придворные, на что Риголетто в диком отчаянии отвечает: «Дочь мне отдайте!», бросается на придворных и вступает с ними в жестокую, неравную схватку. Его швыряют на пол, он припадает к Марулло, умоляя того сжалиться, – Риголетто верит, что Марулло добрее, чем остальные, – но никто не отвечает. Перед этим всеобщим молчанием Риголетто беспомощен, его душат рыдания. И вот, когда Риголетто плачет у ног придворных, на сцену выбегает Джильда, узнает отца и, окаменев, останавливается – она прозревает, догадывается, кто он на самом деле. Здесь вершина трагедии.
Я так часто играл эту страшную сцену, что пользуюсь правом предупредить исполнителя: выражая страшную боль, полное смятение чувств, актер все же не должен терять самоконтроль, ведь ему еще потребуются силы на мощную властную вспышку, когда он будет прогонять придворных со сцены. А после этого страшного возбуждения и напряжения ему надо слабым, полным слез голосом спеть проникающие в душу слова: «Правду скажи мне».
Очень трудно сдерживать чувства в сценах, подобных этой, но самоконтроль необходим, к тому же здесь постоянно идет crescendo, которое достигает кульминации в дуэте «Да, настал час ужасного мщенья» – чуть позднее. Здесь также требуется настоящая мощь, чтобы передать взрывы ярости и тоски, все перемены чувств, столь внезапные и столь мастерски описанные Верди. Секрет исполнения – в ясной артикуляции и в вокальной выразительности, богатой нюансами и оттенками чувств. Если делать упор на качество, а не на количество звука, это сделает партию вокально менее утомительной и даст выигрыш в психологическом и драматическом эффектах.
Не знаю, как сейчас, но в мое время зрители часто требовали повторения сцены мести. В Парме, где считают (не знаю, по праву или нет), что их слушатели самые сведущие и суперпрофессиональные, эпизод мести оказывался самым трудным в опере. Помню, публика принимала нас весьма умеренно, можно даже сказать, прохладно, и мои нервы начали сдавать. Но в конце эпизода мести мне показалось, будто в зале произошло землетрясение. После спектакля многие зрители последовали за мной в ресторан, и мы провели часть ночи в высокопрофессиональной беседе. Они объяснили мне, что не хотели вначале аплодировать, так как желали посмотреть, как я проведу роль в целом, хватит ли у меня сил добраться до конца!
Судьба неумолимо преследует наших героев. Первые девять тактов, которые начинают последнее действие, звучат скорбно и безутешно в своей простоте и драматической экспрессии. Диалог между Риголетто и Джильдой протекает очень медленно, невыразительно, без света и надежды. Они идут как бы придавленные к земле страшной тяжестью, их шаги полны усталости. Пейзаж вокруг пустынный, какие-то мантуанские болота, над головой свинцовое небо; этот вид разрывает душу и отнимает у человека последние силы.
Риголетто по-прежнему хочет отомстить, но жажда мести уже не приносит ему удовлетворения. Его фразы теперь приобретают тон покорности, смирения, все чувства охватила страшная усталость. Короткие реплики Риголетто, обращенные к Спарафучиле, звучат более решительно. Но в душе его все мертво. Отец и дочь медленно погружаются в волны неизбежной судьбы. Верди видел перед глазами, изображал и пел все, о чем он писал. Певцу важно лишь осветить предложенную ему интерпретацию, те сокровища, которые даются ему в руки. Некоторые короткие эпизоды, музыкальные и сценические, будучи разбросанными по всей опере, имеют особую важность для движения драмы и развития характеров. Все аспекты образа Риголетто очень реальны и достоверны. Актеру надо лишь думать о психологических причинах поступков героя, внимательно следовать за развитием и изменением его мыслей, жить и страдать вместе с ним в этой грандиозной трагедии, и тогда он заставит публику сопереживать и сострадать.
В последней сцене мне всегда хотелось замедлить темп, когда я пел: «Что за тайна... скажи... что здесь случилось?», а фразу «Но кто убийца?» я как будто заколачивал, подчеркивая, что Риголетто восстал в душе против Бога и всего человечества. Потом Риголетто поет, держа на руках умирающую дочь. Это дивная мелодия, вместе с которой душа Джильды устремляется к небу. А во время восходящей хроматической гаммы я обычно поднимался, и мой уродливый силуэт четко вырисовывался в свете пробуждающегося дня; собрав последние силы, со всей мощью дыхания я пел: «Ах, вот где старца проклятье!» – и замертво падал на труп Джильды. В либретто не указано, что Риголетто умирает, но мне такой конец всегда казался естественным. По-моему, для бедного шута гораздо лучше умереть, чем бесплодно доживать оставшиеся дни и рвать на себе в отчаянии волосы. Лучше смерть – и наше сочувствие.
ГЛАВА 9. «ТРАВИАТА»
Около двадцати пяти лет назад я спел за один сезон в сорока двух представлениях «Травиаты» – на разных сценах и с самыми разнообразными Виолеттами. Исходя из собственного опыта, могу подтвердить, что опера невероятно популярна и все новые поколения слушателей жаждут услышать «Травиату».
В те годы, разумеется, было много певиц, которые создали яркий, запоминающийся образ Виолетты. Каждая из них обладала своей индивидуальностью: одна героиня тончайшими штрихами отличалась от другой; и все эти певицы имели право на партию Виолетты. Мне хотелось бы особо отметить Клаудию Муцио, Марию Канилья, Маргериту Карозио, Мерседес Капсир, блистательную Ренату Тебальди, Магду Оливеро, но прежде всего – несравненную Марию Каллас. По ту сторону Атлантики эту партию пели обворожительная Биду Сайяо, Беверли Силлз, затем появились юная Анна Моффо и многие другие. Список бесконечен, потому что образ Виолетты – один из самых чарующих; среди женских партий эта – одна из самых интересных. Каждая исполнительница может проявить здесь свою неповторимость, обнаружить природную эмоциональность, оставаясь при этом абсолютно верной партитуре.
Мысленно возвращаясь в прошлое, не могу представить себе, чтобы за всю историю исполнения "Травиаты" кто-нибудь из певиц пел первый акт так, как звучал он у Марии Каллас в самом начале 50-х годов. Позднее, может быть, она еще успешнее пела эту партию, может быть, еще более тонко исполняла саму роль, но тот вдохновенный блеск колоратуры, ту красоту, то волшебство, какие царили в ее пении тогда, в начале 50-х годов, просто невозможно описать. Прибавьте к этому совершенную дикцию, удивительную окраску звука, тончайшую нюансировку, а главное – силу чувства. Такое можно услышать только раз в жизни. Тот, кто слышал ее тогда, стал обладателем счастливого билета!
Я считаю Марию своим другом, а не только коллегой, и, смею надеяться, она тоже относилась ко мне как к другу. Мне кажется, на сцене я всегда понимал ее – насколько это возможно. К тому же мне удалось, по-моему, понять что-то и в ее натуре. Прежде всего и во-первых это была настоящая "дива", она существовала вне обычных условностей. Марии принадлежало уникальное место в музыкальном мире, она стояла выше всех – даже если рассматривать самый верхний ряд. От Марии требовали невозможного, она ежеминутно обязана была доказывать свое превосходство, в противном же случае считалось (и не только слушателями, но и ею самой), что она "провалилась". Естественно, такое положение приводит к полному одиночеству и рождает чувство ответственности настолько сильное, что его практически невозможно вынести.
Для певца постоянное стремление к совершенству особенно жестоко, потому что в отличие от других исполнителей-музыкантов певец сам является своим собственным инструментом. Если певец болен, болен и его голос. Если певец неспокоен, напряжен, такое же напряжение испытывает его голос. Если певец дрожит от страха, только самая надежная техника может спасти его голос от того же "дрожания".
Самоуверенные критики любят утверждать: "Если у вокалиста хороший, правильно поставленный голос, он всегда в состоянии петь хорошо". Однако все не так просто. Ведь ситуацию определяет много добавочных факторов. Вспомним хотя бы то обстоятельство, что оперному певцу приходится не только петь, но и играть как актеру. И его игра не состоит в одном лишь прямом действии. Весь смысл происходящего должен содержаться внутри музыкальной формы. Вы не можете сделать паузу на каком-то слове, чтобы увеличить драматический эффект. Музыка не позволяет вам прибегать к декламации. Нельзя, к примеру, произнести "быть", затем сделать паузу, в задумчивости прижать руку ко лбу, чтобы усилить эффект, и только потом продолжить "или не быть". Необходимо полное соединение действия и вокала. У Каллас это соединение было подобно чуду. Ее отличали безошибочные музыкальный и драматический инстинкты, а ее самоотдача просто не поддается описанию. Именно поэтому она не выносила на сцене дураков, особенно в начале творческого пути – в беспокойное для нее время. Да, собственно говоря, почему она должна была относиться к ним иначе? Ведь Каллас никогда не требовала от других покорения вершин, к которым не стремилась сама.
Абсурдно утверждать, будто Мария никогда не вела себя безобразно. Она действительно отличалась взрывным темпераментом, как говорили многие. Кое-когда она бывала не права; многие истории, которые о ней рассказывают, чистый вымысел. Но в большинстве случаев ее реакции можно понять и оправдать. Вот вам, например, один эпизод, о котором много писали, в прессу проникли даже фотографии. Это произошло в Чикаго. Какой-то парень, настолько невоспитанный, что даже не догадался снять шляпу, разговаривая с женщиной, пытался вручить ей повестку в суд как раз в тот момент, когда она уходила со сцены. Мария встретила его попытку словами, полными бешенства, и была абсолютно права. Как мог позволить себе этот олух задержать человека, который только что выдал девяносто девять процентов всего, чем обладал в жизни, который полностью отдал себя искусству и публике? Предположим, она не сполна заплатила налоги, но ведь можно было пару часов и подождать. Подходить в такой момент с подобным делом к артисту – в высшей степени недостойно.
Моя единственная серьезная размолвка с Марией произошла тоже в Чикаго, в 1954 году. Наверное, стоит подробно рассказать о ней, поскольку я могу поручиться за правдивость изложения. Кроме того, мне хочется показать, какие страсти иногда бушевали в предельно наэлектризованной атмосфере, создававшейся вокруг такой противоречивой личности, как Мария. Шла Травиата". Мы спели второй акт, великолепные дуэты Виолетты и Жермона-старшего. Все прошло великолепно. Мария ушла за кулисы. Последовала короткая сцена между Альфредом и отцом, я спел "Ты забыл край милый свой...". На этом действие кончается. Начал опускаться занавес, и вдруг что-то заклинило в механизме: одна половина занавеса пошла вниз, а вторая осталась наверху, потом, к большому удовольствию публики, произошло обратное. Рабочие сражались с техникой, а мне кто-то прошептал из-за кулис: "Мистер Гобби, пожалуйста, уйдите со сцены, а потом выходите на поклоны. Мы пока будем чинить эту проклятую машину".
Я пару раз огляделся в поисках Марии и тенора и, не обнаружив их, вынужден был выйти один. Публика наградила меня бурными аплодисментами. Уголком глаза я увидел мужа Марии, Баттисту Менегини, кинувшегося к ее гримерной. Вскоре Мария присоединилась ко мне, и мы вышли на поклоны. Этот выход оказался последним, так как занавес наконец подчинился. Мы разошлись по своим гримерным.
Антракт затянулся; кто-то зашел ко мне и сказал, что мадам Каллас страшно злится на меня и просит зайти к ней. Я пошел к Марии, а Менегини как раз в это время вышел из ее гримерной.
– Говорят, Мария, что ты на меня сердишься, – сказал я, – в чем дело?
– Ну-ка закрой дверь, – приказала Мария, как будто я состоял в штате ее прислуги, и добавила: – Ты должен понимать, что я никому не позволю соперничать с успехом моей "Травиаты". Если ты еще раз позволишь себе нечто подобное, я испорчу тебе карьеру.
Можете себе представить, какой глубокий вдох мне пришлось сделать после ее тирады. Затем я весьма миролюбиво ответил:
– Ты, пожалуй, поступила правильно, попросив меня прикрыть дверь. А теперь послушай. Во-первых, я всегда считал, что "Травиата" принадлежит Верди. А что касается истории с занавесом, я поступил так, как мне казалось правильным, никакой задней мысли у меня не было. Я и не думал "ущемлять права" моих коллег. Ты обещаешь испортить мою карьеру, но это просто чепуха. Разумеется, ты обладаешь огромной властью в оперном мире, но я тоже чего-то стою, и не забывай: я появился на сцене на десять лет раньше, чем ты. У тебя осталось минуты три, чтобы прийти в себя, потом надо будет идти на сцену и продолжать спектакль. В противном случае мне придется объяснить публике причину твоего отсутствия, и – ты прекрасно знаешь – я расскажу все.
После этого я оставил ее в одиночестве. Через две минуты она прошествовала мимо моей гримерной на сцену.
Третий акт прошел великолепно. Перед началом последнего действия я, как обычно, направился на сцену, чтобы еще раз посмотреть на расположение декораций. Был включен только рабочий свет. Неожиданно из угла, где в тени стояла кровать Виолетты, раздался сдавленный голос Марии. Она спросила на венецианском диалекте:
– Тито, ты сердишься на меня?
– О, Мария, – вопросом на вопрос ответил я, – ты уже здесь?
– Да. А ты все еще сердишься?
– Нет, Мария, не сержусь, – признался я более или менее искренне.
В этой маленькой оливковой ветви мира, которую она протянула мне, было нечто столь наивное, детское и трогательное, что только очень жестокий человек мог не принять ее.
– Знаешь, – сказал я, – у всех иногда бывают нервные срывы. Забудем об этом.
Больше у нас не случалось никаких размолвок. А впоследствии, бывало, Мария не принимала некоторых приглашений, не заручившись моей поддержкой.
История, о которой я вам поведал, конечно, не особенно типична. Это крайнее проявление сверхтемпераментного характера. Но когда я сказал Марии, что у всех у нас бывают нервные срывы, я не кривил душой. Вспоминаю несколько случаев, когда я расшвыривал вещи в своей гримерной. Надеюсь, никто никогда не напишет об этом, но, если такое случится, не надо проявлять ко мне никакого снисхождения. Я уже говорил о полной самоотдаче Марии, ее безграничной преданности искусству. В этой связи вспоминаю некоторые интересные подробности ее жизни, драматические изменения, которые она претерпела, создавая свой "имидж" в обществе. Помню, в 1953 году, во время записи "Лючии" во Флоренции, когда мы все вместе обедали, маэстро Серафин отважился сказать Марии, что она слишком много ест и рискует растолстеть. Мария возразила, что когда она как следует поест, то потом хорошо поет, да и вес у нее вовсе не такой уж катастрофический.
Весьма нетактично (удивляюсь до сих пор, как я мог это сказать) я заметил, что около ресторана есть весы, и предложил Марии доказать нам свою правоту. Мы пошли вместе. Мария взвесилась, после чего некоторое время пребывала в шоке. Потом она отдала мне сумку, пальто, сбросила туфли и снова встала на весы. Все это мы уже проделывали – каждый в свое время! Результат был устрашающим, и Мария погрузилась в мрачное безмолвие. Когда тебе двадцать пять лет – а ей тогда было примерно столько, – не очень-то приятно весить гораздо больше, чем положено.
В тот год я видел Марию, и то очень бегло, еще один раз, на записи "Тоски". На следующий год мы должны были снова вместе записываться. И вот в одно прекрасное утро иду я из театра, и вдруг меня кто-то окликает: "Тито!". Оборачиваюсь и вижу очаровательную высокую молодую женщину в длинном пальто. Она распахивает пальто и спрашивает: "Ну что ты теперь скажешь?" Только тогда я понял, что это Мария. Изменилась она просто неузнаваемо.