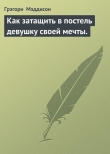Текст книги "До комунизма оставалось лет пятнадцать-двадцать"
Автор книги: Тимур Литовченко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
что не смогла тебя
спасти от зверя отца”
На обратной стороне была еще одна надпись:
“Закатилось навеки
мое ясное солнышко”
– Ее мама всю себя вложила в памятник. Это и правда единственное, что ей осталось, – заметила Соня и потянула его на детский участок, где как-то сразу врезалась в память фотография миленького мальчика в капоре, имя “Акимцев Сашенька” и эпитафия:
“Ребенок для родных не умирает,
он вместе с ними жить перестает”.
Когда они проплывали над почти сравнявшейся с землей могилой человека, о котором крохотная табличка на низеньком, почти ушедшем в землю кресте сообщала лишь, что он:
П А З Ю
Р А
(по поводу чего Соня заметила: “Вот это просто и со вкусом! Как “Люсьен” и “Эстер” в романе”), юноша был уже невыразимо подавлен громадным количеством разнообразнейших трагических судеб, которые, как оказалось, десятилетиями копились на клочке земли, зажатом между самыми заурядными дорогами, садами и огородами... и были совершенно ему неизвестны. Более того – неподозреваемы.
Но дальше дело пошло значительно хуже. Соня повернула в гору и повлекла его на еврейские участки. В глазах зарябило от непривычных надписей на идиш, да и могилки по большей части смахивали на маленькие крепости: бетонные и нешлифованные базальтовые прямоугольники на земле вместо цветников, на маленьком основательном памятнике (весьма напоминавшем то ли нелепый сугробик засохшего по нерадивости строителей раствора, то ли башенку броневика) – крошечное “ласточкино гнездо” с горсткой земли и двумя-тремя цветочками. Впрочем, Юра быстро понял причину столь странной тяжелой архитектуры: более “человеческие” памятники почти без исключения оказались в плачевном состоянии, тогда как с “маленькой крепости” не удалось бы сбить ни табличку, ни фотографию (которой там не было), ни разворотить цветник. Разве что краской облить можно было “башню броневика”, плюнуть или справить на нее нужду, зато против лома или кувалды она бы в любом случае выстояла.
Но вот когда Юра готов был провалиться сквозь землю, так это перед грубо оштукатуренным домиком, за зарешеченным окошком которого (точно в тюрьме) покоился некто Винницкий В.Я.. И все потому, что одну из стенок “мазанки” изуродовала кривая неграмотная надпись, сделанная масляной краской и увенчанная шестиконечной звездой:
МОЙША САРА И РАХИЛЬ
УБЕРАЙСЯ В ИЗРАИЛЬ
– С-св-волочи. С-скоты. Г-гады. Уб-блюдки.
Юноше показалось на миг, что сегодня день открытия новой Сони: если около своего дома он впервые наблюдал ее гнев, то сейчас впервые слышал, как она ругалась. Точно тяжелые камни, слова срывались с ее губ и грузно падали прямо на сердце Юры. И в его помутившемся от стыда неизвестно за кого и за что рассудке возникла дикая мысль: жаль, что он... не такой же, как Соня. Белая неровная стена склепа с проклятой надписью словно бы встала между ними, хоть и оставалась на месте. И он сказал то, что вдруг посчитал обязательным сказать, что просто нельзя было не сказать:
– Соня, ты... извини меня... за это.
Конечно, нелепо было просить прощения за то, чего не совершал.
– При чем здесь ты! – с болью в голосе воскликнула девушка даже не обернувшись. Ее светящиеся руки двигались вдоль букв, как будто желая стереть их.
– Ты не такой. И вообще у нас ведь нет национальностей.
Выручил их рев баяна. Юре и прежде чудилась тихая музыка и голоса, однако он не решался просить девушку прервать “экскурсию”. Теперь же Соня сама обрадовалась возможности отвлечься от оскверненной могилы и сказала довольно бодро:
– А, все равно туполобые подонки были, есть и будут. Нечего думать о них хотя бы в Духов день. Пошли к своим.
И плавно заскользила под гору между памятниками-”броневиками” и каменными “деревьями” с полированными сучьями. Юноша поспешил следом.
Справа показался военный участок со стандартными надгробьями “от исполкома”. Немного повыше братских могил, похожих на траншеи с каменными блиндажиками, у самой дороги возвышалась плита полированного красного гранита, воздвигнутая (как гласила надпись) мамой в честь “единственного чада” Величковского Федора Федоровича, двадцатичетырехлетнего моряка, “трагически погибшего в Севастополе”. И тут же, прямо на цветнике (что, впрочем, нисколько не вредило красивым ухоженным цветочкам) расположилась компания старых знакомых.
Прозрачный босой Чубик в простреленной тельняшке оперся подбородком на шикарный баян и сидел, меланхолически глядя вдаль. Иногда он начинал дремать; тогда руки его опускались, мех инструмента разъезжался в стороны, и баян дико взревывал.
Под правой рукой Чубика находился стакан водки, накрытый куском хлеба с солью, горсть конфет “Старт”, пара сморщенных яблок и полпачки галетного печенья.
Напротив матроса сидела задумчивая Мышка. Миша вытянулся на земле, положив голову на колени девицы. Именно он выглядел наиболее необычно: непрозрачный, как Соня, вместо больничной пижамы – расстегнутая до солнечного сплетения белая рубаха и умопомрачительного покроя белые брюки, легкие парусиновые туфли сменили стоптанные тапочки. И тело его было не голубым, а скорее бело-голубым.
Однако самое странное заключалось совсем в другом. Гитарист развлекал компанию не едкими куплетами о ненавистной ему кукурузе, не “Окурочком”, с которого не сводили глаз “жену задушивший Копалин” и “печальный один педераст”, не “Гаремом”, где нежится султан и не историей об изменщике и “подлом нахале”, облаченном в “самый модный сюртук”, которому обманутая врачиха вырвала в отместку “четыре здоровые зуба” вместо одного больного. И даже не печальной балладой о Маруське “з енституту”, которая вонзила себе в грудь “шешнадцать столовых ножей”, которую затем “в крематорий привезли” и чей “хладный” труп “за счет государства сожгли”.
Отнюдь.
Шевеля парусиновыми туфлями в такт музыке, нежно перебирая струны Миша задушевно и тихо пел нечто совершенно лирическое:
– В городе погасли фонари,
На асфальте шелест шин.
Милая, ты на меня смотри-и,
А не на других муш-ши-ин,
Милая, ты на меня смотри-и,
А не на других муш-шин.
Обрати вниманье на луну,
Вот она среди ветвей.
А в таком таинственном саду-у,
Тянет трели со-ло-ве-ей.
А в таком таинственном саду-у,
Тянет трели со-ло-ве-ей.
Соню и Юру заметила раньше всех Мышка. Она подскочила, замахала руками и позвала:
– Эге-гей, пусюнчик! Соня! Давай к нам!
Взревел баян, и Чубик уставился на приближающуюся парочку совершенно пьяными посоловелыми глазами. Тут и Миша, чья голова соскользнула с колен девицы, перестал петь, гостеприимно повел рукой и предложил располагаться и чувствовать себя как дома.
– А... разве можно сидеть? – недоверчиво протянул Юра, вспоминая с содроганием, как он торчал из пола за спиной у мамы.
– Конечно можно. Ты просто думай о том, что сидишь, а не о том, что проваливаешься вниз.
Впрочем, Соня уже опустилась на корточки возле Мышки. Последовав совету гитариста Юра обнаружил, что сидеть действительно можно и устроился между девушкой и Чубиком, наслаждаясь обретенной под ногами твердой почвой. Летать и проходить сквозь стены, конечно, ново и занятно, но... Зыбко как-то.
Матрос улыбнулся, хлопнул юношу по плечу, показал на стакан и рявкнул:
– Пей!!!
Юра растерялся и промямлил:
– Я не пью... не пил то есть ни разу... в жизни, – потом сообразил, что взять в руки стакан вообще невозможно и добавил: – И так нельзя.
В ответ грянул дружный хохот. Кончики усов Чубика встопорщились и подрагивали. Мышка утирала сухие глаза уголком косынки. Полупрозрачная Мишина гитара странно резонировала, усиливая смех парня.
– Ну ладно, ладно. Надо же когда-нибудь начинать, – сказал успокоившийся наконец гитарист. – Ты уже сидишь? Сидишь. Тебе плохо не посоветуют, верно? С водкой точно так, как и с этим. Представь, что нюхаешь, пьешь. Это здорово, честное слово.
Последнюю фразу он пробормотал довольно невнятно, так что получилось: “Эт’здорово, чесслов”. Чубик наполнился синевой, отпустил взревевший баян, лихо подкрутил усы и крякнул.
– А-а-а-ах, шеб я так жил! (Новый взрыв хохота.) Хорошая водочка!
Он шепелявил сегодня так мягко, точно срывавшиеся с языка слова были пузырящейся газированной шипучкой.
– Ты уже по макушку нализался, – пристыдила матроса девица.
– Налился по макушку, – уточнил Чубик, клюнув носом. – И иду ко дну, как крейсер “Варяг”.
После этих слов матрос заиграл “Наверх вы, товарищи, все по местам!”
– Я вижу, вы помирились, – осторожно сказала Соня, которая явно не одобряла поведение гуляк. Миша вопросительно взглянул на матроса. Тот прищурился, покачал головой и нехотя заговорил:
– Н-ну, товарищ Сталин величайший вождь, кто бы что ни говорил...
Гитарист подавил вздох.
– ...но с другой стороны и Миша парень замечательный, и ше б я без него делал, не знаю. Инструмент он мне организовал просто превосходный, – Чубик погладил баян. – Эй, Миша, давай сбацаем ту, ше ты меня научил. “РыбачкуСоню”.
Матрос хитро посмотрел на девушку. Она вздохнула и отвернулась. Юра подвинулся поближе к ней и робко расправил плечи.
– Не-а. Отказываюсь, – ответил гитарист.
– Сал-лага ты все же, – с сожалением констатировал Чубик. – Хоть и замечательный парень, а салага. Не то ше вот Федя Величковский! (Величественный жест в сторону гранитного памятника, сопровождаемый ревом баяна.) Его и помянуть приходят как положено человеку, и выпить приносят. Ше тут скажешь за Федю? Земляк-моряк, одно слово!
– Так он ведь в Киеве родился, в Севастополе погиб. А ты вроде как из Одессы, – заметила Мышка.
– А, много вы за меня знаете! – вспылил матрос. – Сирота я, вот. Сколько себя помню, по Крыму шатался. Севастополь, Одесса, Феодосия, Керчь – везде был и все Черное море исходил. Яша Чубик отовсюду – и ниоткуда. И Федя земляк, потому ше я и с Севастополя; и в Киеве тоже был, за это я говорил когда-то, как меня с моря списали и в Днепровскую флотилию направили. Так и шлепнули меня фрицы сухопутной крысой.
– Почему сухопутной! Моряки и по рекам плавают, – решился вставить замечание Юра. Чубик смерил его презрительным взглядом и процедил:
– Молчал бы, дважды сал-лага паршивая! Моряки не плавают, а ходят, и не по рекам, а по морю. А речник – тьфу, а не моряк! Речник – все равно ше сухопутный. Мне партия сказала идти, я и пошел.
Он насупился, уставился на стакан с водкой и стал тихонько наигрывать “Раскинулось море широко”.
– А где сам... хозяин? – поинтересовался Юра, косясь на портрет Федора Величковского.
– Мало ли! Думаешь, ему не хочется побродить по земле?
Миша блаженствовал. Руки гитариста гладили струны так же бережно и любовно. как Мышкины ладони – его волосы. В глазах застыло совершенно отрешенное выражение.
– А ничего, что вы его водку нюхаете? – спросил Юра, остро ощутивший вдруг какую-то свою неуместность в этой компании. Юноше пришло в голову, что Миша и Мышка заняты друг другом, матрос совершенно пьян и потому не мешает им, Соня... еще туда-сюда, все же старая знакомая Чубика... но вот он лишний, как ни верти!
– Федя не обидится, – уверенно сказала девица. – Какой водке убыток, если ее нюхают? Это как показать парню ножки до нельзя, а последняя сопливая шалава знает, что за показ денег не берут. И вообще Федя не куреневский жмот, как некоторые.
Юра попытался сказать Мышке что-нибудь резкое (пусть знает, как обзываться жмотом!), но Чубик заорал:
– Ах, Федя, тельняха-парень, душа-человек! – и довольно мелодично пробасил:
– Раз вахту не кончил, не смеешь бросать!
Механик тобой недоволен.
Ты доктору должен пойти и сказать,
Лекарство он даст, если болен.
Его грубые толстые пальцы извлекали из баяна такие звуки, что всем хотелось рыдать над судьбой несчастного больного кочегара, тело которого через несколько куплетов должна была поглотить морская пучина.
– Ну, заладил, – проворчал гитарист.
– В самом деле, давайте повеселее, а то как-то грустно все выходит, – встрепенулась Соня. – Миша, сыграй-ка нам что-нибудь смешное.
– Ага, давай мою любимую: “В пещере каменной нашли наперсток водки”, – заказала Мышка.
– Не получится, – возразил гитарист, помычал и хрипло запел:
– Добры молодцы-менты
рученьки выкручивают,
Струны рвут, гитару топчут,
не дают попеть.
Зря вы, дяденьки сержанты,
инструментик мучаете!
Песня – друг и песня – враг,
это как смотреть.
Вы мне в душу наплюете -
я ее отмою
Звуком чистым, нефальшивым
серебристых струн.
Вы мне глотку разорвете -
думаете, взвою?
Нет, умею я молчать,
пусть я и болтун...
– Если тебе глотку разорвать, ты просто не сможешь издать ни звука, – рассудительно заметила Соня. Миша нехотя возразил, что для искусства сложения песен это не имеет принципиального значения. Но его бесцеремонно прервала девица:
– Да на кой ляд ты вообще завел про ментов?! Менты – суки все до единого! Ненавижу их.
– Я тоже не очень-то люблю, но это непринципиально, – спокойно сказал гитарист.
Мышка отреагировала на его возражение довольно странным образом. Она вскочила, словно подброшенная скрытой пружиной и принялась сыпать отборнейшей руганью в адрес милиции и “всяких пижонистых умников”, которые понахватались ученых слов и которым плевать с высокой колокольни на нее и ей подобных... м-м-мать их растакую! Устав наконец ругаться, девица побежала между могилами не разбирая дороги. Было странно видеть, как ее туфельки с отломанными каблуками мелькают в воздухе, совершенно не касаясь земли.
– Что это с ней? – не понял Юра.
– Так, ерунда. Атавизм земной жизни. Рецидивчик. Но и я хорош, – гитарист потянулся и сел. Теперь стало особенно заметно, что он действительно утратил прозрачность, так как заслонил худыми плечами лежащие ниже по склону братские могилы.
– Я тоже хорош, потому что косынка на ее голове говорит сама за себя, – многозначительно добавил Миша.
– О чем говорит? – переспросил Юра. Гитарист посмотрел на него с жалостью, вздохнул и объяснил:
– Если бы об этом спросила Соня, ничего странного в этом не было бы, а так... Ты же знаешь, чем Мышка кормилась. А наше идиотское государствообывателей не просто молчаливо осуждает такой способ зарабатывания денег, но изобретает также весьма оригинальные методы борьбы с крошками. Потому однажды, в одну прекрасную ночь Мышку, в поте задницы своей отрабатывающую хлеб насущный без масла, мент и два дружинника застукали прямо под забором и тут же наголо, “под ноль” постригли, вернее, побрили. Поэтому она все время в платочке.
– А у тебя они тетрадку со стихами отобрали, – понимающе сказала Соня.
Взревел баян, но Чубик не проснулся, а мешком повалился на левый бок вместе с инструментом.
– Гораздо хуже, – Миша задумчиво поцокал языком. – Это было, когда меня брали. Я удрал на небольшую свалку. Мне оставалось сунуть тетрадь в мусорную кучу, но я... не мог. Просто не мог, чтобы...
Он помолчал и пояснил:
– Рожать детей – привилегия женщин. (Юра постарался не слышать этих слов.) Мужчины не смиряются однако с этим и тоже стремятся родить, только уж каждый на свой лад и в меру своих способностей. “Не мышонка, не лягушку, А неведому зверушку”, – Миша нервно засмеялся. – Я все эти песни... тоже будто рожал. Это были – мои дети, – голос гитариста дрогнул. – Пусть ублюдочные, никчемные, но – дети. И я не мог допустить, чтобы трупы моих детей плавали в ядовито-зеленых лужах и заживо гнили! Сначала я подобранным там же осколком оконного стекла резал им горло...
– Кому?! – ужаснулся юноша.
– Стихам, – тихо сказала Соня.
– Стихам, – так же тихо подтвердил гитарист, потом перевел дух, словно запыхавшись после долгого бега.
– Я брал тремя пальцами: большим, указательным, средним, – каждую страницу и несколькими взмахами кромсал ее, – Миша чеканил слово за словом. – Когда же увидел, что дело продвигается слишком медленно, а меня вот-вот накроют, принялся резать сразу по пять страниц. Затем скомкал все эти бумажные трупы и поджег их. Надо сказать, все сгорело неожиданно быстро, лишь вот эта песня, уже подожженная, непрерывно взмывала в небо в потоке горячего воздуха. Пламя тронуло листок по краям, однако несколько раз гасло. Вот что там было...
Миша запрокинул голову и продекламировал:
– А люди – две половинки
Разорванного сердца.
А им бы соединиться,
Чтоб вместе друг с другом биться.
А им бы не расставаться
Даже и после смерти.
Но боги, жестокие боги
За ними шпионят строго,
И люди ищут вслепую.
И очень часто – напрасно...
– Мои стихи не хотели сгорать! Они корчились в пламени, задыхались в дыму, задыхались перерезанным горлом... Особенно эта. Собственно, это песня тоже, просто я так и не успел положить стихи на музыку. Я сделал это перед самым концом воли и никому еще не успел спеть. Так и не успел...
Гитарист склонился так, что коснулся лбом струн, прошептал:
– Это было страшно. Страшно! Вы не поймете. Убить их, чтоб не достались, кому не надо. Самому зарезать и сжечь собственных детей... Не поймете, – и умолк. Спустя некоторое время Соня осторожно тронула юношу за рукав и показала жестом: мол, пойдем отсюда.
– А ты говоришь: любить ментов! Суки они.
Мышка вышла из-за гранитного памятника хмурясь и поправляя немного сбившуюся косынку. Юра остался сидеть и промолчал. Вообще-то он не говорил, что милицию надо любить, хотя и не совсем был согласен с девицей. Причина тому была чрезвычайно проста: за время работы на стройке его дважды посылали “на дружину” вместе с Колькой Моторчиком. Правда, ничего особенного там не происходило, никаких чрезвычайных происшествий. Посидели в дежурке, вяло покалякали, попили чаю (Юра жалел, что с ними не было Веньки; уж тогда бы время прошло гораздо интереснее!). Нацепив красные повязки прошлись по улицам. И все. Но вдруг Миша и Мышка узнают, что он... ну, тоже вроде дружинника. Тоже сука.
Юра недовольно засопел.
– Тем не менее нечего раздражаться по поводу ментов, как ты. Они тоже люди, и жить им чем-то надо. Конечно, способ их жизни их не оправдывает, но и тебя не оправдывает твоя ненависть, – глухо сказал гитарист. Девица странно посмотрела на него и протянула:
– Чи-во-о-о?
– Ругаться, говорю, не надо. И презирать их нечего, – голос Миши окреп, он смотрел теперь прямо в глаза Мышке. Та сказала с сожалением:
– От кого я все это выслушиваю! Они упрятали тебя в дурдомчик, загнали в угол, заставили сжечь стишки – и ты говоришь такое. Да тьфу на тебя после этого!.. Между прочим, раньше ты говорил по-другому.
– Ну и дурак был! – огрызнулся гитарист. – И если из-за этого (да, именно из-за этого! Что ты на меня уставилась?!) подох как собака, значит, туда и дорога. И дурак был, что не успел ничего сделать, кроме как позубоскалить.
Соня вновь подала юноше знак, однако он не двинулся с места, удивленный словами Миши не меньше его подруги.
– Кого-то ты мне напоминаешь, – девица подозрительно смотрела на гитариста. Тот устало вздохнул.
– Слушайте, у вас есть великолепная возможность пообщаться с Борухом Пинхусовичем и с его знакомыми, а вы ею не пользуетесь. Да поймите вы наконец...
– Мне и так все ясно. Вот от кого ты набрался, – девица зло зыркнула на Соню. – Ну спасибочки тебе огромное, моя дорогая! Я-то как дура радовалась, что вот, мол, приличная девка, а ты... познакомила! И за дедушку твоего спасибо, и за Старого Сему, и за эту... ну, которая тоже стихи писала... Телега, что ли? Видно, накатали на нее “телегу”, вот и назвалась. Тоже мне, высшие обитатели в белых шмотках. Тьфу! Ни презирать, ни ненавидеть толком не умеете. А я вот буду. Буду, хоть кол на голове теши!
Юре очень не нравилось, что Мышка столь яростно напустилась на Соню. Однако он почему-то не решался вступиться за девушку. Не то чтобы боялся разбушевавшуюся девицу (хотя, если честно, то боялся тоже). Однако нечто неопределенное непреодолимо удерживало его в гораздо большей степени, нежели страх...
Взглянув на Соню и на Мишу юноша все понял: эти двое были на удивление спокойны! Словно весь гнев Мышки предназначался не им, а кому-нибудь другому, совершенно постороннему. Соня даже доброжелательно улыбалась. Девицу это лишь еще больше бесило. Но гитарист справился с ней на удивление легко. Он щелкнул пальцами (словно на встроенный в Мышку выключатель звука нажал) и заговорил медленно и тихо:
– Ты путаешь две абсолютно разные вещи. Не умеют ненавидеть низость, подлость и лицемерие одни только блаженненькие да беззубые от природы олухи царя небесного. Мы же умеем ненавидеть, но понимаем, что ненавидеть просто нельзя. Это вредно.
– Кому? Сукам? – ехидно спросила Мышка. Однако юноша почувствовал скрытую неуверенность в ее голосе. Так отличается звук треснувшего колокольчика от ясного заливистого звона целого.
– В первую очередь тебе самой. Но и остальным не менее. Сонин дедушка (спасибо ему!) говорит очень умные вещи, однако зачастую недосказывает их до конца. Мне тяжело судить, почему он так делает: то ли нехочет,нежелает додумывать; то ли ему попросту неинтересно ломать голову над такими мелочами, которые на наш взгляд очень даже не мелочи; то ли не находит нужным говорить всего, чтобы мы могли хоть немножко развить наши мозги.
– Поехал морали читать, как в детской комнате милиции, – Мышка шумно вздохнула и отвернулась. Гитарист продолжал как ни в чем не бывало:
– Да какая разница, кто кого ненавидит: ты – или тебя?! Важно, что ненавидит живой человек. Ненависть копится в воздухе, как зависть, подлость, тупость. Как всякое зло. В конце концов это и приводит к беде, к ужасу! Вот в этом и состоит правда, такая простая и элементарная, что мы, разумные болваны, никак не можем додуматься до нее, пока нас не нагонит пуля или не утопит в грязи!
Юра задрожал и медленно, чрезвычайно медленно встал. Это была разрядка копившегося с момента выхода наверх душевного напряжения. Он знал, чувствовал, что не все еще произошло, что впереди самое-самое на сегодня. И вот это самое-самое пришло со словами Миши:
– Мы перестали учиться на чужих ошибках, а судьбе это надоело. И теперь она отыгрывается на каждом поколении, примерно раз в двадцать лет. Нет, вы слушайте! – воскликнул он, видя, что Юра пятится, а Мышка пытается зажать ладонями уши. – Слушайте. Бабий Яр начался в сорок первом, это Сонина беда. Наша беда случилась ровно через двадцать лет, в шестьдесят первом. И все это в одном и том же городе, более того – в одном месте! Хотите проверить, отбросьте еще двадцать лет. Что выходит? Гражданская война, когда отец шел на сына, брат на брата, разруха, засуха на Украине и конечно же голод. Попробуйте после этого сказать, что я не прав!
Никто не возражал Мише, настолько страстно и убедительно он говорил. И никто не ожидал такого окончания праздничных посиделок над стаканчиком водки у памятника Федору Величковскому. Всеобщая подавленность выразилась в грустном вопросе Сони:
– Ты сам до этого додумался или как?
Гитарист как-то неопределенно улыбнулся и ответил:
– Разумеется сам. Тут и думать нечего, все яснее ясного.
– А кому-нибудь еще говорил? Хотя бы дедушке...
– Нет, пока только вам. Но думаю, что к сожалению я прав.
На голове у Юры зашевелились волосы. Да как они могут преспокойненько рассуждать обо всех этих кошмарных вещах! Как они смеют говорить спокойно!..
– А что стрясется еще через двадцать лет, по-твоему?! – выкрикнул он в лицо Мише, подскочив к нему и нелепо жестикулируя. И получил тяжелый, точно пощечина ответ:
– Абсолютно то же самое, если живые не одумаются...
На некоторое время юноша как бы отключился от всего внешнего мира. Он не видел меланхолично устремленных в небо глаз гитариста, не слышал льющейся из-под его длинных пальцев мелодии старинного сентиментального романса. Он просто поплыл вперед мимо Мышки, пытавшейся разбудить отругивающегося со сна матроса. Как долго он путешествовал по кладбищу и где бродил, не мог сказать никто... кроме верной Сони, конечно. Именно от прикосновения ее пальцев, более осторожного и беглого, чем прикосновение к разогревающемуся утюгу намусленного пальца домохозяйки, Юра очнулся.
Светало. Бледная луна едва угадывалась за буйной кроной старого клена. В том углу кладбища, куда они попали, царило полнейшее запустение: тут и там зияли провалившиеся могилы, похожие на оставшиеся в челюсти на месте вырванных коренных зубов дыры, торчали замшелые покосившиеся памятники, напоминающие уцелевшие сточенные клыки, лежали сгнившие деревянные и проржавевшие металлические кресты. И нигде не единой надписи: ни фамилий, ни имен, ни дат жизни. Так сказать, безымянно-интернациональная кладбищенская свалка.
– Зря я наверх вышел. Нечего тут делать, – проговорил наконец Юра.
– Да, плохо как-то все получилось. Как-то... не так, – согласилась Соня. – Впрочем, я не раз звала тебя. Надо было уйти, и все. Ты сам решил остаться.
Юноша сконфуженно посмотрел под ноги, потому что это было действительно так.
– Тебе тоже не понравилось? – спросил он.
– Не люблю пьяных. От них так и жди глупостей. Вот когда ты только вышел, тоже был не лучше их, между прочим. Опьянелотземли. Потом, правда, угомонился. Ну, Чубику я не удивляюсь, ему стоит только подумать о поминальном угощении... – девушка поморщилась, и Юре неизвестно почему пришло в голову, что тесамые немецкие солдаты, которые оборвали жизнь Сони, наверняка были пьяны, и может именно поэтому она почти все время молчала на посиделках; однако он благоразумно промолчал.
– Но Миша! И эти его намеки...
Юноша резко обернулся, в отчаянии схватил Соню за плечи и заглядывая ей в глаза быстро-быстро зашептал, захлебываясь словами:
– Так это неправда? Скажи: неправда! Ему все это мерещится, да? Он выдумал? Конечно же выдумал! Это не может быть правдой, не может все повториться через двадцать лет, чтоб еще кто-то так же вот мучался в этой клятой темноте...
Девушка отвернулась и заговорила невпопад:
– Знаешь, что со мной приключилось в прошлый Духов день? Я тоже летала по кладбищу, только совсем одна, и вдруг наткнулась на воровку. Старая такая бабка, грязная, будто кто ее пожевал, выплюнул и вывалял в преогромнейшей луже. Она собирала еду и цветы с могил, чтобы потом продать, а как меня увидела...
Соня натянуто улыбнулась. Юра встряхнул ее и повторил:
– Нет, скажи мне: Миша соврал? Не увиливай.
Девушка медленно повернула к нему лицо и медленно, мучительно медленно выдавила:
– Не похоже... Просто говорить такое... тебе... ему не стоило...
В ветвях клена отрывисто просвистела пробудившаяся ото сна пичужка. Рассветное небо помрачнело, искривилось, заколебалось, завертелось.
Опустившись на колени и закусив губу Юра ныл. Соня стояла над ним с потерянным видом, ласкала его как маленького, изредка наклоняясь целовала в темя и непрерывно твердила:
– Не думай об этом. Ты ничего не сможешь сделать, ничего не сможешь...
Громкий петушиный крик зазвучал откуда-то изнутри.
Не было петухов на кладбище и быть не могло. Вот разве у куреневских частников... Но радостное звонкое кукареканье повторилось, и теперь было яснее ясного: рождается оно не во внешнем мире, а именно в груди, где-то под ложечкой. Рождается, когдабьетназначенныйчас.
Свет ясного утра окончательно померк. Над головой сомкнулся черный потолок, утыканный мочалковидными корешками трав.
– А я не хочу сидеть сложа руки! Все равно не хочу...
– Ты не сможешь...
– Что я должен смочь? Что сделать?
Что?..
* * *
За дверью грохнуло, Аня пронзительно завизжала. Запахло паленым. Тяжело затопали взрослые, загалдели.
Сжимая в руках выпускную фотографию, Света вышла в коридор. Оказалось, мальчишки во главе с Ростиком устроили не совсем удачный запуск самодельной космической ракеты, за что были несильно (ради праздничной встречи родителей) отшлепаны и водворены в детскую “под домашний арест”. Ничего страшного.
Тетя Рита и дядя Игорь в четыре руки вымакивали тряпками воду, оставшуюся на полу после скоростного тушения микропожара. Девочка терпеливо дождалась, пока они освободятся, не зная с чего начать, без обиняков спросила мужа тети Риты:
– А кто это такой? – ткнула пальцем в нижний ряд группового фото и виновато пояснила: – Я там “Пионер” смотрела, достала случайно.
Дядя Игорь окинул Свету с фотографией торопливым взглядом, сказал: “Айн момент!” – вымыл в ванной руки, вернулся, посмотрел на портрет Юрия Петриченко уже гораздо более осмысленно и ответил почти не скрывая неприязни:
– Это Юрка. Только я с ним не дружил особо, да и никто из наших, кажется, не дружил. Хлюпик он был, этот Юрик-жмурик. Что называется, соплей перешибить можно, извини за грубость.
– А что с ним стало? – спросила девочка. Из кухни тетя Рита крикнула, чтобы дядя Игорь шел помогать ей. Он прокричал в ответ: “Сейчас бегу!” – но вместо этого опустился на корточки перед Светой, внимательно посмотрел ей в глаза и спросил:
– Почему ты решила, что с ним что-нибудь стало?
Света молчала, не зная, что ответить. Дядя Игорь покусал немного нижнюю губу и задумчиво сказал:
– Но ты права, как ни странно. С ним действительно стало. Он погиб.
Девочка широко раскрыла разом забегавшие глазки и прошептала:
– Где? Когда?
– А ты что, знала его? – с сомнением спросил дядя Игорь. Света упрямо молчала. Из кухни донесся отчаянный крик тети Риты: “У меня чайник крутого кипятка, я не могу так стоять!” Дядя Игорь взял ладони девочки левой рукой, правой погладил их и морщась тихо проговорил:
– В общем вот что. Положи на место фотографию. Сегодня не у нашего класса вечер встреч, и нечего приплетать сюда моих ребят. Сейчас будет чай с тортом...
Света посмотрела на него жалобно. Тетя Рита на кухне была близка к тому, чтобы начать ругаться.
– Иди в детскую... Ах да, там же Ростик с ребятами! Они наказаны и должны быть одни, – дядя Игорь всплеснул руками, неожиданно признался: – В общем, погиб Юрка. При Куреневской трагедии... А мне некогда, не приставай! Сейчас торт будет, – и умчался на кухню.
Торт действительно был, и не один. И в снежки они потом все вместе играли, родители и дети. Дядя Игорь к Свете не подходил, более того, почему-то избегал ее. Девочка наслаждалась чаепитием (кофе детям все же не дали, зато большие куски “Киевского” и “Космического” с лихвой компенсировали этот досадный недостаток), хохотала, швыряя в лицо дяде Яше и дяде Севе (и с особым удовольствием – противному толстому дяде Славе) пригоршни пушистого снега... и однако некий червячок точил ее подсознание весь остаток дня. Поэтому сидя рядом с папой в полупустом троллейбусе она после долгих раздумий все же отважилась спросить:
– Папка! А, па-ап... А что это за Куреневская трагедия?
Отец посмотрел на нее таким же точно мутным взглядом, как торопившийся на кухню дядя Игорь, пьяно ухмыльнулся и сказал:
– До чего ж ты настырная, Светка! Вся в меня. И охота тебе про всякую гадость расспрашивать?! Пятнадцать лет, понимаешь ты, пятнадцать лет сегодня, а ты мне все настроение портишь! Едем, и хорошо. Дома вот “Кабачок” покажут, пани Монику, пана Спортсмена, пана Директора. Может, пан Зюзя про зайцев что-нибудь отмочит. А, Светик? Помнишь, как в прошлый раз: “И тогда заяц подскочил к волку и произвел укушение в нижнюю часть спины”.