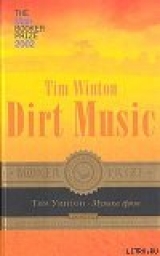
Текст книги "Музыка грязи"
Автор книги: Тим Уинтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Он думает о лежащей внутри Джорджи. Всего только подняться по ступенькам. Он видит очертания лопаты, прислоненной к стене. Он подбирает ее, поднимаясь по ступенькам к террасе. Стеклянная дверь-ширма не заперта. Джим Бакридж спит в своей постели. Но и его дети тоже.
Он целует стекло и ускользает прочь.
* * *
Джорджи вынырнула на поверхность только через полтора дня. Предыдущий день слился в жалкое горячечное пятно, но грязное постельное белье и полотенца на полу слишком хорошо свидетельствовали о том, как именно она его провела. Голова болела, а еще горло и грудь. Она никогда не опускалась так низко. Ее просто убивало то, что мальчики могли это видеть.
Пустой дом был в беспорядке, и послеполуденный свет квадратиками лежал на ковре в гостиной. Она нетвердо подошла к окну и увидела, что грузовик и трейлер Лютера Фокса исчезли. Она поискала ключи от взятой напрокат машины. Спустившись вниз, обнаружила, что гараж пуст. Она вернулась наверх с пустой головой и в тревоге и некоторое время постояла в гостиной.
И уже через несколько секунд поняла, что на стеклянной двери странный отпечаток. Как раз на уровне глаз. Сальный отпечаток пары губ. Джорджи прошаркала к двери и начала пристально разглядывать пятно. Грязным рукавом халата она попыталась стереть его, и, когда поняла, что пятно не исчезает, ее охватила паника – пока до нее не дошло, что пятно находится на другой стороне стекла. Она вышла на жару и поспешно стерла его.
Потом она приняла душ и постаралась взять себя в руки. Она знала, что ей надо поесть, но горло болело так, что она смогла только проглотить витамины и банку спрайта. Если бы она была в больнице, хорошая порция кислорода из маски ей бы очень помогла; это самый настоящий природный энерготоник. Она подумала было о полиции, но потом отказалась от этой мысли. Не раньше, чем исчезнет последняя надежда.
Вернувшись в гараж, она вытащила свой велосипед из-под груды принадлежностей для тяжелой атлетики и свернутой в рулон рабицы. Седло было как рыба между ягодиц. Она подумала о том, что ей придется проехать мимо супермаркета, почты и школы. Она вяло надавила на педали и выехала на резкий дневной свет.
– Сказать, что ты выглядишь как мешок дерьма, – это еще сделать тебе комплимент, – сказал Бивер, когда она подъехала к нему у колонки.
– Продашь мне машину?
– Подруга, мне тебе продать нечего.
– Я возьму что-нибудь напрокат.
– Господи, Джорджи. Мне здесь еще жить.
– Какую-нибудь старую таратайку со склада металлолома.
– Ты достаточно трезва?
– Да.
– Мамой клянешься?
– Мамой клянусь.
Он вытер руки и посмотрел на нее очень неодобрительно.
– Мне нужен мой грузовик. Ты можешь взять «И-Эйч». Но…
– Я буду осторожна.
– Да, когда-нибудь, Джорджи.
– Я очень тебе благодарна, – сказала она. – Прямо не пересказать.
– Вот и ладно, – пробормотал он. – И не пересказывай.
* * *
Фокс просыпается на рассвете и видит, что Уайт-Пойнт всего в паре миль у него за спиной. Он даже не помнит, как ложился, и теперь ему приходится идти по дневной жаре. Так медленно, такой слабый и сонный. Он продолжает брести по мягкому, пустому пляжу, и прибой ревет у него в ушах. Песок белый, ослепительный, бесконечный. Прикидывает, что ему осталось пройти десять, а как бы и не пятнадцать миль. Он постоянно натыкается на клочки растительности, свисающие с выглаженной ветром дюны, и ненадолго пристраивается в драгоценной тени, чтобы отхлебнуть из пластиковой бутылки, которую он вчера вытащил из мусорного ведра и наполнил из крана во дворе.
В одинокой бухточке рядом со старой границей владения Бакриджей он пристально вглядывается в отпечатки ног, пока не понимает, что это его собственные следы. И следы Джорджи – такие маленькие. Когда же это было – два дня назад? Раньше?
Он идет по собственным следам от шин в глубь побережья, и только потом ему приходит в голову, что он должен держаться подальше от просек и дорог в буше, – но здешняя поросль царапает ему ступни. Крепкий запах лебеды. Жужжит насекомыми акация. Единственные деревья – это редкие кучки прибрежных эвкалиптов, кора которых свисает, как разорванные бинты. Жара дрожит над землей. Ограда. Потом мерзкий пояс кустов банксии – одни ветки, шершавые, как акулья кожа, и зубчатые листья. И это как если бы он пробирался через колючую проволоку.
И наконец шоссе, кварцево сияющее, как река. Он не может открыто идти по нему. Ему придется пробираться задами. Переходя через шоссе, он видит мертвого кенгуру на гравийной бровке; тот лежит, задрав в небо ноги. Зловоние заставляет его перейти дорогу и уйти в каменистую низину, за которой виднеются желтосмолки.
Он выпивает остатки воды. Выходит на выгон, к остаткам эвкалиптовых зарослей. Несколько изумленных овец – они, должно быть, принадлежат его новому соседу, которого он даже и в глаза не видел. И наконец, задушенная канавка солоноватой реки. Мирты, в тени которых – трясогузки, гуйи[13]13
Гуйя – новозеландский скворец.
[Закрыть], медоедки.
Как же они порхают, кричат и кувыркаются! Они сетью опутывают небо над ним, они вплетают его в эту сеть. Он ковыляет на юг по тени. Эму торжественно уступают ему дорогу, как яппи на экскурсии.
У речной излучины, за которой уже дом, где с наклонившегося дерева до сих пор свисает шина, он мочит ноги. Его тень падает на воду. Полдень позади. Не чувствуется ни дыма, ни запаха пожарища. Наконец он вскарабкивается на изрезанный бороздами берег, чтобы посмотреть.
Он распростерся на испекшейся земле, и дикий овес смертельно жалит его в уши; он замечает машину, припаркованную во дворе посреди озадаченной стайки кормящихся кур. Грузовичок «Холден» 1964 года, весь сияющий цветом обезьяньего дерьма. Раздвижная крыша и спицы колес. Настоящий грузовик живодера. И знакомый. Но он не может вспомнить. Может только ждать и смотреть, что будет. И краем сознания ожидать, что в любую секунду откуда-нибудь выскочит совершенно счастливый пес.
Он отступает в тень речного берега; открытые вены реки изрезаны тенями. Рядом с ними он чувствует, что его влечет земля.
Когда он просыпается, солнце уже садится. На ферме горит свет, но за его спиной – грязная муть. Тени скользят по полоске песка внизу. Его глаза привыкают к свету не сразу. Фигуры. Мальчики. Двое. Один склонился над водой, которая волнуется у его ног. Неожиданно он выпрямляется, в руках у него что-то серебристое, и это что-то мерцает и дрожит. Земля вибрирует.
Фокс карабкается вверх по берегу – к дому.
* * *
Джорджи заметила движение между деревьями и приготовилась. Она боялась; с другой стороны, притворяться тоже смысла нет. Она не слышала шума подъезжающей машины. Чтобы прогнать непрошеных гостей, у нее нет ничего, кроме закопченной кочерги. Телефон в доме выглядел так, будто какое-то время назад его выдрали из стены. «Это может быть собака, – сказала она сама себе, – какая-нибудь дворняжка с фермы, что за рекой! Но слишком высокая фигура».
– Эй, я тебя вижу! – заорала она.
Это прозвучало жеманно, как голос старшей сестры при игре в прятки.
Он подхромал к ступенькам, как наказанное животное.
– Это я, – сказал он, уворачиваясь от брошенной кочерги. – Джорджи?
– Да.
– А кто еще?
– Только я.
– Я…
– Только я, Лю. Заходи.
Он какое-то время стоял на месте, и лицо его было неразличимо во мраке, пока Джорджи не поняла, что ему нужна помощь. Когда она прикоснулась к нему, он отшатнулся. Он был весь липкий от крови и пота. От него ужасно пахло.
– Есть еда, – сказала она, ведя его по ступенькам.
У него тряслись руки, как у старика, и шел он неровно, как больной после операции. На пороге его глаза сверкнули.
Джорджи усадила его за кухонный стол и постаралась надеть старую профессиональную маску, чтобы унять ужас, который почувствовала, увидев, в каком он состоянии. Истерзанный, с солнечными ожогами, покрытый запекшейся коркой соли и грязи, с потрескавшимися губами, с красными глазами, которые выглядывали из темных от усталости кругов. В его волосах было полно семян травы и паутины. Его исхлестанные икры и ступни дрожали. Она, стараясь не привлекать его внимания, пощупала у него пульс и подумала, что надо бы сделать ему ледяную ванну, чтобы снизить температуру тела, но его пульс был размеренным и сильным, но боялась оставить его одного, отправляясь на поиски льда.
– Ты покормила курей, – сказал он блаженно.
– Да.
– Сегодня?
– Пару часов назад. Вот, пей.
Она влила в него воду. Он методично глотал. Ее поразило то, как это чертовски характерно; на глаза у нее навернулись слезы.
– Есть еда, – сказала она. – Я кое-что приготовила. Картошка была здесь. Цыпленка пришлось занять. Я наберу ванну. Ты останешься?
Лютер Фокс смотрел на нее с полным непониманием. Она оставила его тянуться за холодной печеной картошкой, и, когда она вернулась из ванной, он икал. Он пытался улыбаться, но икота звучала болезненно, как всхлипы.
– Пей, – сказала она.
– Они придут?
– Я не знаю.
– Пожара нет.
– Нет.
Он оторвал ножку у цыпленка, которого она пожарила, и торопливо съел ее. Он пытался протолкнуть ее в горло. Он выглядел озадаченным.
– «Холден И-Эйч»?
– Это Бивера. И курица его. Я развиваю дружеские связи.
Джорджи пощупала ему лоб и шею – не снизилась ли температура. Похоже, он был более или менее в порядке.
– Мне конец, – сказал он тоном, в котором Джорджи почудилось удовлетворение.
В ванной он настолько оцепенел, что дал Джорджи снять с себя шорты и майку. Она усадила его в старую ванну и губкой обтерла раны. На руках и шее у него были клещи. Он вздохнул, когда она ополоснула его, и Джорджи про себя подумала: когда в последний раз хоть кто-то опускался рядом с ним на колени и купал его? Когда он закрыл глаза, оказалось, что веки у него полупрозрачные.
Минут через десять он, похоже, немножко ожил. Он рассказал ей, что́ сделал, где был, чего ему стоило добраться домой; и она была благодарна, что он не настолько в себе, чтобы спросить, как она провела все это время.
Когда настало время вынимать его из ванны, она взялась приподнимать его, но он встал сам. Джорджи подумала о смазываниях и купаниях, которые она повидала за долгие годы. О мужчинах, рядом с которыми она вставала на колени, чтобы утешить, вымыть, спасти. Этот импульс у нее все еще оставался. Господи, подумала она, есть ли разница между тем чувством, которое она испытала, увидев Джима в первый раз, и тем, что чувствуешь, когда перед тобой изнуренный мужчина, который ждет спасения? Она бросила работу, но она все еще оставалась сестрой Джорджи и готова была лететь на помощь.
Она завернула его в полотенце и отвела на кухню, где выжгла с него клещей булавкой, нагретой на газу. Она чувствует себя, сказала она, как Великий инквизитор, который мучает тебя в надежде выпытать еретические тайны. Он сонно улыбнулся. Все тайны, пробормотал он, это и есть ересь. Джорджи намазала его антисептической мазью и втерла масло в его солнечные ожоги. Она уложила его в постель и какое-то время посидела, пытаясь прикинуть, куда идти отсюда. Сначала машина. Ей придется завести свою собственную – все равно как.
– У тебя ведь нет тайн, – сказал он. Веки его трепетали.
– Ты моя тайна, – сказала она, пытаясь не думать о миссис Юбэйл.
Он улыбнулся.
– Ну да, мы же не ходим по округе и не кричим: «Вот они мы!»
– Да.
– Я тебе не сказал. О Птичке. Что она еще прожила какое-то время. На аппаратах. И они все совали мне эти бумажки. Я не должен был. Но я все ждал и ждал. Думаю, я просто устал, понимаешь. Они меня истомили.
– Это было милосердие.
Он покачал головой:
– Удобство.
– Нет, Лю.
– Ты не понимаешь, – пробормотал он.
– Поверь мне, – сказала она, – я понимаю.
Он вздохнул.
– У тебя есть атлас? – спросила она.
– В библиотеке, – сказал он. – Зачем?
– Покажу тебе мою вторую тайну. Мой остров.
Когда она вернулась с большим пыльным томом, Лютер Фокс спал. Эти веки были похожи на лепестки, и на них вырисовывался мраморный рисунок капилляров, как у ребенка. Она поцеловала его в лоб и перед тем, как задернуть полог, несколько секунд впивала его пахнущее цыпленком дыхание.
Джорджи вспомнила себя пару дней назад, распростертую на этой постели, медлительную, как герцогиня. И его рука – в ее руке, теплая и удивительная.
Она наклонилась и взяла его за руку. Прижала ее к своей щеке. Прислушалась к ночи за противомоскитной сеткой.
Плывет по хнычущему морю. Вокруг него, в тумане, шипящее дыхание мертвых; они плещутся, и крутятся, и гребут в глубине, вокруг него, вместе с ним. Их дыхание пахнет землей, речной глиной и арбузами. Он рывком приподнимает лицо из воды, и его рук и ног касаются скользкие тела, а одно, особо настойчивое, бьет его в бедро снова и снова, вопрошая, а он все плывет – размеренно, как метроном, как ритм без мелодии. В воде не протолкнуться от рук и ног, они слишком перепутались, чтобы проплыть сквозь эту массу, и потоки похожих на водоросли волос застревают у него в зубах, хватают за горло.
Он просыпается в темной комнате. Занавески колышутся у обшитой панелью стены. А… Здесь.
Он откидывает покрывало и недоуменно мигает, понимая, как туго натянуты его подколенные сухожилия. Он, шаркая, идет в ванную, а потом на кухню. Дом кажется гораздо более пустым, чем когда-либо.
– Джорджи?
Когда он зажигает свет, на столе находит атлас. Грязный конверт выглядывает из него, и он открывает книгу, чтобы прочитать аккуратно написанное на конверте послание:
«Обещала вернуть машину.
Целую, Джорджи».
Записка Джорджи соскальзывает на стол. Она прилипает к его влажным пальцам, но его взгляд прикован к странице, на которой раскрыт атлас. Австралия. Весь континент – это скалистое нахмуренное лицо, и половина этого лица – Западная Австралия. Он никогда не покидал пределов своего штата, никогда не пересекал даже эту незначительную границу. Он замечает слегка испещренные точками пустыни, которые отделяют его побережье от остальной страны. В сравнении с Азией или Америками названий на карте немного. Уайт-Пойнта нет на карте; увидев это, он чувствует какой-то укус удовлетворения. Фокс зажимает пальцем то место, где, по его расчетам, он должен сейчас находиться, и размышляет о широких просторах вокруг. Такое одиночество на странице – и это в то самое время, когда каждый засранец в этом мире дышит тебе в спину. Он определяет масштаб и по мальчишеской привычке прикладывает короткую сторону конверта к шкале, чтобы отмерить расстояние в двести миль. На юг всего четыреста миль до дождливого гранитного берега. Леса, свежая вода, люди. А на север? Ну, на север за год не доскачешь. Тысяча миль одного и того же штата. По большей части пустынных миль. А дальше эта земля не исчезает в тропических болотах.
Фокс осматривает все побережье. Дальний север кажется потрескавшимся – так много заливов и островов. И он слегка хмыкает от удивления, когда видит, что это место есть на карте. Да, прямо сверху, рядом с морем Тимор. Залив Коронации.
Он выключает свет и снова ложится в постель, но не спит.
II
Бивер подошел к двери, вытирая рот и бороду комком туалетной бумаги. Бензоколонка была закрыта и тускло освещена, и откуда-то из его логова за конторой доносился, крутясь водоворотом, показательный мотивчик сороковых годов. Комбинезон Бивера расстегнут до пупка, открывая подпрыгивающие груди, прикрытые только тонкой и растянутой майкой. Он отпер стеклянную дверь и приоткрыл ее ровно настолько, чтобы можно было просунуть туда голову.
– Кто поет? – спросила Джорджи.
– Этель Мерман.
– Ты человек-загадка, Бивер.
– Я – он и есть.
– Уверен, что не продашь мне эту машину? – спросила она, протягивая ему ключи от грузовичка «И-Эйч».
– Высечено на камне.
– Мне позарез, ты же знаешь.
– Лучше возвращайся домой, Джордж.
– Господи, а где же это? – пробормотала она.
– Джим за сегодня уже два раза заезжал. Говорит, у него плохие новости. Ты должна поехать.
– Бивер, он сам по себе – плохие новости. Ты его не знаешь.
– О, я его знаю.
Вечерний воздух был тяжел от йодистой вони водорослей. На дворе Бивера в свете фонарей вились несколько чаек. Звук моря был похож на ровный шум автострады. Джорджи подумала о своей скромной коробке с имуществом, оставшейся дома.
– Вот, – сказал Бивер, вытягивая волосатый кулак. – Пусть ключи несколько дней побудут у тебя. Я погляжу, что бы тебе такое продать.
Джорджи шагнула вперед и поцеловала его в седую щеку.
– Как-нибудь, – сказала она, – тебе придется рассказать мне историю своей жизни.
– Ладно, только дай мне время просмотреть наброски к мемуарам.
Поднимаясь к дому, Джорджи увидела «Крузер» Джима, стоящий в ярко освещенном гараже, и по пути повернула выключатель. Джим сидел перед мерцающим телевизором с газетой и сводкой погоды на коленях. Его лицо было синего цвета – невозможно было сказать, от телевизора или переутомления. Несмотря на то что все окна были открыты, в доме пахло яичницей с ветчиной. Море мерцало в лунном свете.
– Сядь, Джорджи.
– Я постою.
По правде сказать, она чувствовала такую слабость, что вполне могла бы лечь прямо здесь и уснуть.
– Сядь.
– Я никогда не прощу тебя, – пробормотала она.
– Ну а я и не собираюсь вымаливать у тебя прощение.
– Я хочу, чтобы ты это прекратил. Пусть он будет.
– Я уже прекратил, – сказал он.
– Откуда ты узнал?
– Узнал что?
– Обо мне и Лю Фоксе.
– Ну… – Джим свернул газеты и бросил их на пол. – До сегодняшнего вечера это были слухи.
– И кто сказал тебе сегодня вечером?
– Ты.
Когда Джим поднялся, она поняла, что отступает в кухню. Он прошел мимо нее, направляясь в контору.
– Позвони сестре.
– Не волнуйся, я уеду.
– Позвони Джудит, – сказал он через плечо. – Она пытается поговорить с тобой целый день. Твоя мать умерла.
* * *
Самое раннее воспоминание Джорджи было о походе за покупками с матерью. Она сама была годовалой девчонкой на белом нейлоновом поводке. Запахи жарящихся кешью, пончиков, срезанных цветов, стальной мишуры. Младенец в коляске, наезжающей ей на пятки. Воспоминание было таким отчетливым – она почти видела себя скачущей на конце поводка на Хэйстрит как джек-рассел-терьер, в окружении городского рождественского распродажного веселья. Джорджи поражал и пророческий характер этой попытки вырваться из пут, и сама природа этого похода; они во многом объясняли ее характер и ее отношения с матерью.
Она была своевольной девчонкой, и чем старше становилась, тем больше людей говорили это. Непутевая. Если все хотели идти на север, Джорджи Ютленд шла на юг. В школе ее с сомнением в голосе называли «слегка индивидуальной» – такую фразу австралийцы все еще произносили, неопределенно кривя рот, будто чувствуя что-то неподобающее. Теперь Джорджи думала: а насколько осознанным был ее индивидуализм? В классе и в группе она была признана индивидуалисткой, и вместо того чтобы сопротивляться этой навязанной роли, она принимала ее и старалась соответствовать. В узких рамках благонравной частной школы она стала крепким орешком. По утрам на электричке по пути в школу она понимала, что она всего лишь еще одна принцесса из кузницы настоящих леди. Но в ее собственном ограниченном мирке она заставляла людей поволноваться. Она считала себя популярной и очень долго не понимала, что девочки и учителя не любили ее. Она воспринимала страх как уважение. Она не видела, насколько была одинока.
Тем не менее дома она не питала таких иллюзий. Там все было ясно. Она любила мать – Джорджи казалось, что об этом и говорить нечего, – но ей приходилось часто повторять это себе, потому что с очень раннего возраста она поняла, что никогда не сможет ее порадовать. В какой-то момент она решила бросить вызов своему старику – это для нее было как воздух и вода, – но то, что мать разочаровалась в ней, всегда было для Джорджи источником несчастья.
Она была старшей из четырех сестер. Джорджи, Энн, Джудит и Маргарет – девочки Ютленд. Джорджи чувствовала, что ее по-своему любят, но никогда не могла понять, откуда берется то невероятное удовлетворение, которое она видела на лице матери, наблюдающей за тем, как ее сестры превращаются из младенцев в девочек. Их невероятная способность доставлять радость раздражала Джорджи. Даже их зубы и волосы доставляли матери радость. Энтузиазм, с которым они носили свои платья и фартучки, их страстное желание носить ее одежду и мазаться ее косметикой вызывало у Джорджи тошноту. Они были настоящие леди. Девочки. То, что в Джорджи было от девчонки-сорванца, инстинктивным и бессознательным, к десятилетнему возрасту превратилось в горько-целенаправленное сопротивление девчачести. Она начала упорствовать. Несмотря на воспитание и манеры, единственной страстью матери было хождение за покупками. Именно эти походы окончательно отрезали Джорджи от женщин Ютленд. Это каким-то образом сплачивало сестер и не давало им удалиться от матери. Дважды в неделю они шли на штурм модных лавок.
Раз в несколько лет, скривив рот и из чувства долга, она заставляла себя пойти с ними, но эти бесконечные вылазки были неотличимы от походов в детстве, когда она с опущенными веками маршировала за матерью и зависала в дверях, задыхаясь от соревнующихся ароматов, утомленная и скучающая до невозможности. Полет тканей, щелканье ногтей по кнопкам кассовой машины, вешалки, ярлычки и выгодные покупки – от всего этого ей хотелось лечь на пол и уснуть. Мать обижало это отсутствие восхищения, и сестры уже давно решили, что отказ Джорджи ходить за покупками – это отрицание семейных устоев, которое невозможно простить.
Она рано ушла из дома, вылетела из медицинского, прошла сестринские курсы, и оказалось, что она плохой пример семейству, тот самый, над которым остальные, по замыслу, должны были подняться.
Джорджи была в Саудовской Аравии, когда ее отец, Уорвик Ютленд, КС[14]14
КС – сокращение от «королевский советник», официальное название адвоката по гражданским делам в странах Британского Содружества.
[Закрыть], бросил мать.
Так что ее не было дома, чтобы поплакать и поспорить, чтобы подержаться за руки, и это тоже свидетельствовало не в ее пользу. Через неделю после развода старик женился на женщине, которая была всего на девять дней старше Джорджи. Грета – нервная, приличная женщина, красивая такой красотой, которая, должно быть, напоминала отцу о матери Джорджи. Джорджи все не могла понять, что нашла Грета в нем. В детстве Джорджи восхищалась отцом, его энергичностью и чувством юмора. Они вместе ходили в речные регаты и в разговорах про мореплавание были наравне. И все же настал день, когда она разуверилась в нем. Она думала, что отцу приятно ее общество, что она ему нравится. Но довольно неожиданно в доке яхт-клуба одним субботним вечером, где были все эти хлопающие тебя по спине наследники, горделиво спрыгивающие со своих яхт, она увидела, что ее демонстрируют, что она становится кусочком его успеха. Отважная морячка-дочь, которой судьбой уготовано стать первой женщиной-врачом в клане. Это был кусочек удачи, блеск, добавленный балу Ютлендов. Она повернулась против.
И теперь Джорджи припарковала грузовичок Вивера на сияющем газоне позади его «Ягуара», оттягивая момент. Примостившийся рядом с «Саабом» и двумя «Бимерами» «Холден» выглядел как нечто из ряда вон выходящее – раньше бы она не осмелилась на такое. Она подумала, что было бы лучше забросить его к Фоксу по пути сюда.
Ночь была благоуханна. Еще до эры кондиционеров, когда она была девочкой, в такие ночи можно было услышать реку, а не просто почуять ее запах.
Дверь открыл, напустив на себя печальный семейный вид, муж Энн, Дерек, и Джорджи услышала свой вздох. Дерек был высок и немного сутуловат, и искренность не была его коньком. В речных пригородах Перта он считался выскочкой. Даже если бы он не был дерматологом, на ум все равно приходило бы определение «шелудивый». Он приветствовал Джорджи, заключив ее в утешительные объятия, от которых получил больше, чем дал.
– Они там, на террасе, – сказал он. – Выпьешь?
– Нет. Да. Водка с мартини.
Она подумала: «Моя мать мертва».
На ковре в гостиной было длинное мокрое пятно, и электрический вентилятор гнал на него воздух. Пятно пахло средством для чистки ковров с еловым запахом и очень слабо, несмотря на все меры, мочой.
– Инсульт, – сказал Дерек, протягивая ей стакан. – По крайней мере, сразу.
– И сколько она так пролежала? – спросила она, осознавая, что он смешал в одном стакане водку и вермут.
– Двенадцать–восемнадцать часов.
– Господи!
– Парень, который следит за бассейном, нашел ее в обед. Увидел через стеклянную дверь.
– Где тело?
– Его нет.
– Ох, – сказала она со странным облегчением.
– Мы не могли тебя достать. Джим сказал, что у тебя сейчас что-то…
– Мне бы хотелось увидеть ее.
– Чтобы усомниться в диагнозе, конечно же, – сказал он, ухмыльнувшись.
Ей захотелось швырнуть стакан ему в рожу.
– Это свойственно человеку, Дерек. Тебе не понять.
– Завтра будет прощание.
– Конечно.
– Ну, я побуду снаружи, с остальными.
Джорджи стояла и думала о том, как мать ходила по этому большому дому совсем одна, на высоких каблуках. Она почувствовала вину за то, что ее не было здесь. Снова. Снова дала этому случиться. Мать пролежала здесь всю ночь и половину дня, и ее обнаружил какой-то незнакомец.
Джуд нашла ее плачущей. Она отобрала у Джорджи стакан, обняла, погладила по спине. Не надо иметь любимиц, но Джуд была ее любимой сестрой. Джорджи прижалась лицом к мягкому выступу подплечника сестры. Льняной пиджак пах лавандой – ароматом, который повсюду сопровождал мать.
– Как ты, сестренка?
– Одеться не успела, – сказала она, заметив, что на Джуд костюм от Диора, а на ней – походные шорты. – Где малышка Хлоя?
– Мы наняли няньку. И не такая уж она и малышка. Дети Энн спят наверху.
– Как она?
– Нормально. А вот Маргарет не в себе.
– Все еще нянька.
– Господи, да ей на прошлой неделе исполнилось тридцать два.
– Ой, я и забыла про ее день рождения. Отдай мне стакан.
– Ну, выпивка, разумеется, тебя подбадривает.
– Надо же кому-то подавать дурной пример.
– О Господи, Джорджи, – сказала Джуд, падая духом. – Ее и правда больше нет.
Они снова постояли, сцепившись, пока муж Джуд – Боб не вошел и не положил этому конец, ловко выведя их наружу. Джорджи смотрела, как он ловко правит Джуд своей ладонью, положенной между ее лопатками.
Двор был чередой террас, спускавшихся к реке. Фонарики на деревьях выглядели до странности празднично. Бассейн был изумрудным. Она подумала: «Я выросла здесь».
– Джорджи? – крикнула Энн, уже раздраженная. – На что ты уставилась?
– На двор, – сказала она. – Он кажется больше. Я была здесь на Пасху, но уже забыла. Какой он большой!
– Ты еще со своими провалами в памяти, – сказала Энн. – Иди и познакомься с новым парнем Марджи.
Джорджи позволила, чтобы ее провели от одного обмена любезностями к другому. Ни одной из сестер мужчины не принесли большого счастья. Энн, казалось, терпела Дерека из-за денег, а Джудит, которая снова подсела на валиум, была глубоко несчастна с Бобом, но боялась бросить его, потому что опасалась потерять дочь. Бывший приятель Маргарет сидел за мошенничество с налогами. Маргарет, младшая, специализировалась в том сорте обидчивой нуждаемости, которая отлично служила ей с младенчества, но Джорджи, которая все еще помнила, как ей приходилось менять Мардж пеленки, в конце концов привыкла к этому. Ее новая симпатия носила феску и шелковые тапочки. Кто это он, интересно, бюрократ от искусства?
Во время каждого разговора Джорджи ощущала присутствие самого КС, который рыскал возле бассейна, ожидая нравоучительного момента.
И разговор… Господи, да что это такое? Это был разговор о приготовлениях, но не о Вере Ютленд. И что мы можем сказать, – думала Джорджи. Уступчивая, пусть и брошенная жена. Умелая и отстраненная мать. Женственная. Хорошая кожа, отличные манеры. И все же как именно она определяла себя? Какие истории можно тут рассказать? Это было ужасно. И ощущение того, что ее у тебя больше нет, – гораздо хуже, чем незнание того, как быть с нею.
В конце концов старик зажал ее в угол у бассейна.
– Джорджиана.
– Высокоученый адвокат.
Она клюнула его в кирпичную щеку. Под вонью его сигары можно было учуять «Булгари», аромат Греты. На нем были носки в шотландскую клеточку под смокинг. Он пришел с какого-то мероприятия, сразу после того, как услышал. Грета из уважения к приличиям осталась.
– Боже милосердный! – сказал он. – Ты только посмотри на свой загар.
– Жизнь рыбацкой женки. Ты и сам цветешь цветом, – сказала она, протягивая стакан по направлению к его цветущему лицу.
– А-а, загар из Типперери, – сказал он. – Каждая порция алкоголя, которую ты выпиваешь, решает поселиться у тебя на носу. И все-таки некоторые участки еще имеют шанс оказаться солнечными ожогами. Мы плаваем в Роттнест почти каждые выходные. Ты все еще выходишь в море?
Джорджи покачала головой:
– Кажется, мои морские дни давно позади. Мне исполнилось сорок, знаешь ли.
– Да, – сказал он. Это прозвучало так, будто он помнит. – Я знаю. Жаль, что твоя мать этого никогда не любила. Плавать, я имею в виду.
– Ну.
– Но ты была настоящий морской дьявол. Хотелось бы мне снова увидеть тебя в море. Господи, девочка, да ты же ходила в Индонезию.
– И это плавание меня вылечило, – сказала она с лживым смешком.
– Но все-таки.
Джорджи чувствовала, что оно приближается, его последнее заявление по поводу ее матери. Оно висело в воздухе, как южняк на горизонте.
– Ты довольно ничего себе выглядишь, – сказала она, увиливая от этого.
– Грета посадила меня на тренажеры.
– Тогда Грет для тебя хороша.
– Грех? – Он ужаснулся.
Джорджи рассмеялась:
– Посмотри на себя. Грех? Я имела в виду Грету, ты, кукушка.
– Ах вот как!
– Мама умерла, папа. Не надо ничего говорить.
Тогда он улыбнулся, и на его лице отчетливо проглянуло героическое снисхождение.
– Я понимаю.
Джорджи вздохнула. Теперь у него на щеках были настоящие слезы.
– Господи, я как будто вижу ее на заливе Фрешвотер, в пятьдесят седьмом. Какая-то университетская гулянка. Розовато-лиловый кашемировый свитер, разлетающиеся волосы. Такая свежая и прекрасная. Могла бы быть Одри Хепберн.
– Ну, теперь тебе придется утешаться Кристин Скотт Томас.
– Кем?
– Я просто не хочу больше этого слышать, пап. Неужели не видишь?
– У меня тоже есть воспоминания, знаешь ли. Что ты делаешь?
– Раздеваюсь, – сказала она, сбрасывая туфли и вытряхиваясь из шортов.
– Господи Боже Всемогущий! – взревел он, когда она сбросила нижнее белье и безрукавку. – Ты вообще потеряла всякое представление о приличиях?
Джорджи упала в бассейн и легла на прохладное, гладкое дно, вне звука его голоса, всех их голосов.
* * *
Джорджи было едва-едва двадцать один, и она еще была трепещущей практиканткой, когда ей впервые пришлось столкнуться с мертвым телом. Дежурная сестра позвала ее и объяснила порядок оказания последних услуг, обмывания покойного. «Думай об этом, – сказала она тогда, – как об уборке». Джорджи знала пациента, старину Теда Бенсона, за которым она ухаживала неделями. Его смерть была вполне ожидаема, но Джорджи все равно была потрясена. От нее требовалось обмыть его, заделать отверстия на теле и перевязать конечности, перед тем как отвезти тело вниз, в морг. Вскоре после того, как Джорджи приступила к делу, дежурную сестру куда-то позвали, и Джорджи осталась с телом наедине. Оно было уже холодным, и она начала быстро обрабатывать его губкой, как будто купол живота – это крыша «Фольксвагена»; но, занимаясь своим делом, она вспоминала Теда, который никогда не жаловался, его мягкий голос, его джентльменскую почтительность, и это воспоминание немного устыдило Джорджи – и успокоило. Она начала относиться к его останкам по-другому. Она ополоснула лицо и вытерла так аккуратно, будто он был все еще жив. Она поняла, что успокаивающе шепчет ему что-то, как будто он – пациент, положившийся на ее заботу. Больше Джорджи не сожалела о том, что ей досталась такая работа; она жалела только, что не сумела спасти его. «Ты мне нравился, Тед, – сказала она. – Я восхищалась твоим самообладанием, ты же знаешь. Я уже скучаю по тебе». Она обтерла его тампоном, нежно обвязала его лодыжки и челюсть, и когда закончила, то уже знала, что нашла самую чистую часть себя. На комнату снизошла святость.








