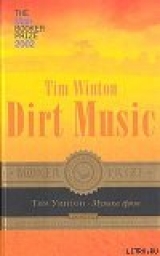
Текст книги "Музыка грязи"
Автор книги: Тим Уинтон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Тим Уинтон
Музыка грязи
Денизе,
Денизе,
Денизе
Бывает одиночество пространств,
Бывает одиночество морей
И смерти одиночество, но все же
Они ничто в сравненье с бездной,
В которой укрывается душа
Ипризнает-конечна бесконечность.
Эмили Дикинсон
I
Однажды ночью в ноябре – еще одной ночью, которая как-то сразу стала днем, – Джорджи Ютленд подняла глаза и увидела в зеркале свое бледное и яростное лицо. Всего секундой раньше она внимательно рассматривала чертежи тридцатидвухфутовой «Пейн Кларк» 1913 года постройки, которые энтузиаст парусного спорта из Манилы вывесил на своем сайте, – но ее выкинуло с сервера, и ею овладел настолько глупый приступ ярости, что она даже удивилась, что это с ней происходит. Ни яхта, ни тот парень в Маниле на хрен ей не сдались; они были еще менее важны, чем все прочие сайты, что она посетила за последние шесть часов. Если честно, ей пришлось помучиться, вспоминая, как она провела это время. Она долго и уныло бродила по Уффици, обращая на экспонаты не больше внимания, чем турист со стертыми ногами. Она тупо смотрела на аллею в Перте, изображение которой транслировалось в онлайновом режиме, она побывала в бразильском фанклубе Фрэнка Заппы, она видела ночной горшок Фрэнсиса Дрейка в лондонском Тауэре и наткнулась на чат для тех граждан мира, которые жаждут стать ампути.
Вхождение в сеть – какой смех! Им бы это назвать «схождение». Когда Джорджи усаживалась перед терминалом, она улетала в кресле, как пенсионер за покерным столом, обуреваемый страстью к деньгам. Улетала в этот бардак бесполезной информации, ночь за ночью, и там сталкивалась с людьми и идеями, без которых она вполне могла бы обойтись. Она не понимала, почему ее это так раздражает, – вот разве потому, что беспощадно съедает время? Все равно приходится признать, что это замечательно – побыть какое-то время без тела; и потом, к этому ощущению привыкаешь – быть без возраста, без пола, без прошлого. Бесконечная череда открывающихся порталов, меню и коридоров, которые ведут к коротким и безболезненным случайным встречам, там бесцельный просмотр сходит за жизнь. Мир без последствий, аминь. И в этом мире она чувствовала ангельскую легкость. И потом, это удерживало ее от выпивки.
Она повернулась в кресле, схватила кружку и отшатнулась, когда губы прикоснулись к холодной саркоме, что образовалась на поверхности кофе. За ее отражением в окне море, залитое лунным светом, казалось, дрожало в лихорадке.
Джорджи встала и прокралась в кухню, которая была отделена от жилого пространства глянцевым крепостным валом из скамеек и домашних принадлежностей. Из холодильника она вытянула бутылку и сделала себе серьезный водочный компресс. Она некоторое время постояла, оглядываясь на огромную гостиную, очертания которой сливались во мраке. Гостиная была большая, и потому не было ощущения, что она загромождена мебелью, хотя в ней и стоял обеденный стол на восемь персон и компьютер, а на другом конце комнаты вокруг телевизора сгрудились три диванчика. Та стена, что смотрела на море, была целиком стеклянная, и все занавески отдернуты. Между домом и лагуной в ста метрах от дома находилась единственная лужайка и несколько жалких дюн. Джорджи хватила водки – одним глотком. Только ощущение, никакого вкуса, – именно так ей это однажды описала сестра. Она улыбнулась и слишком громко поставила стакан на сушилку. Недалеко, в холле, спал Джим. Мальчики были внизу.
Она потянула на себя дверь и вышла на террасу, туда, где воздух был прохладен и густ, он пах перепревшей травой, соленым песком и известняком, теплым прикормом и – резко и остро – чамышом. Мебель, стоявшая на улице, была покрыта бусинами росы. Легкий бриз пока не мог даже поколебать зубчатые края зонтика с надписью «Перье», но роса в это время года означала, что скоро ветер поднимется. Уайт-Пойнт сидел в зубах у «Ревущих сороковых»[1]1
Ревущие сороковые – области в океане между 40 и 50 градусами южной широты, где дуют сильные западные ветры. (Здесь и далее прим. пер.)
[Закрыть]. Здесь, на побережье Среднего Запада, ветер может и не быть твоим другом, но вот что он твой сосед – это как пить дать.
Джорджи постояла там дольше, чем следовало бы, – пока у нее груди не заболели от пронизывающего холода, а волосы чуть было не начали съеживаться.
Она следила, как луна скользит по лагуне, пока ее последние лучи не упали на перила и ветровые стекла катеров, превратив прикованные буи в судорожные, мерцающие звезды. И потом луна исчезла и море стало темно и пусто. Джорджи помедлила у холодной шиферной плиты. С нее хватит реального мира; сейчас он доставляет ей не больше удовольствия, чем рыбий жир в детстве.
На пляже что-то сверкнуло. Это, пожалуй, была чайка – в четыре-то утра! – но она вздрогнула. Сейчас было даже темнее, чем ночью; ничего не видно почти.
Морской воздух туманом клубился по ее коже. Холод жег голову.
Жаворонком Джорджи никогда не была, но в те времена, когда работала посменно, она повидала свою долю рассветов и даже больше. Как во все те утра в Саудовской Аравии, когда она возвращалась обратно в пристанище неверных и околачивалась снаружи, пока все сослуживцы не пойдут спать. Прямо в колготках она становилась на драгоценный коврик газона и вдыхала воздух Джедды в надежде поймать тень чистого морского бриза из-за высокой стены, шедшей по всему периметру. Сентиментальная привязанность к географии ее раздражала, австралийцы этому изумлялись, а больше всего – западные австралийцы. Старый предрассветный ритуал – не просто стандартная тоска по дому, она каждое утро пытается унюхать тот коктейль, которым дышала каждый вечер во времена своего речного пертского детства, – странный соленый подъем морского прилива, бурлящего в реке Суон, заходящего в бухточки через просторы устья. Но в Джедде за все свои старания она получала только дымные миазмы дороги, шедшей вдоль берега моря, выхлопы «кадиллаков» и еще полмиллиона кондюков, выдыхающих в Красное море фреон.
А теперь она здесь – годы спустя – накачивается водкой в чистом, свежем воздухе Индийского океана с жалким профилактическим упорством. Морячка, нырялыцица и рыбачка – да, но теперь Джорджи знала, что радости свежего воздуха для нее потеряны.
Уже не было смысла идти в постель. Джим встанет меньше чем через час, и ей до этого ни за что не уснуть, если, конечно, она не примет таблетку. Ну и какой смысл валяться, пока он не сядет на постели и не сделает свой первый за день решительный вдох? Джиму Бакриджу будильник не нужен, он как-то автоматически поднимается рано. Он был рыбак: что называется, рано вставать – поздно в кровать; он держал марку, к которой стремились все остальные в уайт-пойнтовской флотилии. «Наследственное», – так говорили все. К моменту, когда он выходил из лагуны и направлялся к проходу между рифами, оставляя кишащий птицами остров по правому борту, весь залив уже шумел дизелями и все остальные смотрели на то, как умирает фосфоресцирующая дорожка у него в кильватере.
В семь проснутся мальчики, одуревшие со сна, но вполне готовые к завтраку, хотя в течение следующего часа они будут становиться все менее и менее пригодными для обучения – и для школы. Она даст им с собой завтраки – сандвичи с яблочным джемом для Джоша и пять бутербродов с «Веджемайтом»[2]2
Веджемайт – популярная в Австралии овощная паста для приготовления бутербродов.
[Закрыть] для Брэда. А потом они наконец ломанутся через заднюю дверь, и Джорджи сможет включить рацию и слушать флотилию, попутно наводя в большом доме подобающий порядок. И потом, и потом, и потом…
Там, на пляже, была не чайка, это движущееся пятно; это была вспышка звездного света на металле. Как раз в тени ближней к заливу дюны. И теперь звук мотора, восемь цилиндров.
Джорджи всматривалась очень пристально и даже приставила ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть в темноте. Да. В двухстах метрах от нее по пляжу ехал грузовичок, он развернулся и подъехал прямо к кромке воды. С выключенными фарами, что по меньшей мере странно. Но его выдавали стоп-сигналы; в их розовом свете был виден катер на трейлере, центральная консоль. Маленький катер, не больше шести метров. Это не профессионал. И потом, даже суда для добычи морских ушек всегда залеплены желтыми лицензионными наклейками. А рыболов-спортсмен не станет спускать судно с такими предосторожностями в час, когда даже Джим Бакридж еще спит.
Джорджи подхватила на веранде ветровку и постояла в коридоре еще несколько секунд. Усердное тиканье часов, храп, гул приборов. Водка все еще горела у нее в желудке. Ее трясло от кофеина, и она не могла найти себе места. «Какого черта! – подумала она. В Уайт-Пойнте – и рыбак без лицензии! Надо пойти посмотреть».
Газон под ногами был в росе и оказался теплее, чем она ожидала. Она прошагала по стриженой шкурке по направлению к дюне и песчаной дорожке, ведшей к пляжу. Даже в отсутствие луны белый песок вокруг лагуны казался светящимся и порошкообразным. Там, где резвился и откуда ушел прилив, пляж был твердый и ребристый.
Где-то в темноте заработал мотор. Так тихо – должно быть, четырехтактный. Мотор недолго поработал вхолостую, и, когда дали полный газ, она всего на секунду увидела тень белой кильватерной струи в лагуне. Секретность или простая продуманность – но вся процедура прошла невероятно быстро и тихо. Где-то хлопали птичьи крылья, невидимые, но близкие, как шепот; от этого звука у Джорджи пошел озноб по коже.
На пляже неясной тенью маячил пес. Когда Джорджи подошла ближе, она поняла, что собака привязана к грузовику. Пес рычал и, кажется, все хотел залаять, но не решался.
Когда она дошла до большого оцинкованного трейлера, с него еще капала вода. Пес красноречиво заскулил. Стальная цепь терлась о решетку радиатора «Форда F-100», 4 х 4. Мечта деревенщины. Пес рвался с цепи. Он распластался по земле и, похоже, был скорее энергичным, чем злым.
Джорджи наклонилась к нему и почувствовала на ладони горячий язык. Хвост стучал по крылу автомобиля. Она увидела, что с подножки свисают водоросли, черные обрывки на похожем на тальк песке.
– Ммм, – пробормотала она. – Мы хороший пес?
Пес уселся и вытянулся в ожидании на звук ее голоса. Это была шавка, похожая на келпи, пастушью собаку, – фермерский пес, садовая разновидность перемахивающей через изгороди дворняжки-живчика. Морда, грудь и яйца, больше ничего. Он уже нравился Джорджи.
– Хороший пес, – пробормотала она. – Да, хороший парень.
Собака вытянула шею к воде.
– Поплавать хочешь, а?
«Черт возьми! – подумала она. – А почему бы и нет?»
Она разделась и сложила одежду у грузовика. Блуза уже давно исчерпала срок годности; она подняла ее, понюхала и швырнула обратно.
Спущенный с привязи пес молнией сверкнул по песку, как сбрендившая арка с перепутанными ногами. Джорджи побежала к воде и, закрыв глаза, нырнула. Этот сумасшедший прыжок вызвал у нее в памяти палату для параличных. Она слышала, как пес бьет лапами воду позади, и выгребала ленивым школьным стилем, пока не оказалась посреди заякоренных судов, в самом центре душной коррозии, птичьего помета и вони сардин. За ее спиной храбро сопел пес – фыркал, поднимая волну, которая чувствовалась спиной.
Звезды уже гасли. В паре домов зажегся свет. Один, должно быть, Джим. Сильно озадачен, наверное.
Доплыв до лугов из водорослей, где лагуна становилась кисловатой на вкус, Джорджи на какое-то время задержалась, чтобы поглядеть издалека на дом Джима. Это был голый белый куб, настоящий шок для приверженцев функционализма в архитектуре и первый в своем роде в Уайт-Пойнте. Местные в свое время называли его югославским посольством, но теперь у каждого шкипера-владельца был трофейный дом, построенный на деньги, заработанные во времена лангустного бума.
Джим, наверное, уже в ванной, стоит, прислонившись к кафельной стене, почесывает подбородок, потягивается, чувствует возраст. Несмотря на его репутацию, она все еще считала его приличным человеком – достаточно приличным, чтобы провести с ним три года, а для Джорджи Ютленд это был рекорд.
Она представляла себе его на кухне: как он кипятит воду для термоса, как переходит из комнаты в комнату и удивляется. Он выйдет на крыльцо, обследует двор, а может быть, еще и пляж и посмотрит на небо и море, прикинет, измерит скорость ветра. Он пойдет внутрь и соберет снаряжение, с которым ему придется провести восемь–десять часов в море. А если она не придет? Когда его палубные появятся в старом «Хайлюксе» в своих круглых шапочках и в облаке пивных паров, с яликами, принайтовленными к поддону, как лохань для скота, – что тогда? Все ли еще она его волнует? Несколько месяцев назад она бы лежала себе в кровати, а не плавала бы голой в заливе наперегонки с шавкой какого-то чужака, забавляясь мятежными мыслями. Но недавно из нее что-то вытекло. Испарилось в момент.
Пес терпеливо кружил вокруг нее – по-собачьи и упрямо, на самом-то деле, – и каждым волоском и каждой порой Джорджи чувствовала мерцание воды, обтекающей тело. После всех этих недель, проведенных в виртуальной реальности, было странно и почти болезненно ощущать полноту своего присутствия на земле.
Джорджи подумала о том дне, когда, несколько месяцев назад, она вспылила в детской. Она никогда бы не подумала, что одно слово может так на нее повлиять. Работая медсестрой, она наслушалась целых водопадов проклятий – от умирающих мужчин и рожавших женщин, он нарков и психов, от принцесс и умников. В экстремальных обстоятельствах люди всегда говорят мерзкие вещи. Можно подумать, что женщине нипочем эти три слога – ма-че-ха. Но слово это вылетело так жарко, и мокро, и неожиданно – его прокричал ей прямо в лицо девятилетка, ночные кошмары которого она унимала, тело которого она обтирала губкой и обнимала так часто, чью горько-глинистую мазню она вешала на холодильник, – что она даже не слышала фразы, в которую это слово было обернуто. Она просто отшатнулась, будто ей дали пощечину. Мачеха… До той поры это слово в доме не произносилось, что было в некотором роде честно; она это понимала. Джош хотел победить, желал ранить, но, кроме всего прочего, еще и просто прояснял ее статус. Она все еще видела его лицо, искаженное гримасой ярости. Это было его старческое лицо, то, что ожидало его в будущем. Ради идиотской видеоигры он вычеркивал ее из своей жизни, а его брат Брэд, которому было одиннадцать, смотрел на нее с презрением. Поднявшись, чтобы выйти из комнаты, Джорджи устыдилась всхлипа, который у нее вырвался. Никто из них не заметил, когда именно в дверном проеме появился Джим. Все глубоко вдохнули. Джорджи вышла, не дав никому и слова сказать, до того, как окончательно сорвется. Она ткнулась Джиму в подмышку и поковыляла наверх, чтобы повыть в чайное полотенце, пока не успокоилась настолько, что смогла налить себе в стакан шардонне. Голос Джима тихо и зловеще поднимался из лестничного колодца. Она поняла, что он готов их ударить, и знала, что должна спуститься и положить этому конец, но все закончилось еще до того, как она смогла взять себя в руки. Этого никогда не было раньше – ничего подобного. Потом Джорджи все думала, слово ли на букву «м» разрушило чары или все-таки сознание того, что она вполне могла бы избавить мальчиков от порки – и даже не попыталась. В любом случае все изменилось.
Это было поздней осенью. Через несколько недель ей исполнилось сорок, и она очень разумно дала этой маленькой дате проскользнуть незамеченной. К весне и к началу нового сезона она просто механически совершала привычные движения. Однажды один человек, американец, в приподнятый, веселый момент изложил ей свою теорию любви. Это чудо, сказал он. Чудо нереально, детка, но, когда оно уходит, оно кончается.
Джорджи не хотела верить в тонкую чепуху вроде того, что привязанность порождается иллюзиями, что нужен какой-то ложный миф, чтобы ты продолжал любить, работать или служить. И все же она так часто чувствовала, что романтика испаряется, что даже удивлялась. И разве не проснулась она однажды грустным утром, не находя в себе причин и дальше работать медсестрой? Ее карьера была настоящим призванием, а не просто работой. И не могло ли быть так, что эта неожиданная пустота, эта потеря какого-то благородного импульса – просто признак того, что чудо ушло? В свое время Джорджи Ютленд была своего рода морячкой, и поэтому она точно знала, что значит заблудиться на море, умереть в воде. Теперь она очень хорошо узнавала это ощущение. И в ту весну она без звука прыгнула за борт.
Вот каково оно было – выгребать по лагуне в это утро, когда небо над головой – как из фетра. Женщина за бортом. Некуда плыть. Что же ей делать? Направляться к бахромчатому рифу, стремиться в открытое море, принять вызов Индийского океана в чем мать родила вместе с освобожденным приятелем-шавкой? Грести мимо Крей-Бэнк, мимо Шельфа, мимо морского пути, мимо Западной Гряды девяностых? В Африку? Джорджи, сказала она сама себе, ты женщина, у которой больше нет даже автомобиля, вот насколько ты мобильна и независима. Раньше ты отпугивала людей размалеванными глазами, хирурги после встречи с тобой и слова вымолвить не могли. Где-то, как-то, но ты провалилась в туман.
Она легла в воде на спину, мечтая о том, чтобы открылся какой-нибудь портал, чтобы она могла нажать на какую-нибудь тупую иконку и безопасно уйти, без боли, без сожалений и воспоминаний.
Пес заскулил и попытался забраться на нее для передышки. Она вздохнула и поплыла к берегу.
* * *
На свалке за своей придорожной гостиницей похожий на медведя человек в засаленной спецовке в последний раз шваркнул дверцей потрепанного рефрижератора и перестал опираться на капот «Валианта», который какой-то хрен недавно отволок к краю пристани. Это был его утренний ритуал, его рассветный обход. Помочиться на несчастный олеандр и покурить веселой травки, чтобы смягчить горечь жизни.
Свет все еще был тускл. Уже чувствовался приближающийся порыв ветра, еще один бесконечный визжащий чертов южняк. Он затянулся крохотным косячком на песчаного цвета «Валианте» и протолкнул окурок в отверстие покрытой водорослями решетки радиатора.
С пляжной дороги, лежавшей между дюнами и лангустным складом, донеслось дребезжание трейлера и тихое переключение передачи. Уже было достаточно светло, чтобы разглядеть грузовик и позади него – катер, с которого брызгами разлеталась трюмная вода, когда грузовик выползал на асфальтовое покрытие.
– Имел я себя во все дыры, – сказал он вслух. – Чертов идиот.
«V-8» катил по узенькой главной дороге, постепенно исчезая на расстоянии.
Бивер пошаркал к внешнему двору, чтобы отпереть бензоколонку. В этом городе, черт возьми, это можно сделать с завязанными глазами. И держать язык за зубами, пока делаешь.
Внутри, у кассы, он дернул замки вниз и пощупал диски. Вторник. Может быть, «Крим». Или «Ху», «Живое выступление в Лидсе». Нет. Это будет «Скрипач на крыше».
Он открыл кассу, закрыл ее и посмотрел на пустую улицу. Вот тупой пидор!
* * *
Пока мальчики завтракали, Джорджи в сонном оцепенении занималась обычными утренними делами. Проходя мимо окна с кипой осклизлого мужского белья для постирушки, она увидела, что «Форд» и трейлер исчезли с пляжа. Прямо у нее из-под носа.
Конечно, может, это ничего и не значит. Но, если честно, в таком городке, как Уайт-Пойнт, где экипажи регулярно вытягивали из-под половицы свои кубышки и находили в них только необъяснимую пустоту, судно, не принадлежащее к местной флотилии, ходящее под покровом тьмы и исчезающее с первым лучом солнца, – это далеко не невинное происшествие. Низкопробно это как-то. Еще один идиот ищет приключений на свою задницу.
Она пошла вниз, до краев набила стиральную машину и на несколько секунд замерла; на нее напала усталость. Глаза под веками казались шероховатыми. Она, по идее, должна бы рассказать, что видела утром, по крайней мере, хотя бы Джиму. Кто бы это ни был, даже если он и не грабит кубышки, даже если он просто ловит рыбу, это просто обязан быть штрейкбрехер. Это вам не человек, приехавший на рыбалку в отпуск. Местные семьи душу дьяволу закладывают, чтобы купить лицензию. Этот парень вырывает хлеб у них изо рта.
Джорджи захлопнула крышку и ухмыльнулась собственной добродетельности. Господи, подумала она, только послушай меня! Хлеб у них изо рта? Когда-то, давным-давно, в старые добрые старые плохие времена.
Она учуяла резкий запах подгоревшего тоста, струящийся вниз по лестнице. Как же им это удается все-таки? Тостер же автоматический.
Раньше, когда поджог был полноправным инструментом гражданского воздействия и стрельба на море никого не удивляла, местные улаживали проблемы с браконьерами не без налета уайт-пойнтовской дипломатии. В пятидесятые жизнь была опасна и неразборчива и экипажи судов защищали свой кусок хлеба любыми возможными способами. Джорджи видела фотографии в пивной и в школе, всех этих на удивление лопоухих мужчин с облупившимися на солнце носами, которые позировали с голой грудью в крохотных футбольных шортиках, прищурив от света глаза. Вернувшиеся с войны солдаты, эмигранты и бродяги, их сучковатые деревянные лодки с мачтами и парусами, кормовыми румпелями и крохотными робкими дизелями, которые теперь казались невозможно медленными и неуклюжими.
Единственная безопасная гавань на много миль, Уайт-Пойнт был в те времена всего-навсего кучкой жестяных бараков под защитой передней дюны. Песчаная коса, гряда горбатых рифов и остров на расстоянии мили от берега образовывали широкую лагуну, в которой стояла первая пристань. Поселение вклинивалось между морем и величественными белыми песчаными холмами. Это был город хижин, который по периметру окаймляла стена из пустых пивных бутылок и засиженных мухами крабовых панцирей. До экспортного бума, когда почти весь улов укладывали в банки, лангустов называли раками. Их вывозили в мокрых дерюжных мешках на грузовиках, которые целых четыре часа барахтались по песчаным колеям, прежде чем доезжали до ближайшей асфальтовой дороги. Это было закрытое, почти секретное место, и в те времена Уайт-Пойнт лежал за пределами закона и удручающего влияния домашней жизни. Пространство настоящей мужской жизни. В тех редких случаях, когда в эти края заезжали копы и помощник шерифа, всегда кто-нибудь да кричал по радио «шухер», чтобы пивная успела закрыться, а алиментщики, скрывающиеся от суда, и пьяницы с издерганными нервами могли бы свалить в ближайший лесок. Большую часть времени мужчины работали и выпивали в мире, который создали сами. Как же они любили буйствовать! И когда, в свое время, сюда приехали их женщины, им, в общем, не удалось привнести в эту жизнь цивилизованное начало. Да, с ними в Уайт-Пойнт пришли стеклянная посуда и кружевные занавесочки на окнах хижин. В старых жестянках из-под керосина расцвели гераньки, и из Уайт-Пойнта начался исход идеалистов, которых оттеснили на север, в тропики; но и мужчины, и женщины, привыкшие к жизни фронтира, уайтпойнтовцы так и оставались диким, неуправляемым народом. Даже после бума, когда многие семьи стали неожиданно – и катастрофически – богаты и в город пришел закон, никто бы не осмелился сказать, что у уайтпойнтовцев кишка тонка.
Теперь рыбаки строили розовые кирпичные виллы и бункеры из бетонных блоков, тем самым превращая хижины отцов в очень даже симпатичные домики. Материалы были хорошие, но дух этого строительства был все-таки слишком непрочен, как будто местные твердо нацелились вести эфемерную жизнь. Джорджи, которой даже нравилась чертова разухабистость этого места в стиле рыбацкого ар деко, считала очень показательным то, что люди смогли-таки выстроить cтоль невозможно уродливый город в таком роскошном месте. Светящиеся дюны, остров, лагуна, затянугая водорослями, через которые проглядывали выступы кораллов, низкий, жесткий вереск, которым порос берег, – это было потрясающее зрелище даже для нее, уж она-то насмотрелась пригородных видов. Этот город был людской свалкой – и она находила в себе смелость признать, что и она точно такая же, – где людей все еще прибивало к берегу, чтобы они могли здесь спрятаться или зализать раны. Сломанные и разбитые, они становились в этом заливе на якорь, чтобы уже никуда отсюда не уходить. Летящие, нарки, ненормальные, мечтатели, даже лангустные блядушки вроде нее самой чувствовали, что этот город – настоящее дерьмо, но ландшафт когтил их, и люди оставались.
Тот простой факт, что ты становишься местным, вовсе не означал, что ты автоматически приобретаешь статус настоящего уайт-пойнтовца. Джорджи так никогда его по-настоящему и не заслужила. В общественном отношении она всегда оставалась ни рыбой ни мясом. Не потому, что она пришла сюда из мира частных школ и яхт-клубов, но потому, что нельзя было не пасть духом, выслушивая, как жены неграмотных миллионеров жалуются на обычаи семей экипажей, на то, как неопрятны их жены, как сквернословят их дети. Эти женщины, скорее всего, сами не больше как пять лет назад выползли из какой-нибудь авторемонтной мастерской; они все еще прятали собственные фингалы под слоем макияжа из дьюти-фри, но уже считали себя хозяевами жизни. Джорджи всегда держалась отстраненно и знала, чего ей это стоит. В отношении Джорджи всегда оставались какие-то неясные сомнения. Она иногда подумывала: чувствуют ли они, что она притворяется?
Настоящая рыбацкая женка, не задумываясь, сообщила бы о любом подозрительном случае. Джорджи знала, что такое контрабандист, знала, что в таких случаях требуется сделать. Просто звонок в рыбнадзор. Или словечко на ухо Джиму. Так или иначе с этим было бы покончено, и она исполнила бы свой гражданский долг. Но «отнимать у них хлеб» – да неужто! Это люди, у которых есть судно с лицензией стоимостью миллион долларов, новый «Лендкрузер» и шесть недель на Бали каждый сезон, семьи, которые владеют городскими пивными и торгуют золотом, в гостиных у которых стоят телевизоры размером с рояль? Даже самый младший палубный зарабатывает больше, чем учитель, который по шесть часов в день вынужден терпеть детей. Не то чтобы Джорджи завидовала чьим-то деньгам. Мужчины работали по семь дней в неделю восемь месяцев в году, постоянно подвергаясь опасностям, а их семьи пережили плохие времена, так что удачи им. Но она не собирается бегать по округе и защищать миллионеров от одного парня с собакой. Ей нужно отправить в школу двух мальчиков, и чувствует она себя вполне дерьмово. Кроме того, она никогда не любила «принимать участие».
* * *
На мостике сплошь был Рой Орбисон и беконовая отрыжка. Джим Бакридж все еще думал о том писке радара, который услышал рано поутру, и, направив судно к следующей стоянке, посмотрел на измятое зыбью море. Он не заметил, как палубный сошел вниз.
Канат скользил по лебедке, и корзина для лангустов на стальном основании уже давно наклонилась, но никто не открывал ее. Судно кренилось и крутилось на легкой волне, а на палубе никто и не собирался разгружать корзину. Она ощетинилась усиками, она захлебывалась лангустами – Джиму было отлично видно с мостика, – но ни один ублюдок даже задницу не почешет. Борис, ты, жопа с ручкой, чего застрял?
Кто-то начал орать.
Он дернул рычаг и пошел вниз посмотреть.
* * *
Джорджи проснулась на диванчике, когда рядом с ней начал трезвонить телефон. По телевизору толстозадые американцы ослами кричали о своих привычках, о своих сатанинских воспоминаниях, о Господе и Спасителе. Свет в доме был похож на головную боль, выжидающую, когда наступит ее черед.
– Джорджи! Ты спишь или что?
Половина лица у нее онемела. Она прижала трубку к уху.
– Нда. Да.
– Господи, да ведь уже десять часов.
– Да ты что? – Джорджи разлепила губы и отклеила от них язык.
– Слушай, через полчаса нам нужна «скорая» на пристани. И найди мне другого палубного. Борис вырубился, кровь из носу – и прямо к завтраку.
Голос Джима доносился из-за рева дизелей; это придавало ему страшный технический призвук.
– А… вы продули ему легкие?
– Ага, и в лед запаковали.
– Целиком?
– Слушай, не пользуйся рацией. Я протянул только две линии и вовсе не хочу, чтобы эта свора природных джентльменов рылась в моем добре, ага? Ты не спишь?
– Не сплю, – квакнула она. – Полчаса.
На лестнице, ведшей в гараж, Джорджи затошнило от усталости. Она потянула на себя дверь «Лендкрузера» и забралась внутрь босая. От плюшевой обивки пахло пиццей. Она нажала кнопку на дистанционном пульте. Поймав свое отражение в зеркале заднего вида, она поняла, что это вам не апофеоз женственности средних лет; она обругала себя за то, что посмотрела. Мотор на секунду захлебнулся, а гаражная дверь отъехала вверх; и когда задом выехала в крутящийся буран летнего дневного света, она услышала пистолетный звук треснувшего под задним колесом скейтборда.
* * *
В сарае – собака вьется у ног – он оставляет лодку, от которой пахнет отбеливателем. Все уладилось. Лед в кузов. Пес первым запрыгивает в кабину, читает мысли, знает распорядок. Хвост сильно ударяет его по локтю, а он переключает передачи – вверх по длинной песчаной дороге, через загубленные выгоны к шоссе. Шавка слизывает соль с его бедра. Через окно – запах мертвой травы, банксии, суперфосфата, невидимого моря.
* * *
Во дворе склада, выстроенного из ослепительного известняка, стоял пустой грузовичок Йоги, развозящий корма; его двухходовой клапан все еще скрежетал. Джорджи спрыгнула на погрузочную платформу. Кабинка конторы, вечная времянка, пропитанная густым запахом пота, была пуста. На изрезанном письменном столе стояла исчерпавшая себя бутылка озо и кассета Бадди Холл и, из которой торчала пленка, похожая на спутанные внутренности. Центральные развороты «Пентхауса» – девчонки, навощенные до мученического сияния, – были приклеены к слоистым стенам. Из дальнего конца сарая, из-за рычащего холодильника, доносился на удивление приятный воркующий мужской голос. Йоги был человек-развалина. Джорджи понимала, что его поющие трубы были умягчение Господа, момент милосердия.
– Йоги! – крикнула она. – Ты тут?
Пение смолкло.
– Эт кто?
– Да вот, Джорджи Ютленд.
– Кто?
– Джима Бакриджа жена.
– А, Джимова женушка? Господи, погоди, я в душе. И стрелка тикнуть не успеет.
– Нам нужна «скорая».
– Ща, только мыло смою.
Джорджи вернулась в контору и взглянула на плакаты на стенах. «Ну-ну, – подумала она. – Не утомит их возраст, и годы не обрекут их ни на что». Она посмотрела на часы. Есть двадцать пять минут, и за эти двадцать пять минут нужно найти трех трезвых, сведущих людей. В Уайт-Пойнте. Два добровольца для «скорой» и один невезучий мобилизованный, которому предстоит работать на палубе, идя прямым курсом на чертов юг. Если бы она не могла пользоваться странной властью Джимова имени, она усомнилась бы в том, что это вообще возможно.
– Готов!
Йоги Бер вышел, обернув бедра полотенцем с Симпсонами. Он был маленький и круглый и в таком костюме он был похож на картофелину, высовывающуюся из кожуры.








