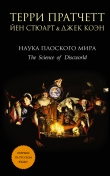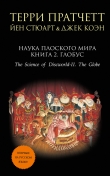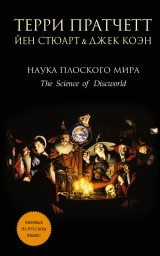
Текст книги "Наука плоского мира IV: Судный день (ЛП)"
Автор книги: Терри Дэвид Джон Пратчетт
Соавторы: Йен Стюарт,Джек Коэн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Это мир кота Шредингера, который пребывает в состоянии между жизнью и смертью, пока кто-нибудь не заглянет в ящик. Думминг Тупс упоминал его в первой главе. Что ж, так мир кота Шредингера выглядит с точки зрения квантовых физиков, несмотря на то, что сам Шредингер придерживался другого мнения, а пример с котом привел как раз потому, что настоящие коты устроены совершенно иначе. К электронам это не относится, поэтому специалисты по квантовой физике воспринимают кота как некий суперэлектрон. Впрочем, существует и альтернативная точка зрения: на самом деле произошло только событие ООТТТОО, в то время как все прочие варианты вкупе с людьми, чьи сперматозоиды не добрались до яйцеклеток, и альтернативными историями, в которых Моррис не стал выдающимся натуралистом, не имели места в действительности. В какой бы то ни было.
Так вот, в некотором смысле классическая Вселенная представляет собой суперпозицию всевозможных квантовых состояний, и именно к объяснению этого явления так стремятся квантовые физики. Тем не менее, все эти квантовые альтернативы порождают лишь одну классическую Вселенную вот почему коты не похожи на суперэлектроны. В книге КЭД[26]26
Квантовая электродинамика прим. пер.
[Закрыть] Фейнман объясняет это явление на примере световых лучей. Согласно классическому (то есть неквантовому) закону отражения, «угол падения луча, направленного в зеркало, равен углу отражения». Другими словами, луч падает и отражается под одним и тем же углом. В классической Вселенной есть только один исход, который определяется простым геометрическим правилом. В квантовой Вселенной луч света как таковой не существует его роль играет квантовая суперпозиция волнообразных фотонов, движущихся во всевозможных направлениях.
Если вы построите модель светового луча, опираясь на этот принцип, то окажется, что фотоны определенным образом концентрируются вблизи классического луча. Каждый фотон движется по собственной траектории; даже их точки соприкосновения с зеркалом могут отличаться друг от друга, а дальнейшее направление движения вовсе не обязано подчиняться классическому закону равных углов. Но если сложить волны, соответствующие каждому из фотонов то есть каждому из потенциальных квантовых состояний системы с учетом их вероятностей, то в результате мы как по волшебству получим ответ, весьма близкий к классическому отраженному лучу. Фейнман смог убедить читателей в справедливости этого специфического результата без каких-либо расчетов. Блестяще!
Обратите внимание на то, как полная квантовая суперпозиция, состоящая из всевозможных состояний, включая и такие безумные варианты, как движение по волнообразным траекториям или фотоны, которые многократно ударяются о зеркало, приводит к единственному классическому исходу именно его мы и наблюдаем. Она не порождает суперпозицию, состоящую из множества классических Вселенных, и этим отличается от традиционной истории о том, что мир, в котором Вторая мировая война завершилась победой Адольфа Гитлера, как и мир, в котором Гитлер потерпел поражение, а также неисчислимое множество других вариантов, реализующих все вероятные исходы в любой момент времени, сосуществуют друг с другом.
Да, но нельзя ли разделить такую квантовую суперпозицию на несколько классических сценариев, чтобы их суперпозиция совпадала с квантовой? Каждый классический сценарий был бы представлен в виде суперпозиции некоторых квантовых состояний, к тому же нам пришлось бы тщательно следить за тем, чтобы ни одно из состояний не использовалось дважды, но возможно ли это в принципе? Если да, то наше возражение насчет Вселенной с несколькими версиями Гитлера не будет иметь никакого значения.
Наиболее разумные классические отклонения от сценария с равными углами связаны с классическим выбором места падения луча (от которого зависит угол падения) и угла, под которым он возвращается обратно (угол отражения). Иначе говоря, мы рисуем множество прямых линий, которые выходят из источника света, достигают зеркала, а затем отражаются вероятно, под разными углами.
Так вот, в океане вероятных квантовых состояний действительно существуют фотоны, траектории которых воспроизводят всевозможные движения классического луча. Но если мы изменим точку, в которой этот луч касается зеркала, и попытаемся синтезировать луч в виде суммы близлежащих квантовых состояний, у нас ничего не получится. Чтобы воссоздать первоначальный набор фотонных траекторий, которые правильно описывают падающий луч, для каждой траектории необходимо указать вероятность, сконцентрированную вблизи этого луча. В таком случае траектории, расположенные в окрестности другого луча света, получат неправильные вероятности, которые не подойдут под описание его альтернативы. Словом, изменить точку соприкосновения с зеркалом нельзя. Это означает, что траектории, отражающиеся под другим углом, в принципе не являются классическими; в классической физике они невозможны, так как все классические траектории подчиняются закону отражения.
По-видимому, этот мысленный эксперимент, в котором описывается мини-Вселенная с зеркалом и световым лучом, указывает на то, что упомянутая квантовая суперпозиция соответствует единственному классическому состоянию, и разделить ее на несколько классических состояний не представляется возможным. Вероятно, этого можно добиться с помощью какого-нибудь хитроумного способа, но только не в мире падающих и отраженных лучей. Иначе говоря, несмотря на то, что множество квантовых состояний в этой мини-Вселенной бесконечно велико, существует лишь одна суперпозиция, которая подчиняется классической сюжетной линии. И поскольку это свойство проявляется в такой простой мини-Вселенной, можно предположить, что более сложные миры устроены аналогичным образом. В частности, несмотря на то, что классический вариант истории, в котором Гитлер проиграл Вторую мировую войну, можно разделить на невообразимое число квантовых альтернатив, все эти состояния описывают только одну классическую сюжетную линию поражение Гитлера. Более того, нельзя разбить это состояние на несколько классических альтернатив, просто поделив на части квантовые состояния, лежащие в его основе.
Если эти рассуждения верны, то у нас нет оснований считать, что отдельные квантовые состояния это нечто большее, что просто полезные математические функции.
Главная проблема, связанная с котом Шредингера, заключается вовсе не в квантовой суперпозиции, а в нашей неспособности описывать результаты квантовомеханических наблюдений так, чтобы они соответствовали реальному экспериментальному оборудованию. Когда мы проводим наблюдения и видим, что только одно из множества потенциальных состояний проявляется в действительности, мы отказываемся признавать собственное непонимание происходящего и вместо этого продолжаем настойчиво утверждать, что Вселенная делится на части, которые в совокупности реализуют все возможные варианты выбора. С тем же успехом мы могли бы настаивать на том, что Вселенная движется вокруг неподвижной Земли, вместо того, что допустить возможность вращения самой Земли.
Когда вы появились на свет, многие возможности остались нереализованными как же в таком случае быть с теми событиями, которые все-таки произошли? Могло ли большинство из них произойти случайно, благодаря генетической рулетке, из-за которой сперматозоид, несущий конкретный набор генов, достиг цели, а остальные 200 миллионов нет? Или же дело в конкретном пушечном ядре, которое лишило человека руки, но не зацепило туловище и не убило других людей? Были ли другие а возможно, и все события строго предопределены тем, что случилось мгновением раньше, которое в свою очередь было предопределено тем, что произошло за мгновение до него? Действительно ли у нас нет иного выбора, кроме как между миром, где все происходит по воле случая, и миром, в котором все события строго обусловлены и предопределены, начиная с Большого Взрыва и далее, минуя настоящее, вплоть до бесконечно далекого будущего? Действительно ли существует только одно возможное будущее?
В первых главах книги «Эволюция свободы»[27]27
«Freedom Evolves», 2003 прим. пер.
[Закрыть] Дэниел Деннет вполне убедительно доказывает, что мы не способны и никогда не сможем сделать выбор между этими двумя альтернативами. На самом деле это не настоящий выбор: понятие детерминированности/недетерминированности здесь не сработают, потому что мы никогда не узнаем, какое из них соответствует действительности. Это различие приобретает смысл, только когда мы проводим мысленный эксперимент, в котором перезапускаем целую Вселенную, начиная с того же самого состояния, и выясняем, повторяется ли одна и та же последовательность событий. Оно вполне обоснованно отражает наш образ мышления об окружающем мире и подход к его моделированию, но не является осмысленным утверждением о мире как таковом.
Мы могли бы привести примеры событий из любого места и времени, а затем обсудить их причины (благодаря чему они произошли в действительности?). Здесь мы рассмотрим три таких случая. Первый пример продемонстрирует, насколько сложно выявить какую-либо причину в реальном физическом мире, так как даже самые незаметные события могут иметь грандиозные последствия. Второе пример покажет, как в нашем культурном мире непримечательные события или же их отсутствие, способны захватить контроль над социальной Вселенной и отклонить ее историю от желаемого результата. В заключение мы продемонстрируем, как вмешательство человека может полностью изменить биологические системы и речь, кстати говоря, пойдет не о дронтах.
В 1960-х математик и метеоролог Эдвард Лоренц обнаружил, что малейшие изменения в исходных данных компьютерной программы для предсказания погоды (по довольно простой модели) могут привести к существенному изменению итогового прогноза. Это открытие в сочетании с некоторыми другими идеями положило начало математической теории детерминированного хаоса. Все мы знаем историю о том, что бабочка, взмахнувшая крылом в Токио, может спустя месяц вызвать торнадо в Техасе. Этот довольно неплохой и эффектный пример, тем не менее, существенно искажает характер причинно-следственной связи. Он наводит на мысль о том, что торнадо возникает благодаря конкретной бабочке, несмотря на то, что настоящая причина кроется в вызванном ей изменении именно оно слегка меняет условия и смещает причинно-следственное равновесие в другую сторону, на новую траекторию того же самого аттрактора. В реальном мире бабочки окружают нас повсюду.
Погода это динамическая траектория, проходящая через аттрактор, который мы называем климатом. Пока климат остается прежним, аттрактор не меняется, чего нельзя сказать о проходящих сквозь него траекториях. В этом случае мы имеем дело с той же разновидностью погоды, только события происходят в другом порядке. Изменение климата приводит к более глубоким последствиям оно меняет форму самого аттрактора. В результате мы имеем дело с совершенно другим множеством вероятных погодных траекторий. Впрочем, значительная их часть описывает возможные варианты погоды и с точки зрения первоначального аттрактора. Объясняется это тем, что аттрактор не может подвергаться каким-либо радикальным изменениям ему необязательно пересекать точку невозврата. Он может стать немного больше, немного меньше или же передвинуться на новое место, но не слишком далеко. Мы не можем наблюдать аттрактор непосредственно, но можем реконструировать его форму математическими методами, используя правильно обработанные результаты наблюдений. Простейший способ обнаружения изменений аттрактора это наблюдение таких данных, как средние значения температуры, размера и частоты ураганов, вероятности наводнений и т. д. за длительный период времени. Многие возражения против «изменения климата» путают климат с погодой.
В «Науке Плоского Мира III» мы посвятили рассуждениям о причинности довольно большой фрагмент текста, и не хотим повторять его здесь. Достаточно отметить, что ни одно событие не исчерпывается единственной причиной; практически всегда будет правильнее сказать, что каждое из предшествующих событий вносит свой вклад, чем указывать на одну конкретную причину. Но истории, тем не менее, имеют линейную структур: A влечет B, а B влечет C Такие истории постоянно встречаются на судебных заседаниях, а также в большинстве романов и почти во всех детективных или научно-фантастических произведениях. Этой вымышленной причинностью, в силу ее последовательности, руководствуются даже истории о Плоском Мире. Причина кроется в том, что люди это приматы, которые любят рассказывать истории. А история это линейная последовательность слов. Интересно было бы порассуждать о том, могла ли развитая инопланетная цивилизация обойтись без выдумывания таких историй с линейной причинностью, в которых сюжет расходится с фактами. Можно ли всегда относить события на счет трех, или четырех, или десяти, или двадцати, или тысячи причин? Или же такой точки зрения на причинность придерживаются приматы, которые любят рассказывать истории?
Если мы действительно живем в детерминированной Вселенной что бы это ни значило, то каждое последующее состояние неизбежно вытекает из предыдущего, причем свой вклад вносят и такие незначительные обстоятельства, как сила притяжения со стороны отдаленных звезд, и даже сила притяжения живых существ, которые обитают на планетах, окружающих эти звезды. Такая картина согласуется с некоторыми описаниями Вселенной: при определенных обстоятельствах (излюбленный пример это космический корабль, приближающийся к скорости света) то, что одним кажется будущим, для других расположено слева, в то время как события прошлого находятся справа. Иными словами, у любого события есть свое «место», система отсчета, в которой оно уже произошло. В результате Вселенная принимает вид колоссальной кристаллической структуры, в которой прошлое и будущее предопределены в равной мере.
Такое представлением кажется нам столь же неудовлетворительным, что и бесконечно ветвящиеся Штаны Времени. По историческим причинам эта идея частично основана на неверной интерпретации эйнштейновского понятия о мировой линии, известном в теории относительности так называется фиксированная пространственно-временная линия, которая описывает полную историю частицы. Если есть одна кривая, построенная по уравнениям Эйнштейна, значит есть всего одна история, верно? Этот вывод справедлив по отношению к миру, состоящей из одной-единственной частицы, состояние которой можно измерить абсолютно точно до бесконечного числа десятичных знаков. В сложной и необъятной Вселенной это утверждение необоснованно. Если вы начнете рисовать в пространстве-времени некую кривую и предоставите ей возможность развиваться по мере роста, то в любой конкретный момент вы, скорее всего, не будете знать, куда она повернет в следующее мгновение, и не сможете предсказать ее будущую траекторию. Уравнения Эйнштейна здесь не помогут, потому что мы не можем точно измерить текущее состояние Вселенной. Какой бы разумный смысл мы ни вкладывали в понятие детерминизма, к такой Вселенной оно не применимо, хотя после бесконечного ожидания, вы так же, как и в предыдущем случае получите одну-единственную кривую, или мировую линию.
Столкнувшись с выбором между двумя крайностями миром случайностей и миром абсолютной предопределенности, большинство из нас будет чувствовать неприязнь к ним обеим. Оба варианта противоречат нашему жизненному опыту. Это не означает, что один из них неверен, но зато позволяет донести одну важную мысль: любая теоретическая модель должна объяснять наш повседневный опыт. Она вполне может доказать, что глубоко внутри мир устроен совсем не так, как мы привыкли считать, но в то же время должна объяснить, как внутри соответствующей модели возникает привычная нам картина мира даже если эта картина неверно отражает «реальные» явления, происходящие в модели. К примеру, большую часть атома, как известно, занимает пустое пространство. Стандартное заявление о том, что это утверждение имеет научное обоснование, вовсе не означает, что стол, воспринимаемый нами как твердое тело, всего лишь иллюзия. Помимо прочего, вам придется объяснить, почему стол кажется твердым; а затем выясняется, что пустое пространство на самом деле не пустое, а заполнено квантовыми полями и взаимодействиями. Именно в этом и заключается смысл понятия «твердое тело» на выбранном уровне описания.
Иными словами, мы хотим убедиться в существовании некой свободы действий, или неопределенности происходящего, которую мы можем склонять в ту или иную сторону по собственному выбору хотя бы даже для того, чтобы просто поддерживать иллюзию обладания свободной волей. Нам бы хотелось думать, что на некотором уровне описания наши решения не являются всего лишь предопределенными исходами.
Беспокойство вызывает тот факт, что описанный подход нашел бы поддержку в лице выдающегося (хотя и порой впадавшего в заблуждение) философа Рене Декарта правда, объясняется это тем Декарт, как всем известно, разделил Вселенную на две составляющих: res cogitans и res extensa, то есть разум и материю. Разум, или res cogitans, по Декарту должен обладать свободой, чтобы осуществлять контроль над телом, res extensa. При этом он считал, что само тело не оказывает на разум практически никакого воздействия.
Задумайтесь над случайными обстоятельствами истории, которые сошлись воедино в персоне Декарта и разделили его мир надвое, что впоследствии привело к всевозможным аномалиям в современной интеллектуальной жизни от деления университетов на гуманитарные и естественнонаучные факультеты, представители которых едва ли считают своих «противников» умственно полноценными личностями, до популярных и, в лучшем случае, иррациональных представлений о разуме и душе.
В своей книге «Основы биосемиотики»[28]28
«Essential Readings in Biosemiotics» прим. пер.
[Закрыть] Дональд Фаваро приводит один замечательный пример. Вначале он рассказывает об Аристотеле, который написал около 26 эссе, из которых только шесть были в VI веке переведены на латинский язык Боэцием. Два сочинения («Категории» и «Об истолковании») были посвящены материальному миру, одно («Первая аналитика») разуму, а темой оставшихся трех («Вторая аналитика», «Топика» и «О софистических опровержениях») были логические рассуждения и правовые нормы. Сочинение «О душе» (лат. «De Anima» «жизнь», или «душа»), посвященное объединению разума и материи, не переводилось вплоть до XIII столетия и в течение тысячи лет оставалось за рамками традиционного западного представления о «трудах Аристотеля», целиком основанного на переводах Боэция. Кстати говоря, это сочинение было переведено Жаном Буриданом с арабского языка в 1352 году; на тот момент все крупнейшие библиотеки располагались в Аравии или Испании, а мусульманская религия имела большое влияние. Но несмотря на это, в число стандартных «трудов Аристотеля» сочинение так и не попало.
Декарт, в частности, имел доступ к эссе «Категории» и «Об истолковании», но не был знаком с сочинениями «О Душе» и «О восприятии и воспринимаемом», в которых Аристотель представил несколько замечательных идей насчет объединения разума и тела. И вот, будучи уверенным в собственной непредвзятости, а в действительности имея представление лишь о части весомых доводов Аристотеля, он отделил разум от материи. Тем самым Декарт заложил надежный фундамент интеллектуального разобщения, которое продолжалось вплоть до «Кибернетики» Норберта Винера, ставшей точкой соприкосновения обратной связи и машин.
Эта случайность, из-за которой эссе «De Anima» оказалось недоступным для Декарта и Фрэнсиса Бэкона, опубликовавшего «Новый органон» в 1620 году на основе шести сочинений, переведенных Боэцием, полностью изменила интеллектуальный климат Европы на четыре последующих столетия. На всем протяжении от Ньютона до Эйнштейна физика ни разу не задумалась над смыслом информации. Шекспир, Сэмюэл Тэйлор Кольридж и другие авторы вплоть до Кингсли Эмиса, Джона Бетчемана и Филипа Ларкина писали о машинах и промышленности, но всегда занимали позицию стороннего наблюдателя.
Первым шагом к сближению мира разума с миром материи, стали Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, которые не принадлежали ни одному из этих миров и уж тем более двум мирам сразу. А затем, после окончания Второй мировой войны, во время которой многие ученые были заняты проблемами коммуникаций, Клод Шеннон начал публиковать статьи, превратившие информацию в количественное понятие. Вскоре после этого возникла кибернетика, в рамках которой обратная информационная связь, взаимодействуя с усилением и другими физическими процессами, приводила к изменению выходного сигнала. Первым примером такого взаимодействия был предохранительный клапан парового котла: когда давление становилось слишком высоким, этот клапан выпускал часть пара. Винер добавил к ним комнатные термостаты, которые могли включать или выключать отопление. Практически во всех звукоусилителях обратная связь используется для улучшения качества звучания путем подачи выходного сигнала обратно на вход.
В данном случае информация используется для управления механическими системами, что открывает совершенно новые возможности для технологической магии. Внутри каждого ноутбука, айфона и, если уж на то пошло, холодильника скрыта длинная цепочка «заклинаний» программных инструкций, заставляющих универсальную электронику решать конкретные задачи, необходимые для работы гаджета. Программисты это волшебники современности.
Отношение лингвистики к информации подобного рода, тем не менее, оставалось без внимания. И лишь на рубеже тысячелетий Стивен Пинкер, специализирующийся в области психологии языка, написал книгу «Как работает разум» [29]29
«How the Mind Works», 1997 прим. пер.
[Закрыть], выступая одновременно с неврологической и лингвистической позиции. Спустя три с половиной сотни лет две точки зрения пришли к плодотворному соглашению.
В более поздней книге «Наши ангелы становятся лучше»[30]30
«The Better Angels of Our Nature» прим. пер.
[Закрыть] Пинкер доказывает, что современные люди уже не проявляют такой жестокости, как их предки. Свою точку зрения он подкрепляет многочисленными примерами. Почти все рецензенты расходятся во мнениях с автором; эти люди слепы к данным статистики. Их комментарии насчет вполне очевидного спада насилия за несколько последних веков исходят из того, что этот спад на самом деле мнимый и не имеет аргументированного подтверждения. Практически ни один комментарий не выражает современной и уравновешенной точки зрения; почти все они высказываются с позиции или гуманитарных, или естественных наук, но не тех и других одновременно.
Теперь, когда разделение между разумом и материей погребено под землей, или, по крайней мере, находится одной ногой в могиле, каков же современный взгляд на причинность? Пора перейти к нашему второму примеру, который сам по себе состоит из трех взаимосвязанных вопросов: день и ночь, радуга и включение света.
Отчего происходит смена дня и ночи? Ответ прост и очевиден[31]31
Впрочем, это не кажется очевидным 20 % американцев, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли, и еще 9 %, которые просто не знают ответа. См. «Темные века Америки» («Dark Ages America») Морриса Бермана.
[Закрыть]. Все дело в силах притяжения, которые действуют согласно закону всемирного тяготения, а также осевом вращении Земли, из-за которого Солнце освещает разные части планеты. Примерно за 24 часа Земля совершает один оборот этим и объясняется смена дня и ночи. Все просто.
Теперь давайте поразмышляем о радуге. Здесь дела обстоят немного сложнее. Каждого из своих шести детей Джек отправил в школу, чтобы задать учителям один и тот же вопрос: «Как возникает радуга?». Во всех шести случаях учителя дали ответ, который мы (в другой книге) окрестили «ложью для детей» [32]32
Этой фразой мы не хотим кого-либо унизить просто она хорошо иллюстрирует одну образовательную дилемму. В книге «Крушение хаоса» («The Collapse of Chaos») профессия «лжеца-для-детей» пользуется большим уважением на планете Заратустра. Это название отражает тот факт, что учителям время от времени приходится упрощать свои объяснения, чтобы подготовить почву для более сложной информации в будущем. Наблюдения Заратустриан показывают, что любое из подобных объяснений можно считать истинным при подходящем толковании «истины», однако порой ценность такого толкования не слишком велика.
[Закрыть]: «Капля похожа на маленькую призму, а призма, как вам известно, расщепляет световой луч на несколько цветов». «Нет», отвечали дети Джека, «свет расщепляют только острые края призмы, а у дождевых капель острых краев нет. Но вообще-то преломление света в дождевых каплях нам понятно; мы хотели узнать, как в небе появляется такая красивая дуга». И тогда все учителя разными словами ответили: «Не знаю», а двое добавили: «Когда узнаешь, расскажи и мне, пожалуйста», чем заслужили солидный бонусный балл.
Насчет острых краев призмы дети были неправы: свет преломляется даже на скругленных углах. Но они совершенно справедливо сосредоточили внимание не на цветах радуги, а на ее форме. Пока вы не дадите объяснение формы, вы не поймете, почему цвета, испускаемые миллионами дождевых капель, не смазывают друг друга.
Реальная физика явления довольно сложна, хотя и была известна Декарту. Проходя через дождевую каплю, солнечный свет преломляется (и расщепляется на несколько цветов), а затем меняет направление (в результате полного внутреннего отражения) и движется обратно в сторону Солнца, причем лучи разных цветов продолжают отдаляться друг от друга. Применив кое-какую замысловатую геометрию, можно показать, что в этом случае наблюдается эффект фокусировки, так как поведение лучей, проникающие внутрь капли, зависит от точки их падения. Большая часть лучей определенного цвета концентрируется в виде «пучков», расположенных под углом около 670 по отношению к первоначальному направлению. Этот угол зависит от длины световой волны, то есть от ее цвета. Таким образом, встав спиной к Солнцу, вы увидите разноцветный букет световых лучей, которые, пройдя через дождевые капли, движутся в вашу сторону и образуют в небе дугу окружности с углом 670. Тот, кто стоит на метр правее, видит не ваши капли, а капли, соответствующие другой окружности, также расположенной на метр правее вашей.
Много лет тому назад, когда мир был еще юн, Джек учился на раввина и вырос с более-менее твердой верой в Бога, Авраама и завет между ними (Бытие, 9:13). Он восхищался радугой тогда и продолжает восхищаться сейчас. Какая замечательная идея и какой сложный способ для ее реализации. Да и разве свет не преломлялся ровно таким же образом еще до заключения завета? Теперь он видит в радуге одно из украшений материального мира процессы, которые вызывают восхищение и, на первый взгляд, кажутся маловероятными, или эволюция программы развития лягушек, которая должна справляться с сильными перепадами температуры и требует генома, который по длине превышает человеческий. Он не воспринимает их как дело рук Бога, и тем не менее, выражает свою признательность. Он действительно хотел бы знать, есть ли на свете существа, помимо людей, которые способы наслаждаться видом радуги, или испытывать наслаждение как таковое. Но радуги были «на своем месте» задолго до появления людей. Возможно, они доставляли удовольствие цивилизации крабов («Наука Плоского Мира», глава 31, «Огромный прыжок в сторону»).
То же самое касается и причинной обусловленности радуги сложная физика и результат, достойный восхищения.
Теперь подошла очередь по-настоящему сложной причинно-следственной связи включение света. Думаете, это тоже просто? Вовсе нет. Из освещенного коридора вы заходите в комнату, где есть выключатель. Дальше нейроны выполняют какие-то хитроумные действия, задействуют разные сенсорные и моторные штуки, и в результате мышцы, находящиеся в вашей руке, поднимают ее таким образом, чтобы ваш палец привел в действие выключатель. Вы нажимаете выключатель (или поворачиваете, или делаете что-нибудь еще) и замыкаете электрическую цепь. Теперь переменный ток может проникнуть в контур, соединенный с электрической лампой, в которой, вероятно, имеется нить накаливания нить мгновенно разогревается примерно до 3 000 °C, выделяя огромное количество тепла и довольно большое количество света. На ее месте могла оказаться флуоресцентная трубка или светодиодная лампа с более эффективной светоотдачей, то есть излучающая меньше тепла.
Нам нужно не только задуматься о том, как вы заставляете свой палец нажать на выключатель, но еще и понять, как электросистема может, ничего не делая, просто дожидаться того момента, когда вы приведете ее в действие.
У Джека есть друг, электрик добрый и отзывчивый парень, который поможет вам решить проблемы с электричеством, если вы ему позвоните. У этого электрика есть немало друзей и знакомых среди вузовских преподавателей, и он уже по меньшей мере три раза оказывался в следующей ситуации. Некий человек звонит ему, чтобы спросить, почему не работает электроприбор, подключенный к розетке, которую они купили и вставили в стену. И вот что выясняется, когда электрик приходит в этот дом: звонившие на полном серьезе не знали, что в стене должны быть проложены провода, которые соединяют розетку с источником электроэнергии. Они думали, что хватит одной розетки.
Эта проблема частично связана со старым разделением между гуманитарными и естественными науками, но одним из упомянутых людей был биолог. Что же такого таинственного в электричестве? Нам кажется, что проблема заключается не в самом электричестве и даже не в понимании того, как оно работает. Все дело в скрытых инвестициях. Много лет тому назад ко многим общественным зданиям были подведены газовые трубы, снабжающие топливом светильники благодаря им люди могли работать в темное время суток, когда электроснабжения еще не было налажено. Мать Джека возглавила пятый этаж старой фабрики на Миддлсекс-стрит в Лондонском Ист-Энде. Через все этажи проходили движущиеся ремни, которые вращали стержни, соединенные с ее швейными машинами, и приводились в действие огромными элекродвигателями в подвале. Когда в 1960-х Джек спустился в подвал, чтобы на них посмотреть, он был поражен тем, что еще осталось от старой гидравлической системы: вода подавалась в здание по трубам из центральной насосной станции и, выполнив свою работу, возвращалась обратно по-видимому, это происходило между 1880 и 1910 годами.
Теперь подобные капиталовложения превратились в ископаемые и уступили место электрическим кабелям; на деле источники энергии неоднократно сменяли друг друга, но для стороннего наблюдателя эти изменения оставались незаметными и проявлялось только в счетах, присланных Лондонской гидроэнергетической компанией. В распоряжении Лондонской гидроэнергетической компании находилась 181 миля чугунных труб, которые располагались под Лондоном и поставляли энергию на фабрики. Кто бы мог подумать, что мы об этом забудем? Сейчас электрические кабели в домах не лежат на виду, но раньше они представляли собой пару переброшенных через сад проводов, соединенных с местным трансформатором. Такие провода до сих пор можно увидеть во многих сельских районах, однако в британских городах и пригородах кабели, подведенные к домам, как правило, расположены под землей (в Америке и Японии это встречается реже).
В итоге тем, кто решил туда заглянуть, уже не очевидно, сколько средств и труда было вложено в систему распределения энергии. А поскольку провода не лежат на виду, люди далеко не всегда знают об их существовании и тем более об их необходимости. Тем не менее, именно благодаря этим скрытым проводам мы можем зажечь свет простым поднятием руки.