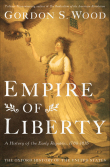Текст книги "Истоки контркультуры"
Автор книги: Теодор Рошак
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава III
Диалектика освобождения: Герберт Маркузе и Норман Браун
Появление Герберта Маркузе и Нормана Брауна в качестве крупных социальных теоретиков среди диссидентствующей молодежи Западной Европы и Америки нужно воспринимать как одну из определяющих характеристик контркультуры; ведь в их работах говорится о неизбежной конфронтации Маркса и Фрейда. Это настоящее столкновение двух самых влиятельных, но не терпящих прямого сравнения социальных критиков современного Запада, восходящее непосредственно к трудной задаче установления порядка приоритетов физиологических и социологических категорий, которые Маркс и Фрейд завещали нам для понимания человека и общества. Нельзя обойтись ни без психики, ни без социальной классовой структуры; но одна из этих концепций в своей зрелой форме должна получить приоритет в систематической критике. Индивидуальная реальность и социальная реальность – что из них является приоритетной движущей силой в нашей жизни? Что из них вещественно, а что – тень?
Речь при ранжировании этих двух категорий идет о природе человеческого сознания и значении освобождения. И Маркс, и Фрейд считали человека жертвой ложного сознания, от которого его надо освободить, чтобы он смог самореализоваться, но основывали свои диагнозы на совершенно разных принципах. У Маркса то, что скрыто от рационального восприятия, – это реальность эксплуатации, существующей в нашей социальной системе. Культура – «идеология» в уничижительном смысле слова – встает между разумом и реальностью, маскируя деятельность ненавистных классовых интересов, причем нередко с помощью тонко рассчитанного промывания мозгов. Однако в конечном счете Маркс верил, что научный социализм в состоянии пробиться сквозь обман и трансформировать скрытую за ним социальную реальность. У Фрейда от рационального восприятия скрыто содержание подсознания. Культура выступает в обмане не как маска, скрывающая социальную реальность, но как экран, на который личность проецирует себя в широком диапазоне «сублимаций». Сможет ли человеческий разум когда-нибудь понять и принять источник подавленных культурных иллюзий? К такой вероятности Фрейд относился пессимистично, ведь его жизнь проходила в условиях все более саморазрушительной цивилизации.
Вот здесь мы и сталкиваемся с проблемой. Является ли личность, как сказал бы Маркс, отражением «способа производства материальной жизни»? Или социальная структура, как утверждал Фрейд, является отражением нашей психики? В такой постановке вопрос кажется чересчур прямолинейным. Однако прежде чем ответить, давайте рассмотрим, как Маркузе и Браун не менее решительно разошлись во взглядах на эту проблему. Возьмем один пример: в своей последней книге Браун, заявивший, что истинный психоанализ заключен в самых оскорбительных его преувеличениях, предлагает психоаналитическую концепцию «священного царствования»:
«Король Яков сказал в 1603 году: “Что господь соединил, человек да не разъединит. Я муж, а весь этот несчастный остров – моя законная жена”. Фаллическая персонализация и восприимчивая аудитория состоят в коитусе: они делают это, пока у него не наступит оргазм… Король – это эрекция государства… У Даниила десять рогов символизируют десять царей; в Камбодже лингам прославлен в храме в центре столицы в ипостаси Деварайи, Бога-Царя. Его королевское величество персонифицированный пенис»[94]94
Норман Браун. Тело любви (Нью-Йорк. Рэндом-Хаус. 1966). С. 132–133. – Примеч. авт.
[Закрыть].
На что Маркузе энергично возражает:
«Если говорить о скрытой сути, земные царства – всего лишь тени, но, к сожалению, они приводят в движение людей и объекты, они убивают, они существуют, несмотря ни на что, и торжествуют как при солнце, так и при луне. Король может быть эрегированным пенисом, и его отношение к обществу может быть половым сношением, но, к сожалению, наряду с этим существует кое-что совсем другое, менее приятное и более реальное»[95]95
Герберт Маркузе. Любовь озадаченная: критика Нормана О. Брауна. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Кто же тогда король? Социальный эксплуататор, чья власть идет от вооруженной силы и экономических привилегий? Или спроецированный образ отца, чья власть исходит от доминантного фаллоса, который он воплощает? Удобный ответ (правильный, но поверхностный) – и то, и другое. Но чем является король в первую очередь, по происхождению и значению? Порождают ли социальные привилегии эротический символизм? С философской точки зрения проблема затрагивает вопрос местоположения реальности, направления, в котором указывает метафора. С политической точки зрения она ставит вопрос, как достичь нашего освобождения. Как нам избавиться от короля или его господствующих суррогатов? Путем социальной или психологической революции? И снова удобный ответ – и того, и другого. Но с чего начать? Какая революция «более реальна»?
Вклад Маркузе и Брауна, затеявших эти тяжеловесные дебаты, в контркультуру заключается в попытке создать радикальную социальную критику, проистекающую из психоаналитических наблюдений. Они стремились ослабить традиционные идеологии, в которых классовые, национальные и расовые интересы берутся по себестоимости – ведь они воспринимаются сознательно и четко – и используются как материал для аксиом. Как с Маркузе, так и с Брауном мы оказываемся под риторической поверхностью политической жизни, потому что политика, как и остальная наша культура, предположительно сродни патологическому поведению, и даже принципиальное восстание несет в себе риск оперировать государство инструментами, зараженными той самой болезнью, от которой умирает пациент.
Но Маркузе и Браун пришли к Фрейду разными путями и выделили у него отчетливые расхождения в указаниях направления дальнейшего движения. В противоречии, которое в конце концов их разделило, Маркузе занял более осторожную позицию, отмежевавшись от эксцессов Брауна. У Маркузе психоаналитические прозрения Фрейда ведут к трансформации традиционной идеологии, а не, как угрожает последняя работа Брауна, к ее уничтожению. Изначальной целью Маркузе является ассимиляция Фрейда в гегельско-марксистскую традицию, в которой он видит собственные интеллектуальные корни. До Второй мировой войны Маркузе поддерживал отношения с институтом социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, крупным центром изучения неомарксизма. Тогда, как и теперь, его основной темой была социальная теория Гегеля; но из своей академической среды он вынес сильнейшую потребность говорить о том, что волновало его коллег-марксистов. Как социальный философ, работающий в компании ученых-социологов и политических активистов, Маркузе прекрасно сознавал необходимость сделать свои рассуждения применимыми ко всем актуальным мировым дилеммам, чтобы вести продуктивный диалог со своими прагматичными коллегами. В конечном счете Маркузе становится убежденным сторонником левых, по-прежнему видя в социализме надежду для будущего, но желая обогатить социалистическое видение мира, привив ему фрейдистский аспект. Именно поэтому радикальные студенты Европы со своим традиционным левым уклоном с готовностью назвали Маркузе идеологическим преемником Маркса.
Браун, напротив, пришел к социальной критике законченным индивидуалистом. Его исследование «психоаналитического значения истории» в «Жизни против смерти» стало поздним и весьма эксцентричным достижением в его карьере. Раннее классическое исследование Брауна – аккуратное, скромное, традиционное – почти не содержит наступательного размаха ницшеанства, который теперь ассоциируется с Брауном[96]96
См., например, его «Гермеса-похитителя» (Мэдисон. Уиз. Университет Висконсин пресс. 1947). – Примеч. авт.
[Закрыть]. Свои социальные размышления Браун начинает с Фрейда и переходит со своим Фрейдом прямо к делу. Он не привносит с собой в психоанализ прежней привязанности к левым идеологиям. В своей работе Браун мало ссылается на Маркса, хотя достаточно очевидно, как решительно он ставит под сомнение учение марксизма. Помимо этого, он известен уклонением от политических пристрастий и утомительных фракционных разногласий. Если мысль Брауна смелее и экстравагантнее, чем у Маркузе, это потому, что он работает со свободой ученого, который забросил свою специальность и окунулся в социальную критику безо всяких ограничений. Результатом стала бурная оригинальность дилетанта, который пускается в умозрительные приключения, не заботясь о традиционной мудрости профессионалов или идеологически подкованных коллег. Для ортодоксального фрейдиста свобода интерпретаций у Брауна скандально широка. Для радикального активиста его политика упорно аполитична. И все же моя позиция здесь такова, что в сфере социальной критики контркультура начинается там, где Маркузе с разгона остановился и где Браун без долгих предисловий бросился в тему очертя голову.
Прежде чем изучить проблемы, разделившие Маркузе и Брауна, давайте рассмотрим, что их объединяет. Это важно, потому что и Маркузе, и Браун достойны всяческих похвал за значительные и очень схожие вклады в современную социальную мысль. Лучший способ показать новизну их работ – сравнить их с традиционным марксизмом.
Интересно, что претензии к марксизму, которые предъявляют Маркузе и Браун, исходят из общей почвы с Марксом, вернее, «с теневыми молодыми «протомарксистами», которые потянулись к философии под дурманящим влиянием немецкого идеализма. Рукописям, в которых Маркс в общих чертах обрисовал и затем отверг свои юношеские размышления, было суждено найти дорогу в печать лишь спустя примерно пятьдесят лет после его смерти, но с этого момента карьера этих сочинений стала феерической. Эти работы, фактически бедные содержанием, стали парником марксистского гуманизма, то есть марксизма, который, как считается, все еще сохраняет революционную актуальность в условиях капиталистического и коллективистско-бюрократического изобилия[97]97
Сочинения были опубликованы в «Экономико-философских рукописях 1844 года» (Москва. Издательство литературы на иностранных языках. 1959). – Примеч. авт.
[Закрыть].
Маркузе, который охотно отождествляет себя с марксистским учением, видит ценность этих трудов в акценте на «тенденциях, которые были разжижены в позднейших интерпретациях социальной критики Маркса: элементы коммунистического индивидуализма, отречение от любого фетишизма, касающегося обобществления средств производства или роста производственных сил, и подчинение этих факторов идее свободной реализации личности»[98]98
Герберт Маркузе. Разум и революция: Гегель и рост социальной теории (Оксфорд. Оксфорд юниверсити пресс. 1941). С. 294–295. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Бесспорно, ученические труды молодого Маркса не лишены очарования, несмотря на незрелость стиля и отталкивающую гегелевскую неясность. Эссе не только пронизаны теплой личной заботой о человеке; на том этапе жизни Маркс не стеснялся с большим воображением распространяться о поэзии и музыке, об игре и любви, о красоте и жизни чувств. Как мы увидим, в этих сочинениях есть параграфы, где Маркс разворачивает аналитические картины великих психологических перспектив. И все же в новомарксистском буквоедстве есть нечто жалкое и одновременно комичное – сейчас они настаивают, что эти забракованные, рудиментарные упражнения – «истинный» Маркс и что, если как следует «причесать» работы, мы найдем в них (видимо, в них одних из всей литературы того периода) всю фундаментальную мудрость современной гуманистической мысли[99]99
Пример таких неумеренных дифирамбов (в нашем случае вроде бы от знатока) можно найти у Эриха Фромма в толковании старых записных книжек Маркса под названием «Марксовская концепция человека» (Нью-Йорк. Унгар. 1961). Суть сочинения Фромма в том, что Маркс был «цветом западного гуманизма», «проникшим в самую сущность реальности…», просто его всегда превратно истолковывали. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Маркузе, защищая общую преемственность работ Маркса, протестовал против попытки ограничить гуманизм Маркса его ранними работами. «Подлинная сущность марксистского гуманизма, – говорил он, – появляется и в «Капитале», и в поздних работах». Но Маркузе идет дальше – он определяет этот «гуманизм» как «построение мира без доминирования или эксплуатации человека человеком»[100]100
Герберт Маркузе. Разновидности гуманизма. Сентер мэгэзин. Июнь 1968. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Действительно, протест против эксплуатации проявляется у Маркса от начала до конца вместе с прочей преемственностью. Но протест появлялся у всех социалистических и анархических теоретиков за последние полтора века. Если в ранних рукописях и есть отличительная черта, то это непривычная психологическая и поэтическая чувствительность. А если расценивать эти рукописи как открытие, как предлагают марксисты-гуманисты, тогда решающим в нашей оценке места упомянутых рукописей в марксовской антологии должно быть соображение, что сам Маркс предал эти труды забвению и никогда не возвращался к духу свободного размышления и эстетической глубине, за исключением отклонений от основной линии, которые заметит только умнейший ученый-марксист. То, что перестало оказывать влияние на Маркса, еще меньше влияло на большинство его исторических последователей. За исключением роли, какую они сейчас играют – ценная, кстати, роль – в орошении пересохшего воображения сухарей-марксистов, «Экономические и философские манускрипты» являются, в историческом контексте, интеллектуальной неудачей, в которой винить некого, кроме самого Маркса.
Ставя ранние рукописи Маркса очень высоко, марксисты-гуманисты, возможно, приписывают Марксу собственные качества ума и души. В случае Маркузе это именно так. Поэтому, по моим предположениям, то, что очевидно и централизованно присутствует у Маркузе и лишь маргинально угадывается у Маркса, нужно поставить в заслугу Маркузе как аутентичное развитие традиционного марксизма.
Теперь мы с Маркузе и Брауном вернемся к господствующей богатой традиции немецкого романтизма, который Маркс оставил ради так называемого «научного» социализма. Маркузе и Браун словно бы задним числом увидели, что неспокойная романтическая чувствительность, одержимая от начала до конца парадоксами и безумием, экстазом и духовным поиском, содержала куда более великие прозрения, чем подозревал Маркс. В частности, эта традиция продолжалась в работах Фрейда и Ницше, главных психологов фаустовской души. Таким образом, мы находим у Маркузе и Брауна высшую оценку, основанную на тех же самых элементах культуры, которые Маркс, с его компульсивным упрямством, заклеймил статусом «теней в человеческом мозгу»[101]101
Как отмечает Х.Б. Эктон, единственное «ментальное производство», которое Маркс вроде бы не относил к уничижительной категории идеологии, это естественные науки, потому что они все-таки «эмпирически доказуемы». «Что на самом деле говорил Маркс» (Нью-Йорк. Шокен букс. 1967). С. 77–80. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Миф, религия, сны, видения – такова была темная вода, в которой Фрейд улавливал свою концепцию человеческой натуры. На оккультные темы у Маркса не хватало терпения, зато он часами корпел над скучной промышленной статистикой британских «синих книг», где у человека мало возможностей появиться в иной роли, нежели homo economicus, homo faber[102]102
Человек рабочий (лат.).
[Закрыть]. Маркузе и Браун, напротив, настаивают, что мы можем научиться большему у сказочных образов Нарцисса, Орфея, Диониса, Аполлона, чем из скучных приходов-расходов.
Когда миф и фантазия становятся предметом науки о человеке, диапазон исследований увеличивается на несколько порядков. Промышленная статистика – язык настоящего; миф – язык веков. Для Маркса современная эра была уникально значительна; это была «последняя антагонистическая форма социального процесса производства». По этой причине основные исторические теории Маркса втиснуты в этот апокалипсический интервал, а источниками служили непосредственные предшественники. Когда читаешь переписку и памфлеты Маркса и Энгельса, поражаешься острой злободневности их забот, близорукой сосредоточенности на том, что происходит здесь и сейчас, рьяным выискиванием правых в каждой мелкой войне и в политике силы того времени (обычно правым оказывался германский рейх), как будто сознательные политические обсуждения и акции сегодня, завтра и на следующей неделе действительно могут на что-то повлиять. В рамках такой ограниченной перспективы было слишком очевидно, кто чей враг и как надо бороться с недостатками.
Но Маркузе и Брауну, последователям Фрейда, не так легко разделить всех на негодяев и героев или всерьез принимать поверхностную политику своего времени. Для них основным предметом изучения становится цивилизация в целом. Индустриализм под эгидой капитализма или коллективизма ассимилировался в общую историческую категорию, которую Маркузе называет «логикой доминирования», а Браун «политикой греха, цинизма и отчаянья». В поисках истоков промышленного конфликта фрейдистский пафос уносит обоих в то время, когда цивилизации еще не существовало, в эволюционное прошлое. Как и Маркса, их волнует диалектика освобождения. Подобно Марксу, они стремятся придать гегелевской концепции истории «материальную» основу, чтобы диалектическое развитие обрело почву под ногами. Но не марксовский классовый конфликт (для Маркузе – не только классовый конфликт) отвечает их поискам; здесь вечным полем битвы становится человеческое тело, наполненное борьбой инстинктов.
Поэтому освобождение – проект более масштабный и одновременно более тонкий, чем полагали большинство социальных бунтарей. Те, кто верит, что для освобождения человека достаточно стремительного революционного натиска и замены коррумпированной элиты на благонамеренную, рискуют сами нанести себе поражение – недостаток, который Маркузе видит во всех революциях прошлого.
Соответственно, ключевая проблема алиенации (отчуждения) приобрела для Маркузе и Брауна совсем иное значение, нежели то, которое можно найти в зрелых работах Маркса. Это, конечно, будет оспорено многими марксистами-гуманистами (может быть, даже тем же Маркузе), для кого «алиенация» стала пропуском великой идеологии в современную актуальность. Невольно задаешься вопросом, помнили бы Маркса западные интеллектуалы, не вверни он случайно новое модное словечко. Подчеркиваю – случайно, ибо, как убедительно доказал Дэниел Белл[103]103
Дэниел Белл. «В поисках марксистского гуманизма: дебаты об алиенации». Советский обзор.? 32. Апрель – июнь 1960 г. Эрих Фромм оспаривает выводы Белла в «Марксовской концепции человека», но, по-моему, неудачно. С. 77–79. – Примеч. авт.
[Закрыть], понятие отчуждения в трудах Маркса имеет самую маргинальную связь с развитием этой идеи у Кьеркегора, Достоевского или Кафки. Неомарксисты пытаются ввести Маркса в современный мир по следам художников и философов-экзистенционалистов, для которых насущные проблемы социальной справедливости, классовая борьба и промышленная эксплуатация были заботой в лучшем случае второстепенной.
Интересно, однако, отметить, как более философически настроенный молодой Маркс трактовал концепцию отчуждения. В одном из ранних сочинений он соотносит отчуждение труда с психической жизнью человека и с отношением человека к природе. Это гораздо более впечатляющая (поскольку более обобщенная) концепция отчуждения, чем все, что позже появится в работах Маркса, но вывод он делает странный. После сложного анализа Маркс решает, что «частная собственность является… продуктом, результатом, необходимым последствием отчужденного труда, внешней связью рабочего с природой и с самим собой» (курсив мой). Это заставляет Маркса задать глубокий вопрос: «Как… человек пришел к отчуждению своего труда? И как это отчуждение коренится в природе развития человека?»
Абсолютно поразительная мысль у Маркса, как зрелого, так и юного, потому что здесь он предполагает, что изначальный акт отчуждения, имеющий место в «развитии человека», нельзя привязать к экономическому процессу; более того, он фактически порождает частную собственность и все ее зло. Чем же является этот акт отчуждения? К сожалению, рукопись, призванная разрешить эту важнейшую проблему, обрывается, не дав ответа. Был ли ответ у самого Маркса?
Возможно, и был, но не очень «марксистский». Ранее в том же сочинении Маркс снова размышляет об истоках отчуждения. Он спрашивает, что такое «чуждая власть», которая вмешивается с целью присвоить труд людей и помешать их самореализации. Может ли это быть «природа»? Конечно, нет, отвечает Маркс.
«Что за противоречие было бы, если бы чем больше человек покорял природу своим трудом и чем больше промышленные чудеса делали бы излишними чудеса богов, тем больше людей отказались бы от радости производства и наслаждения результатами в пользу этих сил».
В самом деле, что за противоречие! Почти диалектическое противоречие, можно сказать. Но Марксу не удалось объяснить сей парадокс – в конце концов, он не был ни ницшеанцем, ни фрейдистом[104]104
Размышления об «отчуждении труда» см. в «Экономических и философских рукописях 1844 г.». С. 67–83. Правда, в других сочинениях верный своим принципам Маркс упрямо настаивает, что упразднение частной собственности является единственным гарантированным способом уничтожения отчуждения. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Если отчуждение означает кошмар экзистенциальной невесомости, которая ассоциируется с кафкинским «белым воротничком» Джозефом К. или толстовским чиновником Иваном Ильичом, тогда социоэкономическое отчуждение, которое Маркс увидел в жизни пролетариата, – максимум вторичный частный случай глобального феномена. Как мы увидим, Маркузе и Браун резко расходятся в диагнозе этого состояния, но единодушно настаивают, что отчуждение в обобщенном смысле – явление в первую очередь психологическое, а не социологическое. Это не частное различие, существующее между людьми разных классов; скорее, это болезнь, гнездящаяся в каждом человеке. Поэтому истинные исследователи отчуждения не ученые-социологи, а психиатры, которых во времена Фрейда называли алиенистами. Психиатры знают, что алиенация берет начало из глубокого тайного акта репрессии и не поддается лечению простой реорганизацией основных структур нашего общества.
Возможно даже, отчуждение в правильном понимании сильнее выражено в высших слоях капиталистического общества, чем в его многострадальных низах. Иначе как обосновать «по Фрейду» маниакальную жажду наживы и аскетическую самодисциплину типичного «барона-разбойника»[105]105
Прозвище американских капиталистов XIX века.
[Закрыть], если не считать его гротескное поведение болезненным извращением инстинкта самосохранения до одержимо-садистической агрессивности? Писатели и драматурги, пытающиеся убедить нас в том, что бедные живут более полной жизнью, чем богатые, конечно, повинны в грехе сентиментализации, но в том, что они говорят, есть большая доля истины. Если мы решим поискать нормальных, счастливых людей, вряд ли они отыщутся наверху социальной пирамиды: для кого же подменяющая живую жизнь фикция денег столь душераздирающе конкретна, как не для процветающего капитализма?
Маркс не был в неведении относительно того, что эксплуатация ломает жизнь капиталиста так же, как и жизнь рабочего, пусть и не столь явно. Он во многих отношениях готов был видеть в стяжателе-капиталисте жертву собственной деспотичной экономической системы. В одном из ранних сочинений Маркс резко высказывается по поводу пресловутой тайны денег. Это всего лишь черновой фрагмент, наброски на тему избранных мест из Гете и Шекспира, но тем не менее высказанная там идея опередила свое время. Маркс вплотную подходит к осознанию печальной истины, что для отчужденного спекулянта деньги – это не рациональная мера стоимости, а злое волшебство, умеющее исполнять желания. Это, заключает Маркс, и является секретом сверхъестественной власти денег над нами: «…эта божественная сила денег кроется в их сущности как отчужденной, отчуждающей и отчуждающейся родовой сущности человека. Они – отчужденная мощь человечества»[106]106
К. Маркс. Власть денег <в буржуазном обществе>. Экономико-философские рукописи. К. Маркс и Ф. Энгельс. ПСС. Из ранних произведений. С. 619. – Примеч. ред.
[Закрыть]. В этом замечании угадываются зачатки марксовского «товарного фетишизма» – жестокой иллюзии, от которой при капитализме страдают и эксплуататор, и эксплуатируемый[107]107
Сочинение о деньгах есть в «Экономических и философских рукописях 1844». С. 136–141. Интересно сравнить очень метафизический анализ денег у Маркса с психоаналитическим изложением у Брауна в «Жизни против смерти» в главе «Презренный металл». С. 234–304. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Однако когда Маркс в поздних работах ищет объяснение абсолютно иррациональному приобретательству капиталиста, ему приходится прибегать к стереотипным морализмам вроде «алчности вурдалака». В этом важном моменте Марксу не хватает чувства патологического, которое Маркузе и Браун почерпнули у Фрейда, – перспективы, которая вывела их за пределы экономического анализа капитализма к общей критике поведения человека в условиях цивилизации. С этой точки зрения становится предельно ясно, что революция, которая освободит нас от отчуждения, должна в первую очередь носить терапевтический характер и касаться не только структуры общества.
Нам придется более пристально рассмотреть работы Маркузе и Брауна, чтобы увидеть, как каждый из них предлагает снять бремя отчуждения с человеческой души. Здесь давайте еще раз подчеркнем контраст с Марксом. Для Маркса «не сознание людей определяет социальное бытие, но, напротив, бытие определяет сознание» – тезис, который никак не объясняет появление самого Карла Маркса и ренегатов буржуазной интеллигенции, которые, по его ожиданиям, должны возглавить и повести за собой пролетариат. Маркузе и Браун, напротив, акцентируют приоритет сознания в социальных переменах, особенно Браун, который говорит о революции почти как об апокалипсическом откровении. Но и Маркузе, занимающий в этом вопросе половинчатую позицию, приходит к выводу, что создание «цивилизации без репрессий» с самого начала потребует четкого понимания освобождения либидо.
«Сознание такой возможности и радикальная переоценка ценностей, которой она потребует, должны с самого начала определять направление [производимых] изменений и устанавливать нормы даже при построении технической и материальной основы» (с. viii)[108]108
Если нет специальной оговорки, все цитаты Маркузе в этой главе взяты из «Эроса и цивилизации» (Нью-Йорк. Винтаж букс. 1962); а все цитаты Брауна взяты из «Жизни против смерти» (Миддлтаун. Коннектикут. Вестерн юниверсити пресс. 1959). – Примеч. авт.
[Закрыть].
Более того, настрой Маркузе и Брауна, когда они говорят об освобождении, отчетливо не марксистский. Для Маркузе освобождение – это достижение «либидной рациональности», для Брауна – создание «эротического ощущения реальности», «дионисийское эго». Пытаясь объяснить эти идеалы, оба невольно впадают в напыщенно-восторженный стиль, прибегая к мифологическим и поэтическим сравнениям. Маркузе и Браун взяли тот тон, которого постыдно не хватало в литературе социальной идеологии и еще больше – в литературе социальных наук. Большинство наших социальных наук, по ощущениям, расценивают появление поэтического видения в своей работе, примерно как благочестивый монах отнесся бы к идее привести в монастырь шлюху. Но для контркультуры не подлежит сомнению, что поэты знают лучше, чем идеологи, а видения значат больше, чем исследования.
«Орфей и Нарцисс, – замечает Маркузе, – не стали национальными героями западной культуры: они символизируют радость и удовлетворение, у них голоса, которые не командуют, а поют, жесты, которые предлагают и получают, дела, которые суть мир и оканчивают труд завоевания; освобождение от власти времени, объединяющее человека с богом, человека с природой» (с. 147).
Человек-мечтатель, любовник, волшебник с божественными притязаниями: придется согласиться, что Маркс в нехарактерном для него настроении не был чужд этим человеческим ипостасям. Его предположение, что подлинно гуманная человеческая история начнется лишь с окончанием эпохи классовых конфликтов, выдает слабое, мимолетное понимание того, что жизнь в ее полноте, жизнь, которая взывает изнутри нас, желая быть прожитой, находится вне пределов «царства природной необходимости». Энгельс тоже говорит о «царстве свободы», лежащем за пределами «царства необходимости». Но где же их границы? Как мы узнаем счастливое царство при встрече? Как четко увидеть разницу между средством попасть туда и финалом, когда полагается наслаждаться обретенной свободой?
Серьезно воспринимаемым вещам люди, как правило, уделяют соответствующее внимание; Маркс уделяет подчеркнуто мало внимания утопическим прожектам. Он – яростный моралист; пламенный пророк судьбы, корпящий над толстыми томами: откуда у него время в условиях развивающегося кризиса думать о человеке иначе, как о хомо экономикусе, эксплуатируемом и безрадостном?
Что ответил бы Маркс бурным устремлениям Маркузе и Брауна? Очень вероятно, он бы сказал: «Да, но позже. Потом. После революции. После того как мы устраним жиреющих на эксплуатации негодяев. Тогда, возможно, мы и поговорим обо всем этом. Созовем комиссаров и аппаратчиков, усядемся и подробно поговорим об Орфее и Нарциссе».
Вот вам и еще один классический пример отвлекающего приема.
Утопические желания без практики быстро атрофируются. Вот почему временами от марксистской критики возникает ощущение, что наше освобождение должно подчиниться рационализации «производственной анархии», то есть фактически изгнано в страну Нетинебудет. Энгельс в своем сочинении «О власти» приходит к невеселому выводу:
«Если человек с помощью знаний и изобретений покорил силы природы, позже она отомстит, подчинив его до такой же степени, как он использует ее, – деспотично и вне зависимости от социальной организации. Желание упразднить власть в массовой промышленности равнозначно желанию упразднить саму промышленность, уничтожить механический ткацкий станок и вернуться к прялке»[109]109
Льюис С. Фьюер, ред. Маркс и Энгельс: основные политические и философские труды (Нью-Йорк. Энкор букс. 1959). С. 483 (курсив мой). В этом сочинении, написанном как пощечина анархистам, Энгельс стоически замечает, что «автоматизированные станки крупного предприятия гораздо более деспотичны, чем мелкие капиталисты, нанимающие работников», и лучшее, чего можно ожидать от революции, – что власть утратит свой «политический характер и будет трансформирована в простые административные функции наблюдения за истинными интересами общества» (курсив мой). Поразительно точное предсказание прихода технократии. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Хороший марксист далек от размышлений об уничтожении ткацкого станка или восприятия природы иначе, чем злокозненного врага. Тон и содержание этого сочинения Энгельса ясно показывают: марксизм является зеркальным отражением буржуазного индустриализма, перевернутым, но несомненно идентичным – в обеих традициях технократический императив и сопутствующая концепция жизни видятся обязательными. По иронии судьбы, это крупнейшая единичная победа, которую буржуазному строю удалось одержать над самыми непримиримыми оппонентами: оно внушило им свое неглубокое, упрощенное представление о человеке. Подобно классической экономике, научный социализм подходит к обществу, как Ньютон к поведению райских тел, ища непреложный «закон» их «движения». Хотя стойкую живучесть работам Маркса придают исключительно моральный накал и пересыпанная бранью риторика, он стремится к мифу объективности научного социализма, где общество понималось бы как «процесс естественной истории». Все, что не является наукой, должно пониматься как «умозрительная путаница… цветистая риторика… нездоровые настроения». Устами Маркса слишком часто говорит твердолобая прагматичная политика XIX века, смешанная с ужасающим бездушием социального дарвинизма и грубым позитивистским атеизмом.
Эта идеология, созданная в ключе превалирования принципа реальности, способствует ограничению сознания, подавляет, склоняет нас примириться с существованием без мечты и фантазии. Погрузиться в старые идеологии – за исключением анархизма версии Кропоткина, Толстого, Торо – означает задыхаться в бетонно-стальных джунглях технологической необходимости. Это литература серьезности и угрюмой решимости, усиленных прагматичностью, классовой дисциплиной, статистикой несправедливости и жаждой мести. Говорить об экстатических порывах в столь мрачной среде означает рисковать показаться сумасшедшим. Где люди еле плетутся, никому не дозволено танцевать. Танцы… может быть, когда-нибудь потом.
Гибель старых идеологий всегда начинается с откладывания на потом. «Отложить на потом» человеческую суть, чтобы «быть реалистами», означает практиковать мертвящую прагматичность, которая уже поставила нашу цивилизацию на грань уничтожения. Это означает передать нас в руки бесчеловечных комиссаров, менеджеров и операционных аналитиков – всей этой клике профессиональных экспертов в откладывании на потом главного. Это специалисты, как говорил Ч. Райт Миллс, «безумного реализма». Художник, отстаивающий свое невозможное видение, хотя бы защищает то райское, небесное, что присутствует среди нас. Обезумевший реалист, отвернувшийся от этого видения ради иной, практической меры, только приближает нас к аду отчуждения.
Понятно, что старые идеологии надо характеризовать с учетом заниженной концепции реализма, исходившей из гнева и отчаянья. На горизонте того времени не было ни изобилия, ни прозрений глубинной психологии. Маркс, как отмечает Норман Браун, «несвободен от неявных предположений о том… что конкретные человеческие потребности и стимулы, поддерживающие экономическую деятельность, всего лишь то, чем они кажутся, и полностью осознаваемы». Ненормальная суть технологического «прогресса» и сопутствующих дисциплин, будь то под капиталистической или коллективистской эгидой, становится ясна лишь при злоупотреблении изобилием… если, конечно, человек не обладает редкой моральной прозорливостью, которую выказал Толстой в своей сказке «Много ли человеку земли нужно?». Но в Марксе мало толстовской прозорливости; что ж, тем хуже для нынешнего курса радикальной идеологии.