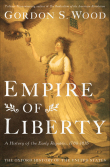Текст книги "Истоки контркультуры"
Автор книги: Теодор Рошак
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Но тупик, в котором оказывается диссидентская культура в попытках привлечь неблагополучные социальные элементы, для нее самой еще безысходнее. Как уже говорилось, контркультура – это молодежный эксперимент, а молодежь часто подвергается опаснейшему риску хищной коммерциализации, способной рассеять, ослабить силу их инакомыслия. Культурные эксперименты привлекают к себе легкомысленный интерес ультрасовременных представителей среднего класса – оплота технократического строя. Этот интерес – совершенно ненужного плана. Посещать богемные кварталы, чтобы поглазеть на «детей цветов», заглянуть в рок-клуб, выложить минимум пять долларов, чтобы бездумно посидеть на «Кладбище машин»[82]82
Пьеса Ф. Аррабаля.
[Закрыть], стало современной версией «игры в бедность» у наших транжир. Легкомысленный флирт с новым и нешаблонным неизбежно искажает истинность феномена.
Диссидентской контркультуре нельзя недооценивать опасность быть нейтрализованной этим ложным вниманием. Несогласным приходится всячески изощряться, чтобы не попасть в какое-нибудь коммерческое шоу – в «Тайм», в «Эсквайр», к Дэвиду Сасскинду[83]83
Американский телеведущий (1920–1987), профессор кино, телевидения и театра.
[Закрыть] – в качестве забавных представителей фауны, привезенных живьем из джунглей. На этой предательской почве шансы просчитаться огромны. Боб Дилан, глубоко переживающий чудовищную коррупцию нашего века, все же имеет свои проценты с альбома, приносящего «Коламбии» миллион долларов в год. Да и альбом, кстати, скорее окажется рядом со стереофонической радиомагнитолой на полированной консоли красного дерева где-нибудь в пригороде, чем на богемном чердаке. Ванесса Редгрейв, ветеран комитета ста сидячих демонстраций на Уайт-холл, которая в форме «фиделиста»[84]84
Сторонник Фиделя Кастро.
[Закрыть] поет кубинские революционные баллады на Трафальгарской площади, тоже одалживает свой талант глянцевой «плейбойской» порнографии вроде фильма «Фотоувеличение». Даже Герберт Маркузе, к своему вящему огорчению, стал в Европе и Америке горячей сенсацией после студенческих бунтов 1968 года в Германии и Франции. «Я очень этим обеспокоен, – прокомментировал ситуацию Маркузе. – Однако это лишний раз доказывает правоту моей философии: в нашем обществе решительно все может быть ассимилировано и переварено»[85]85
Маркузе. Разнообразие гуманизма. Центр мэгэзин (Центр изучения демократических организаций, Санта-Барбара). Июнь 1968 года. С. 14. Напротив, на другом социальном уровне Маркузе заработал крупные неприятности. Угроза убийства от местного «Ку-клукс-клана» в июле 1968 года заставила его уехать из дома в Сан-Диего. Этот инцидент напоминает нам, что существует много темных углов технократии (вроде южной части Калифорнии), где троглодиты еще существуют. – Примеч. авт.
[Закрыть].
От умышленного запутывания истинных целей диссидентства недалеко и до поглощения контркультуры циничными или введенными в заблуждение оппортунистами, ставшими или позволившими превратить себя в глашатаев молодежного диссидентства. Дизайнеры, стилисты, издатели модных журналов и целая фаланга поп-звезд без единой мысли в голове, кроме вложенных пиар-агентами, вдруг начинают комментировать «философию сегодняшней мятежной молодежи» на радость воскресным приложениям, которые поместят комментарий между статьей об эксклюзивном нижнем белье и цветным разворотом о последнем неоткрытом рае для аквалангистов, где можно провести незабываемое лето. Понятно, что в результате контркультура начинает выглядеть всего лишь глобальным рекламным ходом. Есть от чего впасть в отчаяние – вряд ли диссидентская культура избежит двойной опасности: с одной стороны, слабость культурных связей с бедняками, с другой, уязвимость самой контркультуры перед эксплуатацией в качестве развлекательного аттракциона для жизнелюбивого общества.
* * *
Идти этим нелегким социально-политическим курсом для контркультуры задача ответственная: на ее решение может уйти добрая половина жизни следующего поколения. Чтобы победить технократическую тактику коммерциализации и не превратиться в очередную банальность, надо переждать атмосферу новизны, которая сейчас окружает молодежную культуру, сообщая ей характер преходящей причуды. Нужно непременно дать созреть тому, что для молодежи зачастую лишь верные догадки и развитая интуиция. Если контркультура увязнет в пестром болоте неизученных символов, жестов, одежды и лозунгов, тогда она мало что даст из области убеждений или целей жизни, кроме разве что совсем жалкой – для тех, кто согласен жить вечным студентом, приживалом в кампусе, и таскаться по собраниям хиппи и рок-клубам. Контркультура станет модой, постоянно меняющей кожу и неинтересной для новых подростков: много обещавшее начало останется всего лишь началом. Что касается ассимиляции в контркультуру угнетаемых меньшинств, подозреваю, что с этим придется подождать, пока черная революция в Америке не произойдет своим чередом. Новый черный средний класс получит своих собственных неблагодарных юнцов, которые, будучи наследниками всего, за что боролись их родители, начнут, как их белые собратья, с боем прорываться из технократической ловушки.
Но за пределами проблем, поднятых этим социальным маневрированием, существует стратегический проект определения этических достоинств культурного движения, радикально противоречащего научному мировоззрению. Проект этот крайне важен – должен же быть ответ на вызов, брошенный встревоженными интеллектуалами, боящимися прихода контркультуры не в облаках славы, а с отметиной зверя. Едва заговорили о высвобождении неинтеллектуальных способностей личности, как многие тут же увидели безудержную аморальную одержимость, которая под маркой вседозволенности ввергнет нас в дикость и мрак. Обеспокоенные люди не без оснований спешат строить баррикады в защиту рассудка. Например, Филип Тойнби[86]86
Сын А. Дж. Тойнби, писатель, журналист.
[Закрыть] напоминает нам о «старой нигилистической жажде безумия, отчаяния и полного отрицания», опоре фашистской идеологии:
«…важно помнить, что Гиммлер среди них был самым правоверным нигилистом. Важно помнить, что самые эффективные средства против возрождения фашизма в Европе – это надежда, порядочность и рациональность. Это надо по возможности довести до сознания всех молодых людей, которые называют себя левыми, но любят играть с нигилистическими игрушками в искусство и споры. Абсолютно фашистский клич – фраза Милана Эстрея «Вива, вива ля муэрте!»[87]87
Обзор Тойнби в «Обсервере» (Лондон), 28 июля 1968 года, рассказывает о недавних исследованиях фашизма. В том же ключе британский драматург Арнольд Уэскер назвал хиппи «милыми маленькими фашистиками», а социальный критик Генри Андерсон переименовал Лигу сексуальной свободы в Лигу сексуального фашизма. Более резкую презентацию подобных опасений см. в эссе Дэвида Холбрука «Р.Д. Лэнг и его круговорот смерти» в «Энкаунтере» за август 1968 г. «Метаполитика: корни нацистского мышления» Питера Вирека (Нью-Йорк. А.А. Кнопф. 1941) стала попыткой подробного объяснения связей нацизма и романтизма; линия аргументов вполне актуальна для критики, так как связь нашей контркультуры с традициями романтизма абсолютно очевидна. Наконец самое жесткое обличение «нацистской шпаны новой свободы» см. в маленьком резком памфлете Дж. Легмана «Фальшивый бунт» (Нью-Йорк. Брейкин-пойнт пресс. 1967). – Примеч. авт.
[Закрыть]. [ «Да здравствует, да здравствует смерть!»]
Подобная критика вызывает легкую оторопь и возмутительно несправедлива. «Занимайтесь любовью, а не войной» до сих пор остается знаменем, под которым сплачиваются большинство молодых диссидентов, а те, кто не в состоянии увидеть разницу между этим настроением и лозунгами гитлерюгенда, слепы, и слепы намеренно. Одной из необычных сторон контркультуры является культивация женственной мягкости среди мужчин. Это дало критикам повод для бесконечных насмешек, но очевидно, что это сознательная попытка молодежи ослабить грубую, компульсивную мачистскую маскулинность американской политической жизни. Коль скоро у нас есть этот щедрый и мягкий эротизм, правильнее его уважать, а не поднимать на смех.
И все же в крайних течениях контркультуры есть проявления, которые нельзя расценить иначе, как опасно нездоровые. Элементы порнографического гротеска и жутковатый садомазохизм снова и снова появляются в театрах и иных видах искусства молодежной культуры и буквально заполонили андеграундную прессу. Многие газеты словно решили, что писать честно означает выражаться как можно более грубо и неотесанно. Квазилибертарианский эротизм этого стиля выдает полную неспособность понять, что профессиональная порнография не отрицает, а, напротив, жиреет на похотливой сути сексуальности среднего класса и только рада внедрить в сознание идею, что секс – грязное дело. Чем запрет был для бутлегеров, тем пуританские принципы стали для порнографа: и те, и другие – антрепренеры деспотичного ханжества[88]88
«Беркли Барб» стала особенно мрачным примером того, что происходит, когда игнорируются такие, казалось бы, очевидные факты. В «Барб» теперь примерно три страницы рекламы порнофильмов и бесчисленное множество объявлений о «бархатном подполье» (одноименное название носила книга М. Лейта о садомазохизме). Распространители этой непристойности столь же способствуют становлению сексуальной свободы, как стратегическое авиационное командование со своим девизом «Мир – наша профессия» – здоровым международным отношениям. – Примеч. авт.
[Закрыть]. Даже там, где грубость призвана сатирически изобразить или без реверансов ответить коррупции доминирующей культуры, обязательно наступает момент, когда сардоническая фальшивка убивает чувства; возникает черствость. Меня невольно обескуражила случайно попавшаяся мне статья с восторженным отзывом о кислотной рок-группе «Дорс» (очевидно, почитали Хаксли с Блейком) в газете сиэтлского андеграунда «Хеликс» от июля 1967 года:
«“Дорс”: ранний куннилингвальный стиль с обертонами избиения младенцев. Электрифицированное сексуальное побоище. Музыкальная кровавая баня… “Дорс” – это хищники в землях музыкальных вегетарианцев… Их когти, клыки и сложенные крылья все время на виду. Они оставляют нас мокрыми в паху и обессилевшими, напоминая, что мы живы и что у нас есть предназначение. “Дорс” кричат в темный зал то, что весь андеграунд тихо шепчет в своем сердце: мы хотим мира, и мы хотим его… СЕЙЧАС!»
При подобном фальшиво-дионисийском безумии не приходится удивляться раздраженным воплям с призывом к «рациональности». Как гарантировать, что изучение неинтеллектуальных способностей личности не выльется в маниакальный нигилизм? Вопрос требует разбора, и я не уверен, что молодежь в основной своей массе достаточно над ним размышляла. Поэтому позвольте мне закончить главу предложениями, которые привнесут менее отталкивающий, но не менее радикальный смысл в основной проект контркультуры.
Рассматриваемая проблема сталкивает нас с известной, но зачастую неверно понимаемой дихотомией: противостоянием рассудка и страсти, разума и чувства, головы и сердца…Снова и снова в рассуждениях о морали нам навязывается эта раздражающая полярность, притворяющаяся подлинно этическим выбором. Но каков этот выбор? Ни один из элементов дихотомии не связан напрямую с какой-нибудь выраженной способностью личности, поэтому на этическом уровне выбор часто сводится к одному из двух стилей поведения. Мы говорим – этот человек рационален, если его поведение характеризуется бесстрастной сдержанностью, неизменной осторожностью, взвешенностью и очевидной логичностью. И напротив, человек иррационален, если он отказывается от бесстрастия, предпочитая интенсивную открытую эмоциональность, отказывается от взвешенности поступков, предпочитая импульсивность, отказывается от ясности и логики ради экстатической декламации или вовсе невербального выражения чувств. Как только названы эти крайности, дискуссия обычно переходит в бесконечное перечисление примеров и контрпримеров, доказывающих добродетели и опасности каждой из тенденций тому или другому полюсу континуума.
Те, кто выбирает рациональность, мрачно предостерегают нас против ужасов, возникающих при затоплении интеллекта приливом чувств. Нам напоминают о линчующих шайках и погромах, о безрассудных массовых движениях и охоте на ведьм, которой предавались обуреваемые страстями мужчины. Нам напоминают, что Гитлер всего лишь повторил слова Д.Х. Лоуренса[89]89
Один из ключевых английских писателей ХХ века, призывал современников открыть себя «темным богам» инстинктивного восприятия природы, эмоциональности и сексуальности и отказаться от столь характерного для XIX века рационализма.
[Закрыть], призывавшего своих последователей: «Думайте кровью!» В противовес этим варварским проявлениям поборники рассудка ссылаются на примеры великих гуманистов – Сократа, Монтеня, Вольтера, Галилео, Джона Стюарта Милла и многих других, защищавших достоинство разума перед дикостью и суевериями своего времени.
Но если задуматься, мы сразу увидим, что та же самая линия аргументов подходит и тем, кто выбирает жизнь чувств. Разве нельзя подогнать любое совершенное сгоряча преступление под пример не менее чудовищной хладнокровной жестокости в истории человечества? Если бы в христианстве XIII века преобладало порывистое сочувствие простодушного святого Франциска, а не холодная рассудочность Иннокентия III, возникла бы вообще инквизиция? Каким был святой Иоанн, неграмотный визионер, казненный бездушными интриганами, интеллект которых никто не ставит под вопрос? Многие ли люди исключительной рациональности могут сравниться с квакерами, которые, ведомые чувством морали и «внутренним светом», поднялись против войны, рабства и социальной несправедливости?
Если обратиться к примеру нацистов, который чаще всего приводят в доказательство опасности несдерживаемых страстей, здесь тоже можно использовать ту же линию аргументов. Допустим, нацисты облачились в одежды вульгарного романтизма. Но если мы спросим, какого типа людьми были укомплектованы нацистские кадры, получится совсем иная картина фашистского режима. Без абсолютно бесстрастных, абсолютно рациональных специалистов и административных машин вроде Адольфа Эйхмана невозможно представить, чтобы нацистское государство продержалось бы дольше года. Те, кто винит нацизм в коррумпирующем влиянии романтического движения, ошибочно принимают пропагандистскую обложку за истинную политическую подоплеку. Вряд ли «новый порядок» был детищем очарованных луной поэтов и мечтательных дионисийцев. Вместо этого существовала точнейшая технократия, не хуже любой из нынешних: прочнейшая, выверенная бюрократическая военная машина, основанная на безжалостном режиме и четко управляемом терроризме. Если нацистское движение и сталкивалось с горячими страстями народных масс, его успех заключался в организации этих страстей в дисциплинированную государственную машину с тем же хитроумием, с которым наши исследователи рынка манипулируют иррациональностью потребителей. Может, Гитлер и подражал позе Зигфрида, но его приспешники были настоящими сыновьями лесов в вопросах, как, например, заставить поезда ходить по расписанию. За вагнеровским фасадом скрывались нацистские лагеря смерти, этот шедевр социального инжиниринга, в которых крик души систематически заглушался потребностью в эффективном геноциде[90]90
Трогательный пример того, как одна простая, отзывчивая душа до самого своего мученичества противилась прагматичному приспособленчеству к новому нацистскому режиму, в отличие от многих обладателей куда более развитого интеллекта, см. в исследовании Гордона Зана, посвященном австрийскому крестьянину Францу Джагерстатеру. «Одинокая мудрость» (Нью-Йорк. Холт, Райнехарт и Уинстон. 1965). – Примеч. авт.
[Закрыть].
Спрошу просто ради обновления реестра: что сейчас в дефиците у технических экспертов, которые управляют мировым равновесием страха? Нашим ученым, стратегам и аналитикам операций не хватает именно рассудка? Люди, которые равнодушно управляют системой массового уничтожения, способной разрушить больше, чем все шайки линчевателей и охотники на ведьм за всю историю, – неужели у них недоразвита способность мыслить рассудочно? Льюис Мамфорд попал в самую суть проблемы, утверждая, что ситуация сталкивает нас с тем, что нельзя назвать просто «сумасшедшей рациональностью»; он напоминает нам о леденящем душу признании капитана Ахава[91]91
Персонаж романа Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит», одержимый идеей мести белому киту, убийце китобоев.
[Закрыть]: «Средства мои здравы; безумны мои мотивы и цель»[92]92
Льюис Мамфорд. Трансформация человека (Нью-Йорк. Коллиер Букс. 1956). С. 122. – Примеч. авт.
[Закрыть].
Нас не обманывает ощущение, что серьезная этическая дискуссия должна выйти за пределы импровизированной оценки конкретных действий, но эту сферу жизни мы в основном оставляем закону. Однако мы ошибаемся, считая, что дихотомия рационального и импульсивного, рассудочного и чувственного поведения находится на более глубоком уровне умозаключений. Более того, я утверждаю, что эта дихотомия сталкивает нас с внеэтическими по своей сути соображениями. Ни рациональное, ни чувственно-импульсивное поведение ничего не гарантирует в отношении этического качества действий. И тот, и другой стиль включает в себя терминологию поведения, которой можно воспользоваться для выражения самых разных вещей. Поэтому выбирать между ними столь же бесполезно, как пытаться решить, проза или поэзия являются истинной областью благородных чувств. И я не думаю, что мы продвинемся в дискуссии, задавшись целью прийти к половинчатому компромиссу, предположив, что между рассудком и чувством есть золотая середина, гарантирующая хорошее поведение. У нас есть слишком много примеров абсолютно рациональной и абсолютно бесстрастной человеческой порядочности, чтобы отказаться от обеих. Нельзя отрицать этической красоты ни импульсивных святых, ни гуманистов-интеллектуалов.
По-настоящему глубокий анализ моральных действий начинается за пределами внешнего поведения, в котором выражается наше этическое чувство; надо искать тайный источник, откуда исходят наши действия. Если опять-таки думать о поведении как о словаре, то использование «терминов» будет целиком зависеть от того, что мы пытаемся «сказать» своими действиями. Наши действия говорят о нашем абсолютном видении жизни – нас самих и нашего места в природе вещей, – как мы его ощущаем. У многих это видение может быть жалким, узким, стесненным навязанными социумом правилами и санкциями; у них есть лишь весьма туманные представления о добре и зле, которые не являются результатом общественного внушения и давления. В этом случае человек поступает так или иначе из страха или глубоко укоренившегося чувства субординации в сочетании с низким личным авторитетом. Возможно, поведение большинства мужчин именно таково и часто представляет собой машинальное исполнение долга, которое мы принимаем за рациональность и ответственность. Однако даже при этом за нашей социально сертифицированной моралью таится некое изначальное мировосприятие, диктующее нам, что такое реальность и что в этой реальности на самом деле священно.
Для большинства из нас это мировосприятие не выражается словами; возможно, мы никогда не обращаемся к нему напрямую. Оно может остаться чисто подсознательным ощущением, спонтанно формирующим наше восприятие и мотивацию. Еще до того как наше мировосприятие учит нас отделять добро от зла, оно побуждает нас различать настоящее и ненастоящее, истинное и ложное, значимое и бессмысленное. До того как действовать, мы должны постичь мир, в котором нам предстоит действовать; в нем уже должна существовать чувственная модель, к которой мы применяем свое поведение. Если, подобно джайнистскому святому, мы смотрим на жизнь как на чудо, тогда вполне разумно причинять себе бесконечные неудобства, избегая ненароком навредить даже ничтожному насекомому. Если, напротив, мы смотрим на человечество как на низшую и не слишком разумную форму жизни, мы сочтем джайниста суеверным, а его поведение – бессмысленным с точки зрения морали. В самом деле, не станем же мы колебаться, прежде чем забить целое стадо животных по необходимости или развлечения ради! Импульсивность или холодный расчет, под влиянием которых люди совершают такие действия, значения не имеют. Пока чья-то моральная чувствительность не противоречит нашей картине мира, мы склонны принимать поведение этого человека как вполне здравое и разумное, но самые рациональные доводы в мире не убедят нас, что тот, кто отвергает наше видение реальности, не сумасшедший и не суеверный, разве что нам заблажит попрактиковаться в плюралистической терпимости – в пределах, установленных законом.
В нашей культуре нет нужных слов для разговора о том уровне личности, на котором открывается более глубокое видение реальности, однако оно, безусловно, воздействует на нас в некоей точке глубже нашего коллективного сознания. Мировосприятие, о котором идет речь, не изучается сознанием, как интеллектуальный вопрос. Скорее мы впитываем его из духа времени или погружаемся в него от самых разных – приятных и неприятных – бесчисленных впечатлений. Именно этим видением мы руководствуемся, определяя, что в конечном итоге считать здравым. Поэтому можно понять, почему два таких человека, как Бертран Рассел и Герман Кан, которых невозможно обвинить в презрении к рассудку, логике и интеллектуальной точности, стали заклятыми антагонистами во многих ключевых вопросах. Рассел, осознав превосходство воображения над поверхностным мышлением, речью и поведением, сказал: «Я скорее соглашусь жить безумным, но с правдой, чем в полном рассудке, но с ложью». Безумным, конечно, по мнению окружающих, потому что то, что подводит человека ближе к правде, становится его личным стандартом здравомыслия.
Когда я говорю, что контркультура углубляется в исследование неинтеллектуальных способностей личности, то именно из-за интереса контркультуры к этой области – области видений – я верю в серьезность этого проекта. Безусловно, пока он не ясен даже самой отчаянной части молодежи, которая быстро приходит к выводу, что антидот на «безумную рациональность» нашего общества в том, чтобы бросаться в разнообразные безумные страсти. Как многие наши «ответственные» лидеры и граждане, живущие в суровой самодисциплине, они не пускают понимание дальше поверхностного поведения, принимая за окончательное дихотомию «спонтанного» и «взвешенного» поведения. Еще они считают, «…что неожиданные находки и вдохновение приходят к особым людям в особом эмоциональном состоянии; или опять-таки к людям на вечеринках под влиянием алкоголя или гашиша, но вовсе не являются непременным свойством опыта [восприятия на этом уровне]. А обдуманное поведение направлено на добро, которое нельзя присвоить по желанию; оно является только полезным для чего-то еще (чтобы, скажем, испытываемое удовольствие было лишь средством достижения здоровья и работоспособности). «Быть самим собой» означает действовать опрометчиво, словно желание не имеет смысла, а «вести себя разумно» означает сдерживать себя и изнывать от скуки»[93]93
Из статьи Пола Гудмена в «Гештальт-терапии» Фредерика Перлса, Ральфа Хефферлайна и Пола Гудмена (Нью-Йорк. Дельта. 1965). С. 242. – Примеч. авт.
[Закрыть].
* * *
Но пока немалая часть современной молодежной культуры предается утомительному буйству и притворной беззаботности, есть подвижки и в совершенно иной и куда более зрелой концепции исследования неинтеллектуального сознания. Эта концепция возникла в первую очередь под сильным влиянием восточной религии с ее традициями мягкого, мирного и очень цивилизованного созерцания. Эти традиции тоже ставят под сомнение обоснованность научного мировоззрения, превосходство рассудочного познания, ценность технологического совершенства, но делают это самым тихим и сдержанным тоном, с юмором, нежностью и даже с элементами изобретательной аргументации. Если в этой традиции и есть что-нибудь отталкивающее для научного ума, это не нежелание восточных религий погрязать в анализе и дебатах; скорее это утверждение интеллектуальной ценности парадокса и глубокое убеждение, что анализы и дебаты рано или поздно уступят притязаниям неизреченного познания. Восточный мистицизм не исключает споров, но оставляет много места для тишины, мудро признавая, что именно с тишиной люди сталкиваются в величайшие моменты своей жизни. К сожалению, западный интеллект склонен воспринимать тишину как ноль: отсутствие слов кажется нам отсутствием смысла.
Даже если кто-то очень захочет отвергнуть философию Лао-цзы, Будды, учителей дзен-буддизма, он не сможет обвинить их в недостатке интеллекта, остроумия или культивируемого гуманизма. Пусть эти мыслители служили философии, несопоставимой с нашей традиционной наукой, но они никоим образом не могли бы стать участниками шайки линчевателей или групповухи хиппи. К счастью, их пример не остался незамеченным нашей диссидентской молодежью; напротив, он оказывает огромное влияние на контркультуру.
Мы вернемся к этому в других главах, а пока достаточно сказать, что изучение неинтеллектуальных способностей приобретает наибольшее значение не тогда, когда превращается в общедоступную эксцентричную теорию, а когда воплощает критику научного мировоззрения, этой основы цитадели технократии, в тени которой скрыто много ярчайших красок нашего познания.