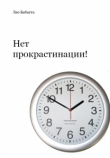Текст книги "Воробьиная река"
Автор книги: Татьяна Замировская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– А воду эту я в «ЛАЗике» выплюнула, – триумфально сказала Марина. – И когда я посмотрела на то, что я выплюнула, я знаешь что увидела? НИЧЕГО.
– Ты такая молодец! – сказала Анна. Она ужасно зауважала Марину. Марина была страшно общительная и какая-то нестерпимо живая, в отличие от этой покорной очереди, в которой никто даже не дрался теперь.
Вокруг ходила охрана, но будто не замечала их. Анна спросила у Марины, не знает ли Марина ее, Анны, фамилии, но Марина покачала головой и ответила, что и свою-то не помнит. Анна испугалась и начала шипеть: ты должна знать фамилию, ты что вообще себе думаешь!
– Надо стать в очередь, – подумав, сказала Анна.
– Почему надо? – удивилась Марина. – Пошли, я тебе корпуса покажу. Я уже давно тут хожу. Охрана не замечает, но лучше не нарываться. Мне кажется, нам надо попробовать, чтобы вдвоем в один корпус, веселее все-таки. Хоть один знакомый человек, блин. Давай узнаем, что нужно, чтобы попасть в «Д», там вообще круто, что-то вроде школы: занятия, столовая, спортзал.
Анна спросила, почему детей увели в отдельный корпус.
– А у меня двое детей! – радостно сообщила Марина. – Только что вспомнила. Девочка и мальчик. Девочку зовут Маша, а мальчик еще маленький, год. Как зовут, не спрашивай. Допустим, Фасад или Объект.
Где-то вдалеке страшно заскрежетал поезд.
Нет-нет, забормотала Марина, хватая Анну за рукав, это просто декоративные деревья, там за ними стена с колючей проволокой.
Перед ними, действительно, была стена.
– Давай перелезем! – вдруг предложила Анна.
Марина затараторила: высоко, да перестань, там охранник сидит, видишь, где прожектор, еще стрелять будут, может, плюс проволока.
Анна, не отвечая ей, начала карабкаться на стену – стена была очень старая, можно было ставить носки ботинок в щербинки и трещины; Анна тут же вспомнила курсы скалолазания (редкая скука, за компанию с друзьями пошла – ее хватило на пару раз) и огромную лестницу-лазалку на школьном стадионе – туда она однажды залезла на спор, и вдруг начался такой страшный ливень, что слезть не было никакой возможности, пришлось родителей звать. Марина, чертыхаясь, полезла за ней, потому что ей было, кажется, очень страшно оставаться одной.
Вначале получалось неплохо, потом пришлось цепляться за проволоку. Анна не чувствовала боли, но, кажется, немного запачкала Марину, которая лезла следом. Выдирая похожее на спортивный обруч кольцо проволоки из бедра, Анна с облегчением все же почувствовала что-то отдаленно напоминающее боль или хотя бы память о ней. Прыгать в грязь вообще оказалось чем-то простым и нестрашным. Никто не стрелял, стена и прожектор остались позади: видимо, стена не охранялась, потому что перелезать через нее было нельзя.
Они долго брели по вспаханному полю, нашли на его краю какой-то старый ржавый трамвай, сидели там несколько часов, чтобы дождаться утра, перевязали друг другу раны клетчатой Анниной рубашкой: так, пара царапин, или это просто выглядело как пара царапин. Когда рассвело, снова шли по полю, дорог не было, проводов тоже, где-то вдалеке виднелся лес, но было понятно, что туда идти не стоит. По дороге Марина рассказала Анне всю свою жизнь, она вообще оказалась ужасно болтливой особой. Марина работала директором музыкальной школы в одном из новых микрорайонов, потом ушла в декрет, но совсем ненадолго; старшей, Маше, 11 лет, младшему (допустим, Фасад) – год и семь; жизнь ужасна и суетна, никаких отпусков, никаких подарков, подруги – змеи, вот бы иметь такую подругу, как Анна, ну.
Анна ответила, что, возможно, ее подруги тоже змеи, но она не очень хорошо помнит. Давай вспомни, холодно сказала Марина, это важно. Анна вспомнила: Галя, Валя, Ирка, вот Ирка точно змея. После этого она нашла в кармане мобильный телефон, на нем было 48 неотвеченных вызовов.
– Вот видишь! – триумфально сказала Марина, рассматривая телефон. – Все получилось! Сейчас позвоним, дай, такси вызовем. Должна быть служба вызова такси из любой точки, я знаю.
Взяв телефон в руки, Марина передумала и решила вначале позвонить дочери, долго вспоминала номер, скользя пальцами по клавишам (старый телефон, отметила Анна, это же мой старый телефон, как так?), потом довольно хмыкнула, приложила трубку к уху и пропала, но не мгновенно, а как-то естественно, как будто Анна придумала ее, Марину, как лекарство от паники в этой новой и нестерпимо непонятной ситуации.
Это нормально, сказала себе Анна, человек еще и не такое может придумать, чтобы не сойти с ума. Она подняла телефон (он валялся на земле) и позвонила по последнему номеру из списка неотвеченных. У нее в голове ухнуло и противно загудело: догнали, стреляют, сообразила она, надо лечь.
Анна открыла глаза и увидела вначале потолок, как в кино, а потом – что из нее торчит множество белых прозрачных нитей, как будто ее поймал сверхчувствительный к колебаниям паук, в которого было встроено несколько мониторов. Некоторые нити присоединялись прямо к потолку, как ей показалось. Врач, который заметил, что Анна пришла в себя, тут же подсоединил к ней еще несколько нитей, это оказались провода, подмигнул Анне и сказал, что она добилась значительных успехов и что скоро поможет ему решать кроссворды, а то он тут сидит уже пятый день с этими журналами, и адская скука, и нужных слов не находишь, и буквы не совпадают, и линия все время прямая. У доктора был довольный вид. Через некоторое время ворвался Аннин муж, потом подбежал Аннин папа, у них слезились глаза. Папа сказал, что видел про Анну сон, и что в этом сне она ходила в черном платье по летнему саду и собирала ягоды калины, почему-то уже зрелые и пьяно-тяжелые, с налипшим снегом, поэтому папа тут же понял, что Анна выкарабкается: не время, говорил этот сон, не то время. Муж сказал Анне, что уже отчаялся и был готов наложить на себя руки, но его выручил кот: приходил каждую ночь, ложился на голову и уминал ее лапками, вытесняя нехорошие предчувствия.
Муж сказал, что погибло почти двести человек и что многие в больницах до сих пор, но Анне повезло, потому что она просто ударилась головой, а все остальное в порядке, но если она чего-то не помнит, то это нормально, не страшно.
– Я все помню, – сказала Анна немного новым голосом, она как бы заново училась говорить. – Там все началось, когда стали колеса менять и расцепили вагоны – знаешь, когда поднимают метра на два на чугунных цепях и вскрывают пол в некоторых купе свинцовым ломом.
– Нет, – ответил муж. – Это когда в Польшу едешь, в Бресте колеса меняют. Но не важно.
Анна, действительно, отлично все помнила. Муж приносил ей в больницу газеты, она смотрела списки погибших: Марина, 43 года, такой не было. Марины было всего две – одной 11 лет (точно не та), судя по фото – именно та девочка в пальто с коротким рукавом; еще была бабушка – пятеро внуков, дача, добрейшей души человек, ехала к сыну на день рождения.
Через три недели Анну выписали, и еще три недели она искала Марину в списках пострадавших и находящихся в больнице – либо находившихся там некоторое время. Марин было целых восемь штук, и все не те. Приходя к очередной не той Марине, Анна приносила ей цветы и какой-нибудь подарок: ревущего утробным шоколадным тоном фиолетового мишу, коробку малиновых трюфелей, книжку с репродукциями. Марины думали, что Анна волонтер, обычно волонтеры так и выглядят – все в шрамах, сами пострадали и теперь другим покоя не дают (одна Марина точно так подумала и сразу озвучила). Предпоследняя, седьмая Марина оказалась в ужасном состоянии, поэтому Анна организовала сбор средств ей на операцию, устроив благотворительный концерт, а последняя Марина оказалась очень отдаленной сотрудницей Анниного мужа. Поэтому Анне пришлось как-то объяснить мужу, зачем она бегает по больницам и квартирам.
– Марина – это ты сама, – объяснил он, до этого помолчав несколько дней. – Та часть тебя, которая не окончательно выпила этот чертов чай. Внутренняя, тайная ты, которая помнит о тебе даже там, где отсутствует память. Та часть тебя, глядя в глаза которой ты можешь принять радикальное решение и сказать – давай перелезем? Помнишь, как в том анекдоте – а можно не приходить?
Оказалось, что подсознание Анны само придумало для нее такую интерпретацию случившегося – борьба организма за жизнь, допустим, оформилась и отделилась в виде отдельной, более деятельной психической сущности и не допустила. Ну что ж, во всяком случае, Ирка-змея дала бы гораздо более оскорбительное толкование. Анна решила больше никому не рассказывать всю эту чушь с корпусами. К тому же она стала болезненно относиться к очередям – при виде любой очереди ей становилось физически плохо, почти до обморока.
Правда, получилось так, что после благотворительного концерта Анна разговорилась с девушками-саксофонистками (там выступала замечательная группа, четыре саксофонистки играют джаз – тенор, альт, два сопрано), потом еще около месяца думала, а потом села в двадцатый автобус и приехала в 9-ю музыкальную школу. Зашла в кабинет директора, не глядя села в кресло, подняла голову и чуть не расплакалась.
Директором оказался дедушка, похожий на очень доброго, совсем пожилого Гитлера, когда-то выпившего вместо яда эликсир благодатной любви к человечеству и с тех пор скитавшемуся по тибетским монастырям.
Анна закрыла лицо руками, втянула в себя воздух и поняла, что вообще не знает, что сказать. В этот момент ей как никогда хотелось вернуться в тот ржавый трамвай и сидеть там как в самом безопасном месте во Вселенной, даже если там была и не та Вселенная, или не Вселенная вообще.
– Ребенок академический завалил? – с ужасом спросил дедушка.
Анна покачала головой.
Простите, сказала она, дурацкая история, отдыхала в санатории с одной женщиной хорошей, Мариной, дружили сильно, потом потерялись, так она говорила, что тут директор, видимо, наврала. Тут Анне самой стало смешно, потому что она-то сама не наврала.
– Мариночка? – спросил дедушка. – Почему это Мариночка директор? Мариночка сейчас заведует отделом духовых, да. А директор – вот директор. Это Мариночка вам что-то не то сказала.
Такая низенькая, уточнила Анна, волосы черные, вьющиеся, говорит очень быстро и много, раньше играла на флейте, так?
Дедушка-Гитлер так расчувствовался, что даже предложил Анне чаю, но от слова «чай» Анне стало так же дурно, как если бы она встала в очередь – ну что ж, еще не самые ужасные последствия, некоторые вообще всю жизнь овощи, с такими-то травмами.
Да, травмы – Анна осторожно спросила, все ли хорошо у Марины со здоровьем; она испугалась, что Марина лежит в больнице какого-то другого города, но оказалось, что с Мариной все хорошо, кроме того, что она не работает директором, дедушка все смеялся – ишь какая!
Анна долго боялась идти к Марине, но потом все-таки собралась, купила большую красивую коробку конфет и бутылку шампанского, после чего вернулась домой и оставила бутылку дома: не помнила точно, любит ли Марина шампанское, а в ее ситуации не помнить что-либо о Марине было настоящим преступлением.
Марина сама открыла дверь, но выглядела немного не так, как в ту ночь – она была более мягкая, понятная, уютная. В ней почти не было этой дерзости, резкости в движениях, этой оголтелой целеустремленности или чем это тогда можно было назвать. И этот человек рвал руками проволоку? Руки Марины были мягкими и покрытыми мукой – может, она лепила пельмени, или вареники, или обваливала в муке рыбку.
– Вы точно ко мне? – спросила она, не протягивая руки (все-таки рыбку, подумала Анна).
– Точно-точно, – ответила Анна. – Вы меня не помните? Меня зовут Анна.
– Не помню, простите. – сказала Марина. – Вы мне, может, напомните.
– Смотрите, – сказала Анна, – я о вас почти все знаю. Например, я знаю, что вы в 12 лет сломали палец и полгода не могли играть на флейте. У вас в детстве была собака Цезарь. Ваш дедушка умел шить шляпы, а еще однажды на спор отрезал себе палец на ноге, мизинец. Ваши родители ненавидят музыку. У вас панический страх подавиться, потому что раньше вы всем давились.
Марина выдохнула себе на руки и вся покрылась белой мукой.
– Еще у вас двое детей, – продолжала Анна. – Девочка Маша. И мальчик.
– Так, стоп, – сказала Марина. – У меня один ребенок и всегда был один. До свидания.
Анна поняла, что на самом деле перелезть через стену нужно именно сейчас.
– Значит, будет еще один, – сообщила она. – В общем, Марина, запомни, пожалуйста, две очень важные вещи. Посмотри на меня. Меня зовут Анна. Это очень важно. Посмотри на меня и запомни на всю жизнь: Анна. И еще одну штуку запомни – чай из рук незнакомцев никогда не пей. Вообще. Это самое главное правило в жизни.
– Ненормальная, – сказала Марина и захлопнула дверь. Пошла к Маше: та спала, ничего не слышала, ну и прекрасно.
Анна же почувствовала себя до неприличия счастливой. В какой-то момент, правда, в голове кольнуло: а вдруг Марина все забудет – но потом в голове кольнуло еще раз, даже больнее: не забудет, ведь ты здесь и все хорошо, и вы все-таки перелезли, а эти покалывания со временем пройдут.
Воробьиная река
Времени оставалось немного: нужно действовать.
Действие, все забить всполохами, каскадами действий, и ледяной поезд смерти прогрохочет мимо, вой стали станет щелчком и гладкой дощечкой, ускачет кузнечиком в летний вечерний куст, этот сценарий – не мой, эта боль – не моя, к тому же я ее не чувствую.
Кому скажу – тот и почувствует, а пока ждать лета, чтобы отпускать из ладони липкого ломаного кузнечика и рассматривать йодистые полосы на ладони. Как-то заживет. Поврежденное насекомое не чувствует боли, прочитала она в энциклопедии, но чувствует какую-то фатальную скованность, редукцию возможностей – возможно, это и есть боль?
Все началось с этого корпоратива: Ви уволилась еще в ноябре, но ее безудержная, инфантильная болтливость не позволяла толком отвязаться от этой компании; все девочки в отделе научной литературы переживали, волновались, ой как же она там, какие-то проблемы с мужем, ушел, а вещей не забрал и клянется, что накупил новых (а что со старыми, выбрасывать или отнести в сэконд-хэнд, например?), родители звонят прямо в рабочее время и скрипят в трубку – ремонт, делай ремонт, с обоев, мы видели, прямо падали черви, они сгнили, твои обои! Бросала трубку, плакала в туалете, девочки приобнимали за плечи – а зачем ты их домой пускала? Червей я не пускала, рыдала и хохотала Ви, – Черви сами пришли с чемоданами и сказали: мы тут деточек своих выведем; а у родителей ключ, они пришли с ключом, чтобы проверить, не повесилась ли я с горя!
И вот эти истории про ключ приходилось повторять на каких-то посиделках в баре, праздниках, сходках, и корпоратив опять же – у тебя же не будет своего корпоратива, сказали они тогда в кафе? Ви курила и чувствовала, как закипают в горле слезы и хохот – уволилась она, чтобы уехать на лето в Азию, так сейчас делают все, не давали отпуска, а свобода важнее отпуска, точнее, важнее работы. Но с Азией не вышло, потому что потеряла паспорт, а потом исчезло настроение и надо было искать новую работу, тем более что за восстановление паспорта надо было всюду рассовывать какие-то деньги.
– Забрала ключ у родителей? – похвалила ее Инесса-броненосец, – Вот и молодец, вот и зайчик. И отдай его мне, потому что мы будем приходить теперь и проверять, не повесилась ли ты с горя.
Но Ви не чувствовала ничего, похожего на горе: забрала новый паспорт, купила петарды и бенгальские огни, пошла на корпоратив, и вот там одна из петард взорвалась у нее в руке, ни у кого из девочек не взорвалась, а у нее в клочья, точнее, рука в клочья. И все равно она ничего не чувствовала: смеялась, обливала руку то маслом, то водой ледяной, потом достала из чьего-то бокала с виски кусок льда и зажала в кулаке, а потом принесли из кухоньки пакет замороженной брокколи и вообще началось веселье, фотографии, кто-то клал пакет на голову, в общем, как обычно бывает.
Через день на запястье и ладони у Ви вылезли огромные желтые пузыри, через неделю они протекли кровавыми слезами, потом просто появились какие-то багряные корки, потом они не проходили и не проходили – из них полез дом с трубой, крыльцом, трубочистом и пятнистой щетинистой коровкой, потом Ви пошла с этим набором для детского рукоделия в платную клинику к хирургу, чтобы почистил и перевязал, сама она боялась повредить коровку, к тому же у нее под мышкой появилось что-то вроде слепка той петарды, такое неприятное совпадение – как гильза под кожей, того и гляди рванет и в клочья (Ви теперь боялась всего в форме петарды – худосочных сосисок, карандашей, подмышечных опухолей). Из платной клиники Ви отправили в бесплатную больницу на анализы, что-то там с кровью было не так, потом ей сделали рентген лимфоузла, потом рентген всей Ви целиком, потом ее положили в механическую трубу и заставляли на протяжении часа лежать в ней и слушать плохой дабстеп.
Ви ходила по всем этим обследованиям тихо, инстинктивно, как на работу – в ней брезжило и переливалось какое-то остаточное чувство необходимости хождения хоть куда-нибудь, видимо, пять лет в издательстве как-то изменили ее личность, и жаль, что вместо дауншифтинга эти розовые коридоры со старухами. Только когда идеально круглый доктор, сам чем-то похожий на рыжую ручную коровку с детской раскраски, выписал ей направление на операцию, выдав ворох бумаг и направлений на некие предоперационные, через месяц, анализы, Ви как будто проснулась и начала изучать эти листки прямо в автобусе – один за другим. Когда к ней подошла кондуктор Светлана Игоревна Захарик (Ви пребывала в мире букв и увидела только бэджик на пальто Светланы Игоревны), она на автомате сунула ей какое-то направление, Светлана Игоревна вернула его, отдернув руку, как от ожога. Ви распространяла вокруг себя чувство ожога, это было очевидно.
Дома она еще раз перечитала все листки: операция через месяц, а как она пройдет? Хорошо? Нет, сказала себе Ви, операция пройдет хреново. Ничего никогда не заживает, что-то разладилось, пора это признать. Ви села на диван и попробовала прислушаться к своему телу. Оно мерно гудело, как холодильник. В нем что-то наверняка охлаждалось, возможно, воля к жизни или еще что-то диковинное.
Дальше все было как в книге. Ви решила действовать, времени оставалось немного. Ей выписали каких-то ядовитых таблеток с головокружением и тошноткой (сразу же предупредили, правда), она решила, что будет непременно их пить, а вот операцию случайно пропустит: надо забыться, проскочить, не заметить свою станцию, другие сойдут, и их унесет ураганом и бешеной океанской водой, а я проеду мимо и выйду на тихом песочке. Это было не осознанное решение, а что-то вроде недоверия к смерти – будто та выбрала ее совершенно случайно, выстрелила наугад, совершила глупость во время тихой вечерней охоты, и как можно ей после такого доверять?
Составила список всего, о чем раньше мечтала как о собственном вероятном будущем, но не было времени толком заняться или понять, нужно ли, тянет ли. Кружок вязания. Джазовый вокал, курсы при консерватории для начинающих. Танцы: спонтанная импровизация (всегда переживала, что плохо танцует и не чувствует людей телесно, а тут как раз наука безболезненно слушать и постигать тело ближнего своего). Надя с бывшей работы все звала на капоэйру: весело, музыкально, иногда дают путевки льготные в Рио. Позвонила, записалась. Вспомнила про киношколу – почему бы и нет? После 21.00 – бассейн, через день: пусть тело вспоминает, что бывают субстанции тяжелее и сложнее воздуха, хотя лучше бы это был бассейн с черной рыхлой землей, где можно научиться выплывать в такую безнадегу, но сама же захохотала, стоп, не думаем про все это, она ошиблась, стреляла в лося и задела деревце. Я – деревце, напомнила себе Ви. Наполовину в земле, наполовину в воздухе.
Началась звенящая, новая жизнь: вечера переливались и пели, люди плыли вокруг мягким хороводом, даже провожали до подъезда пару раз молодые и статные, будто новенькая азбука этой свежей жизни, режиссеры Армен и Богдан. Свободного времени почти не оставалось – казалось, что за эти две хороводные недели подругу-смерть удалось замотать, запутать, убедить, что та жизнь, за которой она придет уже совсем скоро, как бы и не та, другая, а той нет, так что фактически уже забрали, кто-то другой пришел и забрал, не всегда же смерть приходит и забирает. Иди, поищи других. Ви даже пару раз случайно назвалась чужим именем, как будто смахнула снежинку с чьего-то плеча: Маргарита, ой. Марфа, ха-ха. Впрочем, таблетки она все-таки носила в сумочке и пила по четыре три раза, и всякий раз подальше от посторонних – ей казалось, что как только кто-нибудь про все это узнает, ее тщательно выстроенная схема спасения рухнет, как домик из зубочисток. На этот случай у нее тоже было объяснение: ну слушай, я точно знаю, что умру во время операции, вот поэтому придумала чем-нибудь себя так занять, чтобы не оставалось времени даже думать.
Чтобы не думать, по вечерам и ночам Ви смотрела сериалы – раньше она не очень понимала, зачем их смотреть: всякий сериал казался ей некоей фрактальной вязью, рябью на воде, уже по одной серии вырисовывались все тайны, замыслы, целевая аудитория, бюджет и триумф умелого сценариста. Теперь она поняла, зачем они нужны – ритуальное действо, идеальный рецепт забывания себя. Но не с кем было делиться этой новой радостью, разве что с девочками с работы, но они все эти сериалы посмотрели пять лет назад и только посмеивались и напоминали: 23 февраля снова корпоратив, приходи, поздравим пацанов (пацанов было двое – начальник и уборщик Лева), только хлопушки эти китайские с собой не бери больше.
Китайские, сказала себе Ви. Надо было записаться еще на курсы китайского, давняя студенческая мечта. Плевать, что это всего на пару недель, зато та пухлощекая рохля точно не нужна этой свистящей пустоте, даже если станет на край пропасти. Некоторые люди не умирают вовсе, а живут до того момента, пока не превратятся в смертный, конечный вариант себя, и вот та студентка с большой китайской мечтой казалась той самой куколкой бессмертия, личинкой человека, способной давать жизнь таким же личинкам – девочка-аксолотль.
И вот тут это и случилось.
В тот момент, когда она подумала слово «аксолотль», ей позвонила Ника. В те годы, когда Ви могла наскоро, как скороговорку, выболтать, выбормотать ее номер телефона в любом состоянии и ситуации, от ночного делирия в такси до коллективного сеанса экзорцизма на пьяной ноябрьской даче, они были, как кто-то из тогдашней компании-на-века цепко пошутил, будто две иголки в стогу сена – незаметные, неслышные, острые и колючие. Ника и Вика, Ви и Ни. Ника ниже этажом, как называла ее Ви, потому что гости постоянно путали, кто из них на шестом, кто на пятом, хотя жили в разных районах (но на одной ветке метро) и в гости звали не одновременно. Они дружили со студенческих времен, издавали вместе газету «Неправда», сто экземпляров-ксерокопий, Ника была сплетница и выдумщица, носила яркое и оскорбительное и иногда писала жутко смешные стихи. Ви была мрак и гот, черные мартенсы с иероглифами и, по ее самодовольному признанию, полное отсутствие воображения, зато живой ум и эрудиция вам обеим, девочки, в помощь, особенно на экзамене. Обе были яркими и патологически незаметными, ошеломляя всех своим искусством появляться незаметно и так же исчезать в разгар вечеринок. Однажды они замешкались в коридоре, полном разноцветных ботинок и туфелек, и кто-то в комнате пошутил: «Там чудеса, там леший бродит, там Вика с Никою уходят!» – и все сбежались, размахивая бутылками с выдохшимся шампанским, смотреть на чудо ухода, потому что ранее были уверены, что девушки, будто ведьмы, осеняемые прощальным переливом электрических занавесок, уносятся с таких летних молодых вечеров после полуночи в окно, легкие и прозрачные, как занавески.
Ушла из ее жизни она так же незаметно – через года три после окончания университета. Как-то рассорились, а как? Созванивались же каждый день: горилла Петр так ничего и не осознал и скатертью теперь ему дальний путь стелется, на работе туман яром, ничего не видно, племянницу укусил призрак ягдтерьера, соседка тетя Бромик пишмашинку вынесла в подъезд, и я хожу туда ночами набирать стихи.
Но как поссорились-то? Был же какой-то кровавый сгусток, какое-то раздавленное насекомое и эти липкие ржавые полосы?
Ви попробовала вспомнить, но Ника так тараторила прямо в ухо, что не получалось ни на чем сосредоточиться. К тому же Ви теперь стала мастер невозможности сосредоточения. Возможно, во всей Вселенной не было более просветленного в этом смысле человека.
– Все ужасно, все плохо, у меня просто кошмар, я в аду, – доверительно сообщила Ника таким расслабленным голосом, как будто и не было этих пяти лет. – И могло бы быть хуже, и вот оно уже хуже, я растворяюсь, я плыву в лодке, не считая собаки, которая сидит у моего изголовья и жует мои волосы, потому что во мне больше не осталось ничего живого, и волос уже почти нет, я ношу платочек и беретик. И у меня чудовищный – этот – гештальт, – ой, ты не любила никогда про незакрытые гештальты, прости, видишь, я помню, что ты не любишь – эта вот недоговоренность, этот распад, разрыв, и как это вышло?
Ви попробовала вспомнить, но снова провалилась в пучину сериала, ей казалось, что это уже вторая серия чего-то про возвращение из небытия.
– Ты же мне была самый близкий человек, – сказала Ника. – Понимаешь? Меня никто никогда не знал и не понимал лучше, чем ты. И все это так важно, пусть и все выжжено. Но я и сама выжжена. Как спичка. Было такое гадание – две спички втыкаешь, какая первая догорит, та твоя. Так вот – я обе эти спички, обе догорели, без вариантов. И мне тебя не хватало просто ужас.
Ви очень осторожно сказала, что ей тоже не хватало Ники и, конечно же, они могут встретиться прямо сейчас, если это так важно и если у Ники плохие времена и она, Ви, ей нужна. Ви не чувствовала ничего, кроме безразличия. Оттенки собственного безразличия, впрочем, она научилась различать и распознавать так качественно, что это заменяло ей весь возможный чувственный калейдоскоп.
– Я скоро умру, – сказала Ника при встрече, они даже не успели зайти в кафе, быстро выпалила прямо на крылечке. – Я ношу в себе смерть. Ее имя – десять сантиметров. Или двенадцать. Или уже семнадцать.
Ви сама открыла дверь и повисла на ней, чтобы Ника и все эти семнадцать новых сантиметров вошли и не страдали и не задели ничего, вдруг там все уже разлагается и кровит.
Ника ковыряла ложечкой в мороженом и рассказывала: у нее неоперабельная опухоль, четвертая или пятая стадия, да я знаю, что пятой не существует, осталось всего ничего, заканчивает все свои дела, самое неоконченное – эта дурацкая история с Ви, не дает покоя, мучает. Вышла замуж и развелась год назад, видимо, это тоже повлияло, стресс. Два выкидыша. Каждые полгода грипп. Уволили с работы, потом оставила в такси сумку с документами, черная полоса.
Ви растерялась: и как с ней теперь говорить? Она ничего не чувствовала. Ника была похудевшая, красивая, с короткой стрижкой, похожая на перламутровую озерную стрекозу. Ви показалось, что это какая-то дурацкая сериальная насмешка – как могло так получиться? Таких совпадений не может быть. Выскочив из своей жизни на каких-то несколько недель, Ви получила ее, свою жизнь, как на блюдечке – будто свадебное платье, сброшенное линяющей паучихой-невестой, передумавшей ткать семейный кокон и объедать мужнину голову, подобрала подруженька, прибежавшая из катакомб небытия, и красуется. Мне идет, милая? Да, тебе идет. Все мое тебе идет.
– А почему мы поссорились? – спросила Ви.
– А потому что Виталик, – ответила Ника. – Я каждое утро просыпалась и думала, только бы не упустить себя, не прыгнуть со своего пятого – или шестого? А он к тебе, выходит, приходил.
– Так он жаловаться приходил, – удивилась Ви. – Тоже страдал очень, про лес говорил, что уйдет в лес или сядет в машину и с моста.
– Так я это потом поняла, мы же потом снова с ним сошлись – на месяц, может, или больше, не помню.
– Нет, – вдруг сказала Ви. – Это не Виталик был. Виталик вроде сам по себе разбился на машине. Еще до знакомства с тобой.
Ника как-то нехорошо на нее посмотрела.
В итоге обе решили, что не помнят причины разрыва – вероятнее всего, это была какая-то фатальная мелочь, традиционно разлучающая взрослых людей, друживших нежными аксолотлями в суровой тени собственной будущности. Ничего не вспомнить, никаких ссор, а почему не общаемся? Потому что нас нет, а там, в прошлом, мы до сих пор лежим на том коктебельском пляже и хохочем, распутывая белые-белые наушники, залитые медовою мадерой.
– Не бойся, – сказала Ви. – Я буду с тобой до конца, если нужно. Могу даже продать квартиру, кстати.
Ника ответила, что квартира уже не поможет, чистый паллиатив, зачем оставлять подругу бездомной, просто важно как-то договорить, доиграть этот сценарий, потому что не с кем даже доигрывать, всем неловко, тяжело, прячут глаза, а вот она, Ви, не прячет.
Ви действительно не прятала, не чувствовала этой неловкости, которая традиционно сковывает практически всех людей в подобной ситуации. Как, интересно, могло так получиться, снова спросила она себя.
Ну хорошо, решила она, когда они вышли из кафе, видимо, такое невероятное совпадение обозначает только одно – Бог существует, все взаимосвязано, Вселенная мудра и непостижима, душа бессмертна. Значит, можно не бояться, даже если ей не удастся выскочить из этого сжатого кулака, даже если пуля пробила все деревья и попала в цель, сидящую за лесом в шезлонге с этой извечной канителью наушников.
Видимо, у них с Никой и правда была какая-то непостижимая кармическая связь – но почему так поздно, почему именно сейчас?
Через три дня (они виделись каждый день – буквально не успевали наговориться, столько всего произошло за эти пять лет, и все такое разное – только последний год Ники оказался так фатально похожим на ее) Ника спросила у Ви, почему та ничего не рассказывает о себе. Ви отмахнулась – зачем тебе знать? Работает в издательстве «Зрение – сила», замужем, детей нет, и вообще последний год ничего интересного, курсы, сериалы, бассейн, спорт, вязание, капоэйра, летом еду в Рио на слет, там будут все наши.
Хотя нет, как можно говорить про лето, про эти спонтанные танцы, про режиссера Богдана, когда человек на грани смерти? Ника ловила ее замешательство, хохотала: да рассказывай уже! Все рассказывай! У меня чушь, труба, вот уже тушь потекла, колготы едут, мне нужна жизнь, пламя, жар и огнемет, я, может, даже схожу с тобой потанцую, мне уже все теперь можно, кофе и танцевать, легкие и нелегкие наркотики.