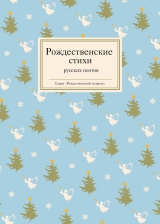
Текст книги "Рождественские стихи русских поэтов"
Автор книги: Татьяна Стрыгина
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Составитель Татьяна Стрыгина
Рождественские стихи русских поэтов
Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС 13-315-2236
Дорогой читатель! Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что Вы приобрели легальную копию электронной книги издательства «Никея».
Если же по каким-либо причинам у Вас оказалась пиратская копия книги, то убедительно просим Вас приобрести легальную. Как это сделать – узнайте на нашем сайте www.nikeabooks.ru
Если в электронной книге Вы заметили какие-либо неточности, нечитаемые шрифты и иные серьезные ошибки – пожалуйста, напишите нам на info@nikeabooks.ru
Спасибо!
Сергей Аверинцев (1937–2004)
Благовещенье
Вода, отстаиваясь, отдает
осадок дну, и глубина яснеет.
Меж голых, дочиста отмытых стен,
где глинян пол и низок свод; в затворе
меж четырех углов, где отстоялась
такая тишина, что каждой вещи
возвращена существенность: где камень
воистину есть камень, в очаге
огонь – воистину огонь, в бадье
вода – воистину вода, и в ней
есть память бездны, осененной Духом, —
а больше взгляд не сыщет ничего, —
меж голых стен, меж четырех углов
стоит недвижно на молитве Дева.
Отказ всему, что – плоть и кровь; предел
теченью помыслов. Должны умолкнуть
земные чувства. Видеть и внимать,
вкушать, и обонять, и осязать
единое, в изменчивости дней
неизменяемое: верность Бога.
Стоит недвижно Дева, покрывалом
поникнувшее утаив лицо,
сокрыв от мира – взор, и мир – от взора;
вся сила жизни собрана в уме,
и собран целый ум в едином слове
молитвы.
Как бы страшно стало нам,
когда бы прикоснулись мы к такой
сосредоточенности, ни на миг
не позволяющей уму развлечься.
Нам показалось бы, что этот свет
есть смерть. Кто видел Бога, тот умрет, —
закон для персти.
Праотец людей,
вкусив и яд греха, и стыд греха,
еще в раю искал укрыть себя,
поставить рай между собой и Богом,
творенье Бога превратив в оплот
противу Бога, извращая смысл
подаренного чувствам: видеть все —
предлог, чтобы не видеть, слышать все —
предлог, чтобы не слышать; и рассудок
сменяет помысл помыслом, страшась
остановиться.
Всуе мудрецы
об адамантовых учили гранях,
о стенах из огня, о кривизне
пространства: тот незнаемый предел,
что отделяет ум земной от Бога,
есть наше невнимание. Когда б
нам захотеть всей волею – тотчас
открылось бы, как близок Бог. Едва
достанет места преклонить колена.
Но кто же стерпит, вопрошал пророк,
пылание огня? Кто стерпит жар
сосредоточенности? Неповинный,
сказал пророк. Но и сама невинность
с усилием на эту крутизну
подъемлется.
Внимание к тому,
что плоти недоступно, есть для плоти
подобье смерти. Мысль пригвождена,
и распят ум земной; и это – крест
внимания. Вся жизнь заключена
в единой точке, словно в жгучей искре,
все в сердце собрано, и жизнь к нему
отхлынула. От побелевших пальцев,
от целого телесного состава
жизнь отошла – и перешла в молитву.
Колодезь Божий. Сдержана струя,
и воды отстоялись. Чистота
начальная: до дна прозрачна глубь.
И совершилось то, что совершилось:
меж голых стен, меж четырех углов
явился, затворенную без звука
минуя дверь и словно проступив
в пространстве нашем из иных глубин,
непредставимых, волей дав себя
увидеть, – тот, чье имя: Божья сила.
Кто изъяснял пророку счет времен
на бреге Тигра, в огненном явясь
подобии. Кто к старцу говорил,
у жертвенника стоя. Божья сила.
Он видим был – в пространстве,
но пространству
давая меру, как отвес и ось,
неся в себе самом уставы те,
что движут звездами. Он видим был
меж голых стен, меж четырех углов,
как бы живой кристалл иль столп огня.
И слово власти было на устах,
неотвратимое. И власть была
в движенье рук, запечатлевшем слово.
Он говорил. Он обращался к Ней.
Учтивость неба: он Ее назвал
по имени. Он окликал Ее
тем именем земным, которым мать
Ее звала, лелея в колыбели:
Мария! Так, как мы Ее зовем
в молитвах: Благодатная Мария!
Но странен слуху был той речи звук:
не лепет губ, и языка, и неба,
в котором столько влажности, не выдох
из глуби легких, кровяным теплом
согретых, и не шум из недр гортани, —
но так, как будто свет заговорил;
звучание без плоти и без крови,
легчайшее, каким звезда звезду
могла б окликнуть: «Радуйся, Мария!»
Звучала речь, как бы поющий свет:
«О Благодатная– Господь с Тобою —
между женами Ты благословенна».
Учтивость неба? Ум, осиль: Того,
Кто создал небеса. Коль эта весть
правдива, через Вестника Творец
приветствует творение. Ужель
вернулось время на заре времен
неоскверненной: миг, когда судил
Создатель о земле Своей: «Добро
Зело», – и ликовали звезды? Где ж
проклятие земле? Где, дочерь Евы?
И все легло на острие меча.
О, лезвие, что пронизало разум до
сердцевины. Ты, что призвана:
как знать, что это не соблазн? Как знать,
что это не зиянье древней бездны
безумит мысль? Что это не глумленье
из-за пределов мира, из-за грани
последнего запрета?
Сколько дев
языческих, в чьем девстве – пустота
безлюбия, на горделивых башнях
заждались гостя звездного, чтоб он
согрел их холод, женскую смесив
с огнем небесным кровь; из века в век
сидели по затворам Вавилона
служанки злого таинства, невесты
небытия; и молвилась молва
о высотах Ермонских, где сходили
для странных браков к дочерям людей
во славе неземные женихи,
премудрые, – и покарал потоп
их древний грех.
Но здесь – иная Дева,
в чьей чистоте – вся ревность всех пророков
Израиля, вся ярость Илии,
расторгнувшая сеть Астарты; Дева,
возросшая под заповедью той,
что верному велит: не принимать
языческого бреда о Невесте
превознесенной. Разве не навек
отсечено запретное?
Но Вестник
уже заговорил опять, и речь
его была прозрачна, словно грань
между камней твердейшего, и так
учительно ясна, чтобы воззвать
из оторопи ум, смиряя дрожь:
«Не бойся, Мариам; Ты не должна
страшиться, ибо милость велика
Тебе от Бога».
О, не лесть: ни слова
о славе звездной: все о Боге, только
о Боге. Испытуется душа:
воистину ли веруешь, что Бог
есть Милостивый? – и дает ответ:
воистину! До самой глубины:
воистину! Из сердцевины сердца:
воистину! Как бы младенца плач,
стихает смута мыслей, и покой
нисходит. Тот, кто в Боге утвержден,
да не подвижется. О, милость, милость,
как ты тверда.
И вновь слова звучат
и ум внимает:
«Ты зачнешь во чреве,
И Сын родится от Тебя, и дашь
Ему Ты имя: Иисус – Господь
спасает».
Имя силы, что во дни
Навиновы гремело. Солнце, стань
над Гаваоном и луна – над долом
Аиалон!
«И будет Он велик,
и назовут Его правдиво Сыном
Всевышнего; и даст Ему Господь
престол Давида, пращура Его,
и воцарится Он над всем народом
избрания, и царствию Его
конца не будет».
Нет, о, нет конца
отверстой глуби света. Солнце правды,
от века чаянное, восстает
возрадовать народы; на возврат
обращена река времен, и царство
восстановлено во славе, как во дни
начальные. О, слава, слава – злато
без примеси, без порчи: наконец,
о, наконец Господь в Своем дому —
хозяин, и сбываются слова
обетований. Он приходит – Тот,
чье имя чудно: Отрок, Отрасль – тонкий
росток процветший, царственный побег
от корня благородного; о Ком
порой в загадках, а порой с нежданным
дерзанием от века весть несли
сжигаемые вестью; Тот, пред Кем
в великом страхе лица сокрывают
Шестикрылатые —
Но в тишине
неимоверной ясно слышен голос
Отроковицы – ломкий звук земли
над бездной неземного; и слова
текут – студеный и прозрачный ток
трезвейшей влаги: Внятен в тишине,
меж голых стен, меж четырех углов
вопрос:
«Как это будет, если я
не знаю мужа?» —
Голос человека
пред крутизной всего, что с человеком
так несоизмеримо. О, зарок
стыдливости: блюдут ли небеса,
что человек блюдет? Не пощадит —
иль пощадит Незримый волю Девы
и выбор Девы? О, святой затвор
обета, в тесноте телесной жизни
хранимого; о, как он устоит
перед безмерностию, что границ
не знает? Наставляемой мольба
о наставлении: «как это будет?»—
Дверь мороку закрыта. То, что Божье,
откроет только Бог. На все судил
Он времена: «Мои пути – не ваши
пути». Господне слово твердо. Тайну
гадания не разрешат. Не тем,
кто испытует Божий мрак, себя
обманывая сами, свой ответ
безмолвию подсказывая, бездне
нашептывая, – тем, кто об ответе
всей слезной болью молит, всей своей
неразделенной волей, подается
ответ.
И Вестник говорит, и вновь
внимает Наставляемая, ум
к молчанию понудив:
«Дух Святой —
тот Огнь живой, что на заре времен
витал над бездной, из небытия
тварь воззывая, возгревая вод
глубь девственную, – снидет на Тебя;
и примет в сень Свою Тебя, укрыв
как бы покровом Скинии, крыла
Шехины простирая над Тобой,
неотлучима от Тебя, как Столп
святой – в ночи, во дни – неотлучим
был от Израиля, как слава та,
что осияла новозданный храм
и соприсущной стала, раз один
в покой войдя, – так осенит Тебя
Всевышнего всезиждущая сила».
О, сила. Тот, чье имя – Божья сила,
учил о Силе, что для всякой силы
дает исток. Господень ли глагол
без силы будет? Сила ль изнеможет
перед немыслимым, как наша мысль
изнемогает?
Длилось, длилось слово
учительное Вестника – и вот
что чудно было:
ангельская речь —
как бы не речь, а луч, как бы звезда,
глаголющая – что же возвещала
она теперь? Какой брала пример
для проповеди? Чудо – о, но чудо
житейское; для слуха Девы – весть
семейная, как искони ведется
между людьми, в стесненной теплоте
плотского, родового бытия,
где жены в участи замужней ждут
рождения дитяти, где неплодным
лишь слезы уготованы. И Дева
семейной вести в ангельских устах
внимала – делу силы Божьей.
«Вот
Елисавета, сродница Твоя,
Бесплодной нарицаемая, сына
в преклонных летах зачала; и месяц
уже шестой ее надеждам».
Знак
так близок для Внимающей, да будет
Ей легче видеть: как для Бога все
возможно – и другое: как примера
смирение – той старицы стыдливо
таимая, в укроме тишины
лелеемая радость – гонит прочь
все призраки, все тени, все подобья
соблазна древнего. Недоуменье
ушло, и твердо стало сердце, словно
Господней силой огражденный град.
И совершилось то, что совершилось:
как бы свидетель правомочный, Вестник
внимал, внимали небеса небес,
внимала преисподняя, когда
слова сумела выговорить Дева
единственные, что звучат, вовеки
не умолкая, через тьму времен
глухонемую:
«Се, раба Господня;
да будет мне по слову Твоему».
И Ангел от Марии отошел.
Благовещенская песнь
Ангел предстал Гедеону
и сказал ему: «Господь с тобою!»
Он ведет тебя путем неизвестным,
и верность Его – вовеки.
Он явит для тебя чудо, знаменье
Своей правды:
сойдут небесные росы,
напитают руно на камне.
Он ведет тебя путем неизвестным,
Он ведет тебя путем веры.
Не в числе воинов спасенье,
не во многом множестве рати:
с тремястами лакавших воду
ты низложишь гордых и сильных,
и дрогнут враги от вопля:
«Меч Господа и Гедеона!»
Ангел предстал Благодатной
и сказал Ей: «Господь с Тобою!
Он ведет Тебя путем неизвестным,
Он ведет Тебя за все пределы.
Он явит для Тебя чудо,
знаменье Своей силы:
сойдут небесные росы
на руно Твоего Девства.
Не в громах и гласе трубном,
но тихо, как роса на травы,
сойдет на Тебя действо Духа,
осенит Тебя Всевышнего сила.
Все у Бога возможно,
и милость Его – шире неба,
милость выше созвездий,
милость глубже преисподней,
милость – без меры и предела,
но вмести ее в Твоем сердце.
Как от века твердили Пророки,
пели боговещие Жены,
Дева зачнет во чреве,
Сына родит Отроковица.
Сбываются древние обеты,
от слова сбываются до слова!
Ты наречешь Ему имя,
как весть вечного спасенья;
примет Он престол Давида,
царство в народе верных;
цари земные изнемогут,
но царство Его – вовеки.
Не в злате и сребре богатство,
не в коне и всаднике – сила:
Он трости надломленной не сломит,
курящегося льна не угасит,
как овца, пойдет на закланье,
не отверзнет уст Своих, как агнец, —
и дрогнет мощь Аваддона
пред кротостью Его страшной;
и преклонится всякое колено
небесных, земных и преисподних
о имени Твоего Сына,
Льва от колена Иуды».

Алексей Апухтин (1840–1893)
24 декабря
Восторженный канон Дамаскина
У всенощной сегодня пели,
И умилением душа была полна,
И чудные слова мне душу разогрели.
«Владыка в древности чудесно спас народ…»
О верю, верю. Он и в наши дни придет
И чудеса свершит другие.
О Боже! не народ – последний из людей
Зовет Тебя, тоскою смертной полный…
В моей душе бушуют также волны
Воспоминаний и страстей.
Он волны осушил морские
О, осуши же их своей могучей дланью!
Как солнцем освети греховных мыслей тьму…
О, снизойди к ничтожному созданью!
О, помоги неверью моему!
1883
Белла Ахмадулина (1937–2010)
Елка в больничном коридоре
В коридоре больничном поставили елку. Она
и сама смущена, что попала в обитель страданий.
В край окна моего ленинградская входит луна
и недолго стоит: много окон и много стояний.
К той старухе, что бойко бедует на свете одна,
переходит луна, и доносится шорох стараний
утаить от соседок, от злого непрочного сна
нарушенье порядка, оплошность запретных
рыданий.
Всем больным стало хуже. Но все же – канун
Рождества.
Завтра кто-то дождется известий, гостинцев,
свиданий.
Жизнь со смертью – в соседях. Каталка
всегда не пуста —
лифт в ночи отскрипит равномерность
ее упаданий.
Вечно радуйся, Дево! Младенца ты
в ночь принесла.
Оснований других не оставлено для упований,
но они так важны, так огромны,
так несть им числа,
что прощен и утешен безвестный
затворник подвальный.
Даже здесь, в коридоре, где елка —
причина для слез
(не хотели ее, да сестра заносить повелела),
сердце бьется и слушает, и – раздалось,
донеслось:
– Эй, очнитесь! Взгляните – восходит
Звезда Вифлеема.
Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву,
поспешанье волхвов и неопытной Матери
локоть,
упасавший Младенца с отметиной чудной
во лбу.
Остальное – лишь вздор, затянувшейся лжи
мимолетность.
Этой плоти больной, изврежденной
трудом и войной,
что нужней и отрадней столь просто
описанной сцены?
Но корят – то вином, то другою какою виной
и питают умы рыбьей костью обглоданной
схемы.
Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
каплей был и блестел, как бессмысленный
черный фонарик, —
там, в окне и вовне. Но прислышалось
общему сну:
в колокольчик на елке названивал
крошка звонарик.
Занимавшийся день был так слаб, неумел,
неказист.
Цвет – был меньше, чем розовый: родом
из робких, не резких.
Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились, глянув на кроткий
и жалобный крестик.
А как стали вставать, с неохотой глаза
открывать,
вдоль метели пронесся трамвай, изнутри
золотистый.
Все столпились у окон, как дети:
– Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка:
весь пятнистый, огнистый.
Сели завтракать, спорили, вскоре устали,
легли.
Из окна вид таков, что невидимости
Ленинграда
или невидали мне достанет для слез и любви.
– Вам не надо чего-нибудь?
– Нет, ничего нам не надо.
Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
Сочинитель пустот, в коридоре смотрю
на сограждан.
Матерь Божия! Смилуйся!
Сына о том же проси.
В день Рожденья Его дай молиться и плакать
о каждом!
1985
Юргис Балтрушайтис (1873–1944)
Вифлеемская звезда
Дитя судьбы, свой долг исполни,
Приемля боль, как высший дар…
И будет мысль – как пламя молний,
И будет слово – как пожар!
Вне розни счастья и печали,
Вне спора тени и луча,
Ты станешь весь – как гибкость стали,
И станешь весь – как взмах меча…
Для яви праха умирая,
Ты в даль веков продлишь свой час,
И возродится чудо рая,
От века дремлющее в нас, —
И звездным светом – изначально —
Омыв все тленное во мгле,
Раздастся колокол венчальный,
Еще неведомый земле!
1912
Владимир Бенедиктов (1807–1873)
Елка Отрывок
Елка, дикую красу
Схоронив глубоко,
Глухо выросла в лесу,
От людей далеко.
Ствол под жесткою корой,
Зелень – все иголки,
И смола слезой, слезой
Каплет с бедной елки.
Не растет под ней цветок,
Ягодка не спеет;
Только осенью грибок,
Мхом прикрыт – краснеет.
Вот сочельник Рождества:
Елку подрубили
И в одежду торжества
Ярко нарядили.
Вот на елке – свечек ряд,
Леденец крученый,
В гроздьях сочный виноград,
Пряник золоченый.
Вмиг плодами поросли
Сумрачные ветки;
Елку в комнату внесли:
– Веселитесь, детки!
Вот игрушки вам. – А тут,
Отойдя в сторонку,
Жду я, что-то мне дадут —
Старому ребенку?
Нет, играть я не горазд:
Годы улетели.
Пусть же кто-нибудь подаст
Мне хоть ветку ели.
Буду я ее беречь, —
Страждущий проказник, —
До моих последних свеч,
На последний праздник.
К возрожденью я иду;
Уж настал сочельник:
Скоро на моем ходу
Нужен будет ельник.
24 декабря 1857
Привет старому 1858 году
А! Новый! – Ну, милости просим.
Пожалуйте. – Только уж – нет —
Не вам, извините, приносим,
А старому году привет.
Характер ваш нам неизвестен,
Вы молоды слишком пока, —
А старый и добр был, и честен,
И можно почтить старика.
К чему же хитрить, лицемерить,
Заране сплетая вам лесть?
Нам трудно грядущему верить,
Мы верим тому, что уж есть.
А есть уже доброго много,
От доброго семени плод
Не худ будет с помощью Бога.
Не худ был и старенький год.
По солнцу он шел, как учитель,
С блестящей кометой на лбу,
И многих был зол обличитель, —
С невежеством вел он борьбу.
И мир был во многом утешен
И в прозе, и в звуке стиха,
А если в ином был он грешен,
Так где же и кто ж без греха?
Да! В медные головы, в груди
Стучит девятнадцатый век.
Внизу начинаются люди,
И есть наверху Человек.
Его от души поздравляем…
Не нужно его называть.
Один он – и только, мы знаем,
Один он – душа, благодать.
Один… за него все молитвы.
Им внешняя брань перешла
В святые, крестовые битвы
С домашнею гидрою зла.
Декабрь 1858
На 1861 год
«О Господи! Как время-то идет!» —
Твердило встарь прабабушкино племя,
И соглашался с этим весь народ.
Да полно, так ли? Движется ли время?
У нас в речах подчас неверен слог,
Толкуем мы о прошлом, преходящем
И будущем, а в целом – мир и Бог
Всегда живут в одном лишь настоящем.
И нету настоящему конца,
И нет начала. Люди вздор городят
О времени, – оно для мудреца
Всегда стоит, они ж идут, проходят
Или плывут по жизненной реке
И к берегам относят то движенье,
Которое на утлом челноке
Свершают сами. Всюду – заблужденье.
О род людской! Морщины лбов
Считает он, мытарства и невзгоды,
Число толчков, число своих гробов
И говорит: «Смотрите! Это – годы.
Вот счет годов – по надписям гробниц,
По памятникам, храмам, обелискам».
Не полно ль годы цифрами считать
И не пора ль меж новостей, открытий
Открытому сознанью место дать,
Что мир созрел для дел и для событий?
О, вознесись к Творцу, хвалебный глас,
От всей России в упованье смелом,
Что новый год, быть может, и для нас
Означится великим, чудным делом!
О, если б только – в сторону мечи!
И если бы средь жизненного пира
Кровь не лилась! Господь нас научи
Творить дела путем любви и мира!
Воистину то был бы новый год,
И новый век, и юбилей наш новый
И весь людской возликовал бы род,
Объят всемирной Церковью Христовой.
Декабрь 1860
Валентин Берестов (1928–1998)
* * *
В день Рождения Христа
В мир вернулась красота.
Январский лед сиянье льет.
Январский наст пропасть не даст.
Январский снег нарядней всех:
Днем искрометный и цветной
И так сияет под луной.
И каждый из январских дней
Чуть-чуть, но прежнего длинней.
И так пригоден для пиров
И встреч – любой из вечеров.

Ясли
Ясли, – так мечтал один ребенок, —
Можно склеить из цветных картонок,
Сделать из бумаги золотой
Пастухов с Рождественской звездой.
Ослик, вол – какая красота! —
Встанут рядом с яслями Христа.
Вот они – в одеждах позолоченных
Три царя из дивных стран восточных.
По пустыне в ожиданье чуда
Их везут послушные верблюды.
А Христос-Младенец? В этот час
Он в сердцах у каждого у нас!
Перевод с франц. из М. Карема

Колыбельная елочке
Спи, елочка-деточка, под пенье метели.
Я снегом пушистым тебя уберу.
Усни на коленях у матушки-ели,
Такая зеленая в белом бору.
Усни и не слушай ты всякого вздора,
Ни ветра, ни зверя, ни птиц, никого!
Как будто возьмут нашу елочку скоро
И в дом увезут, чтоб встречать Рождество.
Нет, в чан с оторочкой из старой бумаги
Тебя не поставят у всех на виду.
Не будешь держать ты гирлянды и флаги,
Игрушки и свечи, шары и звезду.
Нет, спрячешь ты заиньку – длинные ушки,
Тебя разукрасят метель и мороз,
И вспыхнет звезда у тебя на макушке
В тот час, как родился Младенец Христос.
Перевод с франц. из М. Карема
Сергей Бехтеев (1879–1954)
Святая ночь
Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение!
Лк. 2: 14
Ночь и мороз на дворе;
Ярко созвездья горят;
В зимнем седом серебре
Молча деревья стоят.
Дивен их снежный убор:
Искр переливчатый рой
Радует трепетный взор
Дивной стоцветной игрой.
Блещут в Тобольске огни,
В мраке сверкая, дрожат;
Здесь в заточеньи они
Скорбью монаршей скорбят.
Здесь, далеко от людей,
Лживых и рабских сердец,
В страхе за милых детей,
Спит их Державный Отец.
Искрятся звезды, горя,
К окнам изгнанников льнут,
Смотрят на ложе Царя,
Смотрят и тихо поют:
«Спи, Страстотерпец Святой,
С кротким Семейством Своим;
Ярким венцом над Тобой
Мы величаво горим.
Спи, покоряясь судьбе,
Царь побежденной страны;
Ночь да откроет Тебе
Вещие, светлые сны.
Спи без тревог на челе
В тихую ночь Рождества:
Мы возвещаем земле
Дни Твоего торжества.
Светочи ангельских слез
Льются, о правде скорбя;
Кроткий Младенец Христос
Сам охраняет Тебя!»
24 декабря 1917
Александр Блок (1880–1921)
Ночь на Новый год
Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы
В мечтах таинственной игры.
Скрипнет снег – сердца займутся —
Снова тихая луна.
За воротами смеются,
Дальше – улица темна.
Дай взгляну на праздник смеха,
Вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные – помеха,
Милый глянет на крыльцо…
Но туман не шелохнется,
Жду полу́ночной поры.
Кто-то шепчет и смеется,
И горят, горят костры…
Скрипнет снег – в морозной дали
Тихий, кра́дущийся свет.
Чьи-то санки пробежали…
«Ваше имя?» Смех в ответ.
Вот поднялся вихорь снежный,
Побелело всё крыльцо…
И смеющийся и нежный
Закрывает мне лицо…
Лежат холодные туманы,
Бледнея, кра́дется луна.
Душа задумчивой Светланы
Мечтой чудесной смущена…
31 декабря 1901
* * *
Три светлых царя из восточной страны
Стучались у всяких домишек,
Справлялись: как пройти в Вифлеем?
У девочек всех, у мальчишек.
Ни старый, ни малый не мог рассказать,
Цари прошли все страны;
Любовным лучом золотая звезда
В пути разгоняла туманы.
Над домом Иосифа встала звезда,
Они туда постучали;
Мычал бычок, кричало Дитя,
Три светлых царя распевали.
Перевод из Г. Гейне Январь 1909
* * *
Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый —
Младенца Дева родила.
На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.
Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.
1902
* * *
Кто плачет здесь? На мирные ступени
Всходите все – в открытые врата.
Там – в глубине – Мария ждет молений,
Обновлена Рождением Христа.
Скрепи свой дух надеждой высшей доли,
Войди и ты, печальная жена.
Твой милый пал, но весть в кровавом поле
Весть о Любви – по-прежнему ясна.
Здесь места нет победе жалких тлений,
Здесь всё – Любовь. В открытые врата
Входите все. Мария ждет молений,
Обновлена Рождением Христа.
1902
Сочельник в лесу
Ризу накрест обвязав,
Свечку к палке привязав,
Реет ангел невелик,
Реет лесом, светлолик.
В снежно-белой тишине
От сосны порхнет к сосне,
Тронет свечкою сучок —
Треснет, вспыхнет огонек,
Округлится, задрожит,
Как по нитке, побежит
Там и сям, и тут, и здесь…
Зимний лес сияет весь!..
Так легко, как снежный пух,
Рождества крылатый дух
Озаряет небеса,
Сводит праздник на леса,
Чтоб от неба и земли
Светы встретиться могли,
Чтоб меж небом и землей
Загорелся луч иной,
Чтоб от света малых свеч
Длинный луч, как острый меч,
Сердце светом пронизал,
Путь неложный указал.
1912
Рождество
Звонким колокол ударом
Будит зимний воздух.
Мы работали недаром —
Будет светел отдых.
Серебрится легкий иней
Около подъезда,
Серебристые на синей
Ясной тверди звезды.
Как прозрачен, белоснежен
Блеск узорных окон!
Как пушист и мягко нежен
Золотой твой локон!
Как тонка ты в красной шубке,
С бантиком в косице!
Засмеешься – вздрогнут губки,
Задрожат ресницы.
Веселишь ты всех прохожих —
Молодых и старых,
Некрасивых и пригожих,
Толстых и поджарых.
Подивятся, улыбнутся,
Поплетутся дале,
Будто вовсе, как смеются
Дети, не видали.
И пойдешь ты дальше с мамой
Покупать игрушки
И рассматривать за рамой
Звезды и хлопушки…
Сестры будут куклам рады,
Братья просят пушек,
А тебе совсем не надо
Никаких игрушек.
Ты сама нарядишь елку
В звезды золотые
И привяжешь к ветке колкой
Яблоки большие.
Ты на елку бусы кинешь,
Золотые нити.
Ветки крепкие раздвинешь,
Крикнешь: «Посмотрите!»
Крикнешь ты, поднимешь ветку,
Тонкими руками…
А уж там смеется дедка
С белыми усами!

Иосиф Бродский (1940–1996)
Рождество
Спаситель родился в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали лохматые ноги.
Выл ветер. Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.
1963–1964
Рождество 1963 года
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал Младенец, и дары лежали.
Январь 1964
24 декабря 1971 года
V. S.
В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою – нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства —
основной механизм Рождества.
То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет – никому не понятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.
Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.
Январь 1972

Сретенье
Анне Ахматовой
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он – Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». – Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие…»
И старец сказал, повернувшись к Марии:
«В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
16 февраля 1972
* * *
Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве.
В эту пору – разгул Пинкертонам,
и себя настигаешь в любом естестве
по небрежности оттиска в оном.
За такие открытья не требуют мзды;
тишина по всему околотку.
Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта —
пар клубами, как профиль дракона.
Помолись лучше вслух, как второй Назорей,
за бредущих с дарами в обеих
половинках земли самозваных царей
и за всех детей в колыбелях.
1980
Рождественская звезда
В холодную пору, в местности, привычной
скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более,
чем к горе,
Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может
зимой мести.
Ему все казалось огромным: грудь матери,
желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы —
Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была
звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был
взгляд Отца.
24 декабря 1987
Бегство в Египет
…погонщик возник неизвестно откуда.
В пустыне, подобранной небом для чуда,
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
Младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительно навык
свеченья – не только в державе чернявых,
сейчас, но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.
25 декабря 1988







