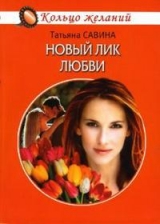
Текст книги "Новый лик любви"
Автор книги: Татьяна Савина
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– А вы не сравнивайте меня с собой, дядя Володя, – буркнула Геля.
У него поползли вверх брови:
– Почему? Что такое?
– Да вы слепой, что ли, дядюшка? – задохнулась Геля. – Вы приглядитесь!
И она ткнула себя в щеку, покрытую угрями.
– Я же настоящая уродина! Баба-Яга – вот как меня в школе называют! Разве кто-то любил Бабу-Ягу?
Прищурившись, дядя внимательно всмотрелся в ее лицо.
– Мы сделаем тебе операцию.
У нее часто затрепетали ресницы:
– Что? Какую еще операцию.
– Пластику. Исправим все, что надо. Ты станешь совсем другой. Красивой. Теперь все делают такие операции, это не страшно.
– Да я и не боюсь… Но ведь это… ужасно дорого…
Он улыбнулся и махнул рукой:
– Деньги у меня есть. Я не очень богатый человек, но на жизнь мне хватает. И на операцию хватит.
Геля впилась взглядом в его полное, загорелое лицо:
– Но… Но почему?
Дядя Володя пожал плечами:
– А почему – нет? Ты же моя кровь, я хочу сделать тебя счастливой. Параметры фигуры у тебя абсолютно модельные, и рост, и… И вообще…
У нее дрогнул голос:
– Правда?
– Абсолютная. Только сначала тебе надо привести в порядок свои нервы. А то мало ли что может случиться под наркозом…
Она спросила тоном маленькой девочки, которую похвалили:
– А как?
– Я поговорю с сестрой. Она что-нибудь подскажет. Не думаю, что перед операцией стоит глушить тебя антидепрессантами. Есть ведь нетрадиционные методы…
– Какие? Вы об экстрасенсах говорите? Не очень-то я в них верю.
Он настойчиво повторил:
– Я поговорю с сестрой. Она лучше знает этот город. Мы кого-нибудь найдем. Какого-нибудь настоящего специалиста. Подделок нам не надо.
…Так в жизни Гели появилась бабушка Вера.
* * *
Его называли самым смешным дураком нашего кино. Павлу Тремпольцеву даже ничего не нужно было говорить, чтобы вызвать смех у зрителей, просто появиться на экране. Ну в самом деле, как не покатиться со смеху, видя перед собой этакую образину с рыхлым носом «картошкой», огромным ртом, так и расползающимся в ухмылке, по-детски оттопыренными ушами, которые вдобавок еще были вечно с красноватым оттенком?! Это лицо знакомо каждому зрителю с времен СССР, когда Павел только начинал, и каждый был уверен, что этот дурак просто появляется перед камерой и болтает то, что ему взбредет в голову, а играть ему ничего и не надо, а нужно лишь просто оставаться самим собой.
Никто не подозревал, что друзья называют Павла Тремпольцева печальным философом, еще не дошедшим до стадии полного пессимизма. Его тонкие и увлекательные записки о кино читали только самые близкие друзья, среди которых не было женщин. Не потому, что Павел не любил их… Это они не могли смотреть на него без смеха, собственно, как и режиссеры, предлагавшие ему роли настолько одинаковые, будто их писали по одной болванке. Спустя несколько лет Тремпольцев и сам не мог припомнить, кого именно сыграл в том или ином фильме. У его героев практически не было характеров, только некоторые черты, которыми его наградила судьба. Если бы не лицо, сразу и навсегда определившее его амплуа, Павел мог бы сыграть дядю Ваню или Пьера Безухова, мог бы выступить в роли Гамлета и вместо Жени Миронова блеснуть в новой постановке «Идиота»… У него получилось бы.
С самого детства, когда играл еще в драмкружке при Дворце пионеров, Павел чувствовал в себе талант столь многогранный, кипучий, что с каждым годом ему все больше душевных сил требовалось, чтобы смириться с существующим положением вещей. Самому себе Тремпольцев уже казался ходячим кладбищем, где были захоронены все несыгранные им роли. И ему не оставалось ничего другого, как смириться с таким положением вещей.
«Я не подвергаю сомнению то, что именно Бог вдохнул в нас душу. Но неужели Ему могло быть настолько безразлично, какое именно тело он наделил той или иной душой? Или это всякий раз осознанный Им выбор, смысл которого в особого рода испытаниях для души? Тяготиться собственным телом, подаренным тебе лицом – не значит ли это идти против Бога? Следует ли из этого, что те миллионы людей, что решились на пластические операции – богоотступники? Я, конечно, не имею в виду клинические случаи, как та история с француженкой, которой собака повредила лицо. Все телеканалы сообщали об этой трагедии.
Стоит любому взглянуть на мое лицо, как он сам превращается в гогочущего идиота, ждущего от актера не талантливой игры, а очередной глупой пошлости. Снимая меня, даже американцы бы отказались от закадрового смеха, потому что зрителю не нужно было бы подсказывать, когда именно пора надрывать животики. А что, может, рвануть в Голливуд, и продемонстрировать свою рожу всему миру?
Нет, я русский актер, и в этом мое счастье и моя трагедия. Я до ненормальности люблю эту страну со всеми ее нелепостями и красотой. С готовностью каждого русского в любую минуту засмеяться и заплакать. Наш любимый жанр – это трагикомедия, вот почему каждый год 31 декабря вся Россия снова и снова смотрит «Иронию судьбы»…
Я знаю людей, которых это безумно раздражает. Как и слишком громкий детский смех, и лужи весной, и раскатанные пацанами ледовые дорожки, и надписи краской на стене напротив чьих-то окон: «Я люблю тебя!»… Словом, все то, что и составляет вечную прелесть жизни. Это несчастливые люди, несмотря на то, что у них есть дети и красивые жены ждут их дома. Они просто не умеют быть счастливыми, потому что у них мертвые сердца.
Мое сердце живо. И каждая уходящая из моей жизни женщина уносила с собой часть света, чтобы другая, что придет ей на смену, не сразу смогла разглядеть мою физиономию. Они заботились друг о друге, как сестры, и ни одну не волновало, что же будет со мной. Мне холодно и темно. Так темно бывает в кинозале, когда ломается проектор. Прерывается придуманная кем-то, но такая настоящая жизнь. На мгновение умирают не существующие люди, которых уже любишь и ненавидишь.
Как я хотел бы сыграть какую-нибудь вечную роль! Создать на экране образ, который каждого задел бы за живое, вытянул бы из глубин памяти разноцветные кадры его собственного детства, когда он еще не был таким правильным и скучным, и тыкался носом в желтые одуванчики, и часами следил за муравьями, улегшись пузом на траву. Потом его ругали дома за извазюканную майку, но такое в памяти не отпечатывается, если только это не стало одной из многочисленных обид. Я хотел бы заглянуть в глаза каждого зрителя и передать ему часть моей тревоги за него и моей веры в него. И пусть ему, хотя бы на два часа, стало бы легче от созданной мною великой иллюзии…»
Отложив дневник, Павел медленно обвел взглядом палату, к которой все еще не мог привыкнуть. Равно, как и освоиться с тем, что он не только решился на операцию, о которой подумывал уже несколько лет, но лег в клинику, которую посоветовала ему знакомая актриса, оставшаяся довольна успешным результатом круговой подтяжки лица. Он поделился с ней своими планами только потому, что Лариса была его другом многие годы, и ее замкнутость и сдержанность, особенно с журналистами, внушала доверие. Если бы «акулы пера» пронюхали, что Тремпольцев сам себя поместил в клинику, наверняка папарацци уже висели бы на окнах.
Павлу так и представились заголовки: «Человек, который смеется, намерен расстаться с надоевшей маской!», «Прирожденный комик решил сменить амплуа!», «Из рыжего клоуна – в герои-любовники». Все это еще поджидает его после выхода из больницы… Он едва слышно застонал, сморщившись. Не станешь же объяснять каждому, что он погнался не за красотой, а за возможностью сыграть наконец серьезную роль. Раскрыть все, на что он способен, как актер, как личность.
Операция назначена на завтра. Сегодня доктор Медведев занимался девочкой, которую Бог тоже не избаловал красотой: нос, как у Сирано, да еще и ужасная кожа…
«Бедный ребенок, – вздохнул Тремпольцев. – Явно никем не любимый – взгляд затравленный. А ведь бывают дурнушки, воспитанные одной матерью и до того ею заласканные, что самоуверенности им не занимать. А эта девочка даже ходит так, будто пытается спрятаться от самой себя. Надеюсь, ей смогут помочь».
Павел видел ее через щель в неприкрытой двери, в коридор он без особой надобности старался не выходить. Не только потому, что там, наводя ужас, то и дело появлялись какие-то привидения с перебинтованными или опухшими после операции лицами. Тремпольцев понимал, что скоро пополнит их ряды, однако смотреть на это выше его сил… Но главное, чем меньше людей заметят его здесь, тем – лучше. И так уже одна продувная бестия с лошадиным подбородком, который, видимо, и предстоит исправить, когда он только появился в отделении лицевой хирургии, узнала его с ходу и пискнула:
– Ой, здрасьте!
Хотя фамилию его могла и не вспомнить. Тремпольцев подозревал, что его фамилию вообще мало кто помнил, хотя на улицах его узнавали сразу же, остаться незамеченным не получалось. Наверное, увидев его, люди говорили примерно так:
– О, смотри! Этот пошел… Ну, как его? Который все время придурков играет!
«Больше никаких придурков. – Павел сильно сжал в пальцах ручку, рискуя ее сломать. – Если все получится, то я наконец смогу получить настоящую, серьезную роль. Возьму псевдоним, чтобы не было никаких разговоров… Режиссерам, конечно, придется признаваться, кто я на самом деле, что не сумасшедший дядька с улицы… Господи, неужели это все реально?! И скоро сбудется? Другая жизнь начнется… Даже не верится».
Открыв окно, Тремпольцев высунулся до пояса и только тогда закурил. Это было запрещено, однако сейчас шла операция – как раз у той большеносой девочки, – и Медведев никак не мог застукать его с сигаретой. Остальных Павел не опасался. Ну, придется улыбнуться сестричке, дать автограф… Он с наслаждением затянулся и посмотрел вниз.
Под окнами было зелено, больницу окружал старый сад, в который Павлу немедленно захотелось спуститься, побродить среди тихих дубов, заблудиться на запущенных тропинках. Его потянуло туда физически, хоть из окна выпрыгивай, как делал в юности, когда жил в общежитии, уехав с Сахалина, чтобы никогда больше туда не вернуться. Хотя там, вокруг родительского дома, тоже был огромный сад. Но этот, внизу, манил больше… Спуститься?
«С новым лицом! – остановил он себя. – Чтобы никто не узнал. Вот же счастье – какое-то время меня никто не будет узнавать!»
Отведя руку с сигаретой чуть в сторону, чтобы дым не застилал свежего блеска зелени, кажущейся совсем юной после дождя, Тремпольцев представил, какие там, внизу, заросшие, темные аллеи, совсем бунинские, манящие… Когда у него будет другое лицо, он затеряется в их переплетении, и, может быть, на одной из старых скамеек под дубом или кленом увидит ту, что не засмеется, заметив его, как все до сих пор, а только робко, вопросительно улыбнется. И эта полуулыбка позволит ему остановиться и обратиться к ней с каким-нибудь нейтральным вопросом… О погоде? Об этих зарослях, которые пока не доступны? Что-нибудь придумается, родится именно в тот момент, когда Павел заметит одинокую фигуру на скамейке… А подойдя поближе, разглядит милое, не оперированное лицо…
«Ага! – поймал себя Тремпольцев. – В своей будущей женщине я, значит, хотел бы видеть только природную красоту? Произведение пластической хирургии меня не устраивает? А сам так ничего, полез под скальпель…»
Ему опять вспомнилась та девочка, над лицом которой сейчас трудился Медведев. Как изменится ее жизнь после операции? Научится ли она ходить, как требовала героиня Ахеджаковой: плавно, от бедра? Или так и будет, стесняясь чужих взглядов, носить свое новое лицо, как чужое, случайно доставшееся? Передвигаться бочком…
Можно было бы поработать с ней, попросить Ларису, которая в свои то ли пятьдесят, то ли шестьдесят, порхала над землей, выправить бедолажке осанку, уговорить поднять голову, только не вообразит ли девочка чего? Она мужским вниманием явно не избалована, и если Тремпольцев предстанет перед ней в своем новом облике… А ведь он сам всегда, каждую минуту будет помнить, что на самом деле она всего лишь прыщавая дурнушка… Законом совести им обоим запрещено иметь детей – в генах-то передастся их настоящее, а не сотворенное хирургом. К чему плодить заведомо обреченных на страдание уродцев? Значит, он будет последним в своем роду. Фамилия перестанет существовать.
– Ладно, поглядим, – пробормотал Тремпольцев и бросил окурок вниз. И тут же устыдился этого машинального жеста: «Что ж я гажу там, где живу?!»
А следом зацепило: «Разве живу? Разве можно назвать жизнью, когда ты просто сидишь и ждешь, когда с тобой что-то сделают? Решат твою судьбу, определят будущее. А ведь именно так и проходит большая часть актерской жизни… Ждешь ролей, предложений, ждешь, ждешь… Потом решаешься: участвуешь в пробах, как теперь принято говорить – кастингах, и снова ждешь – утвердят или нет? Режиссер отсматривает актеров, как шейх наложниц: «Не хочу!» И ничего не поделаешь. Сам для себя фильм не поставишь, если только не решишься изменить профессии и заняться режиссурой. Многие так и сделали…»
Честно говоря, Павел Тремпольцев подумывал об этом еще лет десять назад, но боязнь, что никто на съемочной площадке и в новом качестве не сможет воспринимать его всерьез, удержала оттого, чтобы снова поступить во ВГИК, только уже на другой факультет. А теперь, с новым лицом, этого и не потребуется. Да и годы уже не те, чтобы снова записываться в студенты.
Перед глазами завертелся веселый калейдоскоп: память запустила пеструю череду кадров его студенческих лет. Длинные коридоры ВГИКа увлекали в невиданные, еще никем не снятые приключения. Кого он только не переиграл в ученических этюдах: от раненого медведя до героического сына вьетнамского народа, глядя на которого, весь их курс покатывался со смеху. Учился у них один вьетнамец Нгуен дык Тиен, улыбчивый парень с жутко выпирающими зубами. Он и уговорил Тремпольцева подыграть ему в этюде. Не понимал, бедняга, чем это может обернуться…
– Смешно выйдет, – честно предупредил тогда Павел.
Тиен замотал головой:
– Смешно не надо!
– Ничего не поделаешь, – продолжал напирать Тремпольцев. – Лучше попроси кого-нибудь другого.
– Другой не похож на нашего!
– А я, значит, похож?!
– Ты улыбаешься…
«А что остается?» – мрачно подумал тогда Павел.
Сейчас он тоже улыбнулся, припомнив, как преподаватель стонал тогда, вытирая мокрые от слез глаза:
– Мальчик мой! Никогда больше не играй вьетнамцев… Тем более героев!
На него Павел не обиделся. Как и все остальные, он ловил каждое слово, запоминал интонации, советы, мысли, высказанные вслух, даже если они не имели отношения к кинематографу. Вечером, в общежитии, пока кто-нибудь бегал за вином, Тремпольцев тайком записывал в тетрадку самое важное из услышанного днем, чтобы ничего не упустить, все впихнуть в себя – когда-нибудь да пригодится.
Почти ничего не пригодилось… Нечего было играть. У тех персонажей, которых предлагали ему в кино, не было ни истории, ни глубины, ни характеров. Смешные, дурацкие типажи, и только. Но зрителю и комедии нужны, это Павел понимал не хуже других. Особенно в периоды депрессий, которые в России растягивались на десятилетия. Но вот самому Павлу хотелось не только смеяться…
* * *
О целительнице бабушке Вере рассказывали, будто она прошла сталинские лагеря. И где-то там, на севере, в деревушке, куда ее после отбытия срока определили на поселение, молодой тогда Вере и встретилась старушка, знахарка, поделившаяся с ней своими знаниями. Почему именно с ней? Как теперь узнаешь… Может, ей показалась великомученицей юная дочь врага народа, талантливого, интеллигентного доктора дореволюционной формации, единственная вина которого заключалась в том, что его прочили в заведующие отделением, а не другого врача, быстро сообразившего, каким образом можно отделаться от соперника. А может, в той деревне больше и не было молодых да смышленых. А Вера к тому времени успела закончить мединститут.
Вроде бы она кому-то уже в нынешней жизни признавалась, что сперва опыт той бабушки в штыки восприняла, антинаучность ее методов доказывала. Но однажды сама слегла с двусторонней пневмонией, перетрудившись под проливным дождем на лесоповале, а местный доктор для бывшей заключенной не нашел необходимых лекарств. И тогда старушка взялась лечить ее травами да припарками разными… Спасла. И Вера не из благодарности, а проникнувшись уважением к народной медицине, начала понемногу постигать эту науку.
Говорили еще, что уже много лет спустя, вернувшись в Москву, к матери, которую похоронила через полгода, Вера так и не смогла устроиться по специальности. В больницу ее готовы были принять только санитаркой, их во все времена не хватает. Она же понимала, что способна на большее, чем выносить «утки» и перекладывать больных на каталки. Ей хотелось лечить по-настоящему, но против системы Вера идти не могла. Да и побаивалась… Москва ей снилась столько лет, что снова расстаться с этим городом было невыносимо.
Тогда Вера устроилась работать в медицинскую библиотеку при старой больнице, чтобы заодно изучить труды прошлых лет. Одинокие зимние вечера (замуж ей, честно говоря, не хотелось, да никто и не предлагал) она проводила, обложившись книгами. А летом, в тайне от всех, собирала и высушивала те травы, которые ей особенно настойчиво рекомендовала северная целительница. Названия и описания других трав, растущих только в средней полосе, были узнаны ею из справочников по лекарственным растениям. Однажды с их помощью она подлечила сыночка своей соседки по коммуналке, потом и соседку, а та уже привела к Вере сначала мать, затем ее тетю…
К тому времени, когда к ней пришла Геля Арыкова, о бабушке Вере уже ходили легенды. Из библиотеки ее давно проводили на заслуженный отдых, но пенсионеркой себя Вера Ильинична не чувствовала. В ней было столько жажды жизни, что голубые глаза ее сияли, не поддаваясь старости, стирающей все цвета. Эта женщина обладала самым важным человеческим качеством, необходимым для врача или знахаря – ей был интересен каждый, кто к ней обращался. Она любого принимала, как родственника, которого ей самой крайне важно было спасти. И, чувствуя это, люди записывались к Вере на прием.
Геле не пришлось долго ждать. Ее австралийский дядюшка обладал не только солидным счетом в банке, но и даром убеждения. То, как он со слезами на глазах поведал историю юной племянницы, которая только о том и мечтает, как бы замуровать себя в маленькой комнатке, чтобы людей не пугать своей внешностью, подействовало на Веру Ильиничну. И она сама решила (а вернее, дядюшка ловко подвел ее к этому!), что в этом случае тянуть нельзя. Она вообще старалась помочь всем как можно быстрее, но желающих было так много…
Геля вошла к ней, по обыкновению, бочком и молча села в большое кресло, которое бабушка Вера выбирала в магазине специально, рассчитывая на то, чтобы посетитель мог расслабиться. Тогда его и разговорить легче, и почувствовать. В ней уже давно развилось то особое чутье к болезни, которое называют ясновидением, хотя Вера Ильинична никогда не утверждала, что видит человеческие органы. Ей будто кто-то подсказывал, что именно у пациента требует лечения, но если болезнь была по-настоящему серьезна, то она, как профессионал, рекомендовала сначала пройти медицинское обследование. Интуитивно поставленный ею диагноз часто подтверждался, и бабушка Вера всякий раз благоговейно благодарила Господа.
То, что физически Геля Арыкова абсолютно здорова, стало ясно с первого взгляда. Но и мрак ее души тоже не укрылся от Веры Ильиничны.
«С такой чернотой трудно жить», – подумала она с тревогой и попыталась разговорить девочку, но та угрюмо отмалчивалась или отвечала односложно. Тогда Вера заговорила о себе. О том, как долгие годы себя считала повинной в гибели отца, которого расстреляли. Семье дали отработанный ответ о его участи – десять лет без права переписки. Все уже понимали, что это значит.
И Вера тогда ночами выла в подушку, ненавидя себя за то, что однажды в компании сгоряча выдала: «А мой отец считает Ахматову великим поэтом!» Это случилось через несколько дней после публикации печально известного постановления об отлучении Ахматовой и Зощенко от советской литературы. На кухнях и в комнатах студенческих общежитий еще позволяли себе шепотом спорить об этом. Но рядом всегда мог оказаться доносчик, сексот, о чем Вера первым делом в ужасе и подумала, когда за ее отцом пришли.
Только много лет спустя она узнала от некогда работавшей с отцом медсестры, что однажды, уже после смерти Сталина, заведующий тем отделением, где они все работали, спьяну сболтнул на одной из вечеринок, что раньше, мол, легче было карьеру делать – стоило черкнуть на кого следует, куда следует, и дело в шляпе! Вере не стало радостнее, когда она узнала истинную причину ареста отца, но мучительная тяжесть ушла из ее души.
– Я-то как раз не виновата, что родилась такой, – угрюмо заметила Геля, выслушав эту историю. – Только, знаете, от этого мне не легче.
– Ты не виновата, – согласилась Вера Ильинична. – Но и родители твои не виноваты. Существует ведь Высший Замысел относительного каждого из нас. Поэтому все в жизни не случайно… Ты ведь могла влюбиться не в самого красивого мальчика, правильно?
Геля ахнула:
– Откуда вы знаете?
– Знаю. Как его зовут?
– Сережа. Сережа Колесников.
– А пал бы твой выбор на какого-нибудь Васю Петрова, у которого нос «картошкой», и тогда твоя мечта уже не казалась бы тебе столь недостижимой. С другим ты уже могла бы подружиться…
– Вряд ли, – криво усмехнулась Геля. – Моя рожа кого хочешь напугает!
– Могла бы, – уверенно повторила бабушка Вера. – Но ты выбрала именно Сережу… Поставила себе самую трудную задачу. Значит, подсознательно чувствовала в себе силы разрешить ее? Добиться своего. А?
– Да чего я могу добиться?! Он ведь смеялся надо мной! – Геле опять захотелось зареветь в голос и броситься бежать. Но она осталась.
– Кто знает… Однако ведь ты сама признаешь, что ты не впервые столкнулась с издевательством над собой? Но именно в тот день ты сломалась и расплакалась.
– Все из-за меня… Если бы не была такой тряпкой…
– Господи, о чем ты говоришь? Тряпка… Да ты самый мужественный человечек из всех, кого я встречала! Я, например, не смогла бы держаться столько лет, если б меня дразнили изо дня в день.
Геля посмотрела на нее с вызовом:
– Но я ведь действительно уродина!
Откинувшись на спинку дивана, Вера улыбнулась:
– Помнится, мне однажды попался сборник фантастических рассказов. Я вообще-то не поклонница этого жанра, но тут больше нечего было читать. Так вот, там была одна любопытная история о девушке, попавшей на другую планету еще крошкой и выросшей там. Она не была похожа ни на кого из обитателей той планеты, и ее все страшно жалели, потому что девушка выросла невероятно уродливой: у нее были большие синие глаза, маленький ровный носик, пухлые яркие губы, золотистые локоны…
– Что ж тут уродливого?
– Вот именно! – воскликнула Вера Ильинична. – Все относительно, понимаешь? У жителей той планеты был совершенно другой эталон красоты, поэтому «землянка» казалась им страшилищем. Ты тоже не подходишь под существующий сейчас стандарт… Но, с другой стороны, у знаменитой актрисы Пенелопы Крус нос не меньше твоего, а она ведь чуть не женила на себе самого красивого парня Голливуда.
Геля с удивлением отметила:
– Вот не подумала бы, что вы хотя бы слышали про Тома Круза…
– Почему это? Я слежу за всем, что происходит в мире, мне все интересно. А Том к тому же такой милый мальчик! Тоже, кстати, выбился из нищеты, и в школе его все дразнили и шпыняли из-за его неумения складывать буквы в слова. Слышала о такой болезни?
– Дислексия. Шер тоже ею страдает. И кто-то еще из «звезд»…
– Видишь? Им тоже досталось в детстве, можешь поверить. Даже Джулию Робертс в школе считали дурнушкой из-за ее огромного рта.
Решив признаться, Геля выпалила:
– Я все равно не хочу оставаться такой! Дядя пообещал, что поможет мне с пластической операцией.
Выдержав паузу, бабушка Вера задумчиво кивнула:
– Наверное, это выход. Ты понимаешь, что изменение внешности может повлечь за собой и изменение кармы?
– Ну и что? Вот и прекрасно! В моей жизни нет ничего такого, за что я могла бы держаться.
– Хорошо, – сказала целительница, хотя Геля вовсе не спрашивала у нее разрешения. – Похоже, ты уже все обдумала. Тогда нам остается только слегка привести в порядок твои нервы, чтобы наркоз тебе никаких неприятностей не причинил. А уж с этим я справлюсь…
Геля приходила к ней еще несколько раз. И сама удивлялась: то ли эта старушка воздействует на нее гипнозом, то ли беседы с ней каким-то образом снимают тяжесть, как после сеанса психотерапевта, но с каждым днем она замечала вокруг себя все больше красок. Хотя по-прежнему в основном говорила бабушка Вера, а Геля отмалчивалась, съежившись в кресле, и наслаждалась самим духом этого дома, пропахшего травами. Ее тянуло закрыть глаза, и тогда легко было представить, что они спрятались от всего мира в избушке посреди леса, и за порогом начинается самая непроходимая чаща, поэтому бежать некуда. Да и не хочется…
«Хорошо бы действительно укрыться от всех в каком-нибудь дремучем лесу, – мечталось ей втайне. – И тогда не нужно было бы делать операцию… Какая разница, как я выгляжу, если вокруг одни звери? Они умеют любить и некрасивых. Завтракала бы лесной клубникой, жарила на обед грибы, на ужин щелкала орехи. Как было бы здорово! Вот только зимой как выжить? Может быть, научилась бы…»
Но Геля понимала, что изменить свою жизнь таким образом она не решится. Другое дело, когда за тебя все устраивает дядя…
* * *
Во время утреннего обхода Анатолий Михайлович пообещал:
– Сегодня ты увидишь себя.
– Вы… – У Гели сорвался голос.
Но Медведев, как всегда, догадался, что она хотела спросить:
– Сниму с тебя все эти блямбы, и посмотрим, что у нас получилось.
– А если…
Он грозно навис над ней – лохматый и огромный, настоящий медведь:
– Вы что, девушка, позволяете себе сомневаться в моих способностях?
Геля сбивчиво заторопилась:
– Нет-нет! Я просто…
– Трясусь от страха, – закончил хирург. Заложив руки за спину, он прошелся по палате, то и дело оглядываясь на девушку. – Вполне естественная реакция. Должен сказать тебе, что ты – молодец. Лицо в эти дни не трогала, под бинты заглянуть не пыталась, не то, что твоя подружка.
– Какая подружка? – не поняла Геля. У нее вообще не было подруг.
– С подбородком. Дарья Николаева.
– А, да мы только раз и поговорили… А как у нее все прошло?
Остановившись возле окна, Медведев скромно улыбнулся:
– Операция, естественно, блестяще. А вот период заживления затягивается, потому что у этой девушки очень шаловливые ручки. Так и норовят что-нибудь повредить.
Геля призналась:
– Если честно, меня тоже тянуло посмотреть, что там…
– Чистосердечное признание смягчает твою участь.
– Но я ни разу не заглянула!
– Потому что умница. – Его большая рука осторожно прошлась по ее макушке. – Послушная девочка. За это ты получишь награду.
Она указала пальцем на свое лицо, все еще скрытое бинтами:
– Вот это?
– А что может быть лучше? Красота открывает перед тобой новые горизонты. Перспективы, о которых ты раньше и не мечтала. Фигура у тебя отличная…
– Правда? – удивилась Геля.
Она, сгорбившись, сидела на заправленной постели, одетая в свой старенький халат, и не могла понять, как доктору удалось разглядеть в ней что-то особенное.
– Абсолютная! Параметры просто модельные, только роста, может, чуть-чуть не хватает, но я не удивлюсь, если тебя пригласят поработать в какое-нибудь агентство.
– О! – Она деланно рассмеялась. – Позировать фотографам? Ходить по подиуму? Это не для меня.
Снова остановившись, Анатолий Михайлович посмотрел на нее в упор:
– А что для тебя?
Геля растерялась:
– Я… Я не знаю…
– Но чем-то ты же планировала заняться в этой жизни?
– Да ничего я не планировала… Была одна мысль, но, по-моему, это нереально… Мама у меня на кафедре в пищевом институте работает. Не преподаватель, а так… Лаборант. Она хотела, чтоб я туда поступила. Даже поговорила уже с завкафедрой.
Медведев приподнял густые брови:
– О-о, ресторанный бизнес!
– Да нет… У них там кондитеров готовят.
Ухмыльнувшись, он одобрительно прищелкнул языком:
– Сладкая жизнь! Не то что у меня: режь да кромсай.
– Вы создаете красоту! – заспорила Геля. – Что может быть лучше?
– К сожалению, бывают и неудачи…
Ее рука невольно потянулась к лицу. Заметив это, Анатолий Михайлович остановил ее жестом:
– Нет-нет, с тобой все в порядке. Тут я не подкачал. Но каждый наш пациент должен отдавать себе отчет, что хирург все-таки не волшебник. А некоторые больные требуют слишком многого. Сорок лет с лица не уберешь. Десять – пожалуйста. Двадцать еще куда ни шло… Но сделать из старушки нимфетку – это невозможно.
Уже на пороге палаты он вспомнил:
– Да, кстати! Пусть тебя не разочаровывает, что кожа до сих пор остается все такой же воспаленной. Гематомы пока держатся. И заживление еще идет, и лазером тебя пока не пошлифовали. Ты пока смотри только на формы – носа, подбородка и глаз, запомнила? Хочешь, я дам тебе вуаль? У меня специально припасена такая шляпка с вуалью, не слишком густой, чтобы черты лица не скрывала, а кожу затушевывала. В первый раз посмотришь на себя через нее. Согласна?
Геля неуверенно согласилась:
– Хорошо. А когда меня лазером полечат?
– Не терпится? Вот сегодня все снимем, посмотрим, что и как, тогда и решим. – Подмигнув, Медведев вышел из палаты, оставив ощущение пустоты – он занимал много места, но для этого человека его было не жалко.
«Он здесь единственный, с кем хочется поговорить». – Вздохнув, Геля откинулась на подушку и через прорези в бинтах уставилась в потолок. Он находился так высоко, что в палате было достаточно воздуха, но все равно возникало ощущение духоты. Открывать окно Медведев не разрешал: «Еще не хватало, чтобы ты простуду здесь подцепила! Потом надышишься». Геля не спорила. Как можно спорить с волшебником, который дарит тебе новую жизнь?!
Со старой – она расставалась без сожаления, что там было хорошего? Только сестренка, а так – сплошной мрак. Как изощрялись одноклассники, когда Гелю вызывали к доске, и выкрикивали, демонстрируя высшую степень остроумия:
– Арыкова, ты подставку для носа взять забыла!
– Ой, у нее краснуха началась, мы все умрем!
– А это там твой ранец или чехол для шнобеля?
На контрольных они начинали улыбаться Геле:
– Ты уже решила? Лапонька, дай списать!
И она делилась своими знаниями, только ради того, чтобы не услышать в свой адрес еще какую-нибудь гадость. Ей так и не удалось научиться пропускать колкости мимо ушей. Каждая обида застывала в груди холодным комком, который Геля приносила домой, а потом сестренка отогревала ее своими ладошками…








