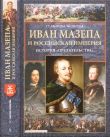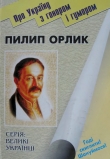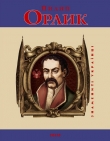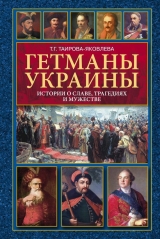
Текст книги "Гетманы Украины. Истории о славе, трагедиях и мужестве"
Автор книги: Татьяна Таирова-Яковлева
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Восставшие обвиняли Выговского в «измене» за его сношения с Речью Посполитой и Крымом, за то, что он не был «природным казаком», но «литвином»72, к тому же женатым на польской шляхтянке. Они посылали письма и депутации в Москву, доказывая свою верность царю и прося о свержении Выговского. Правда, они не могли привести никаких веских доказательств его вины, но Москва, как оказалось, с большой симпатией отнеслась к гетманской оппозиции. Царское правительство, всегда жестоко подавлявшее любые бунты на своей территории, неожиданно сочувственно отнеслось к Пушкарю и Барабашу. В Москве принимали их послов, выслушивали их жалобы и уговаривали обе стороны жить в мире.
Москва ждала и наблюдала. Сильная оппозиция мешала гетману вести независимую политику и должна была заставить его стать гораздо более уступчивым. Вероятно, к тому времени в Москве еще окончательно не определились, кого они в итоге предпочли бы видеть в качестве гетмана – Выговского или Пушкаря. С одной стороны, там, безусловно, хотели иметь гетманом человека, в чьей верности они были абсолютно уверены, но с другой – испытывали естественные опасение и недоверие к бунтарям.
Эта выжидательная политика провоцировала разрастание бунта. Восставшие были убеждены в поддержке Москвы, а позиция гетмана становилась день ото дня все более шаткой. В конечном счете ситуация вышла из-под контроля всех участников конфликта. В начале февраля 1658 года происходит первое открытое столкновение восставших с войсками Выговского, и территория Полтавского и Миргородского полков превращается в арену для братоубийственной войны. Гетманская власть держится на волоске, а Москва, успокоенная клятвенными заверениями восставших в своей верности, по-прежнему колеблется, чью сторону занять73.
Ситуацию могли изменить встреча и весьма откровенный разговор Выговского с Путивльским воеводой Н. Зюзиным, которые состоялись в январе 1658 года. Выговский жаловался на М. Стрынжу, обвинявшего его в измене. По его словам, эти наветы делаются «чтоб меня и иных полковников убить и выбрати им гетмана и полковников по своим нравам». Гетман клялся, что он «ничему желатель ни чести, ни богатству, толко желатель государевой милости». Опасаясь, что, приехав в Москву для «всякого исправления», он будет сослан в Сибирь, Выговский высказывал предложение, чтобы царь лично вместе с патриархом Никоном прибыл в Украину и таким образом положил бы конец всем смутам. Зюзин же уверял Выговского в царской милости и советовал гетману поехать в Москву, «видеть государевы очи» и получить благословение патриарха74. Гетман, похоже, поверил Зюзину и сказал: «Еду я ко государю отложа все, уверяясь на твою дружбу во всем, и будет мне что случися какое дурно и в том ты дашь ответ на страшном суде Христове»75.
Воодушевление и эмоциональный подъем, вызванные данным разговором, вскоре сменились у Выговского разочарованием. Зюзин попал в опалу и уже не мог служить посредником между гетманом и царем. Выговский даже написал Алексею Михайловичу письмо, прося простить «оклеветанного» Зюзина76. Но это могло только еще больше ухудшить и без того непростую ситуацию. Писал он и к Никону. Лишь в мае поступил холодный ответ, объясняющий, почему «великий государь положил свою царскую опалу» на Зюзина. Воевода стал жертвой начавшегося падения Никона (как и близкий и доверенный ему человек), и никакого отношения это к Выговскому не имело. Но на деле все получилось по-другому. Выговский испугался, в Москву не поехал и все меньше доверял русским.
В конце марта 1658 года запорожцы снова избирают Якова Барабаша кошевым. В то же время к Пушкарю присоединяется Миргородский полк, в котором новым полковником избирают Довгаля.
Весной 1658 года, в наиболее опасный для власти Выговского период, царское правительство предприняло попытку получить контроль над административным управлением гетманства, и отправило в города Белую Церковь, Корсунь, Нежин, Полтаву, Чернигов и Миргород своих воевод. Это было нарушением Переяславского договора 1654 года, согласно которому воевода должен был находиться только в Киеве. Выговский и его сторонники (особенно и. Богун) встретили воевод крайне неприязненно. Выговский раздраженно сетовал Скуратову на приезд воевод. Он-де просил ратных людей «и на Москве… тому ево писму бутто смеютца»77.
Политика гетмана и его единомышленников, сторонников «государственной» группировки78, коренным образом отличалась от политики Пушкаря и его последователей. Посланцы Пушкаря в Москву еще в декабре 1657 года заявляли: «...тому ради всею чернью и мещаня, чтоб царського величества воеводы у них в городех были, да не допускают де того полковники для своих корыстей»79. Впоследствии за передачу административного управления в руки воевод будет выступать гетман и. Брюховецкий, лидер «анархического» крыла. Закончится, правда, это очень плохо.
Теперь уже в какие-то моменты Выговский даже жалел о своем избрании гетманом. Так, в личном письме к Богуну в марте 1658 года, в разгар восстания Пушкаря, у него вырывается: «На кручину то старшинство мне осталось... Ах, Боже наш! Тем бесчинником веровать, а нам, вижу, и слова не дадут доброго за наши услуги верные! Да судит Творец всем!»80.
В этих условиях гетман вынужден предпринимать некие шаги, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность своих сторонников. Казацкие войска не были особенно надежными в условиях гражданской войны, и Выговский начинает переговоры с Крымом. В апреле за хорошее вознаграждение он получает в помощь сорок тысяч татарских войск. Швеция и Трансильвания физически не могли поддержать Украину, да и не были заинтересованы в этом. Россия предпочла роль стороннего наблюдателя событий. Потому-то Выговский и обратился к старому союзнику Хмельницкого. И такой шаг представляется логичным продолжением политики казацких гетманов, хотя появление татарских войск резко ухудшили и без того непростые отношения гетмана с Москвой.
Соединившись с татарами, в начале июня 1658 года Выговский подступил к Полтаве и запер там Пушкаря. Осада проходила довольно вяло, а тут еще на сторону восставших перешел старый соратник Хмельницкого полковник Филон Джеджалий. Еще в 1648 году он привел к Богдану реестровых казаков и, возможно, считал себя обойденным в притязаниях на булаву. Джеджалий условился с Пушкарем «живьем выдать Выговского»: ночью восставшие ударят по Выговскому, и в это время Джеджалий перейдет на их сторону. Так и произошло. В ночь на воскресенье Пушкарь сделал вылазку с большим отрядом, достигавшим тридцати тысяч, и стал красться по лесу, где располагалось войско Выговского. Джеджалий со своими казаками «дал улицу», т. е. освободил проход пушкаревцам, и они вместе направились к шатру Выговского.
Но, как оказалось, гетман был наготове. Он спал одетым и, услышав шум, бросился бежать, схватил коня и ускакал к татарам Карачбея, стоявшим в миле от них. Не застав Выговского в шатре, Пушкарь обвинил Джеджалия в измене и тут же своей рукой прямо в шатре Выговского убил его. Началось замешательство, темная ночь не позволяла разобрать, в кого стрелять. Носач и Богун, организовавшие оборону, проявили необыкновенную стойкость. На рассвете подоспели татары вместе с Выговским. Когда казаки увидели гетманский бунчук, они перешли в наступление и ударили по пушкаревцам. Те, оказавшись между двух огней, были разгромлены. В бою сам Пушкарь погиб, а его голову принесли Выговскому81.
После разгрома под Полтавой казаки и мещане попросили пощады, и желавший примирения Выговский даровал им жизнь. Но после его отъезда казаки и татары Полтаву «разграбили и выжгли, и людей многих татаровя поймали в полон...». Русский стольник В.П. Кикин сообщил об этом Выговскому: «и гетман... ездил в город Полтаву, сам козаков и татар выбивал, и посылал к Карашбею мурзе отобрать у татар полон, который в Полтаве татарова взяли»82. Впоследствии гетман простил и главного соратника Пушкаря С. Довгаля. А наказным полковником покоренного полтавского полка он назначил самого популярного в народе полковника Ивана Богуна.
Дальнейшие отношения Выговского с русскими развивались по законам комедии ошибок. Только эти ошибки обернулись трагедией для обеих сторон.
В середине июля второй зачинщик восстания, запорожец Яков Барабаш, приехал к воеводе Г.Г. Ромодановскому83. И сразу же распространяется слух, что Ромодановский Барабашу «булаву и бунчук дал и людем его твое государево жалованье». Барабаш принялся рассылать универсалы к казакам, «велит им к себе сбиратца»84. Слухи распространялись как снежный ком. Уже через неделю Киевский воевода В.Б. Шереметев сообщал царю, якобы во всех городах «по ту сторону Днепра страх и боязнь великая и из всех городов бегут з женами и з детьми боясь Барабаша… а сказывают что Барабаш збираетца с людми да... от тебя великого государя многие ратные люди» присланы для разоренья Украины85.
Разумеется, Выговский очень болезненно реагировал на появление таких «новостей». С крайним неудовольствием он говорил посланцу Шереметева Я. Крекшину, что Барабаш «пишет от себя универсалы свои во все городы и называет себя гетманом, а сказывает что бутто ему дана булава и бунчук». Гетман огорчался этими слухами, говорил «з болшим серцем и ножем себя хотел резать»86. Как назло, в это же время на Украину был прислан подьячный Я. Портомоин, обычный русский разведчик, в наказе ему приказывалось не отвечать казакам ни на какие вопросы, все записывать, а сам наказ выучить наизусть и с собой не брать87. Выговскому стало известно о цели приезда Портомоина. Того «привели на тюремный двор и поковали… в койданы»88.
Раздражение Выговского объяснялось тем, что русские воеводы по-прежнему не выдавали Якова Барабаша, который, пользуясь этим, разыгрывал из себя «гетмана». Между тем еще в мае Г.Г. Ромодановскому был дан наказ, в нем предписывалось выдать бунтовщиков89. Но Г.Г. Ромодановский и Киевский воевода В.Б. Шереметев выдавать Барабаша не спешили, чем, безусловно, еще больше подталкивали Выговского к конфликту. Именно Портомоину в 1658 году Выговский в гневе заявил, что если русские будут защищать бунтовщиков (последователей Пушкаря), «он де, гетман, молчать не будет; а к Киеву де пошлет он брата своего Данила с войском же и с татары, чтоб из Киева боярина и воевод выслать вон, а будет не вышлют, и ево в Киеве осадить»90.
Через неделю под Киевом действительно появились полковники Белоцерковский и. Кравченко, Брацлавский и. Сербин, Подольский О. Гоголь и Паволоцкий и. Богун. Они заявили, что ждут Данилу Выговского и татар, а «под Киев де они пришли… для договору всяких дел»91. Но когда под Киев подошел Данило Выговский, он немедленно начал штурм города92. Русский гарнизон штурм отбил, но последствия военного конфликта были необратимыми.
Между тем все пленники в один голос твердили, что, посылая Данилу к Киеву, гетман не велел ему биться, а в бой Данило вступил по собственной инициативе93. По их утверждениям, гетман приказал брату идти под Киев и требовать, чтобы Шереметев ушел в Москву, а если откажется – осадить. Данила же начал битву без указа94.
Скорее всего, Данила действительно штурмовал Киев самовольно. Возможно, ввиду нестабильного положения брата и будучи женатым на дочери Б. Хмельницкого, он сам начал задумываться о гетманской власти95. Тем временем этот эпизод стал еще одним обстоятельством, вынудившим и. Выговского заключить договор с Речью Посполитой.
Другой причиной были, безусловно, действия русских воевод, по-прежнему покровительствовавших мятежникам. В течение августа 1658 года Выговский трижды писал к Г.Г. Ромодановскому, чтобы тот отдал ему Барабаша96. Это сделано не было (несмотря на наличие у него, как уже упоминалось, царского указа), но в конце августа Барабаш под конвоем был отправлен из Белгорода в Киев к В.Б. Шереметеву97. По дороге в селе Гоголеве на них напал отряд казаков, Барабаша отбили и привезли к Выговскому.
Кошевого атамана под пыткой спрашивали, кто приказал ему назывался гетманом. Он ответил, что «ему о том повеленья великого государя… нет и грамот не присылано, гетманом назывался собою, хотел своего счастья отведать»98. Но на этом Барабаш не успокоился и заявил, что в Киев его послали не для выдачи гетману, а чтобы заманить в город Выговского, которого В.Б. Шереметев должен был схватить99. Издеваясь, Барабаш уверял Выговского, что у Ромодановского «ратных людей богато да... изготовлено сто тритцать (воевод), которым быти в городех Малые России»100. При всей нелепости этих утверждений Выговский не мог не злиться. Он не воспринимал здравый вопрос воеводы Кикина: разве можно верить «вору и изменнику», осужденному на смерть?101
Двойственная позиция русских воевод в ситуации с Пушкарем оттолкнула от них Выговского. На фоне полного взаимонепонимания и множества мелких конфликтов 16 сентября 1658 года под Гадячем был заключен договор с Речью Посполитой.
Соглашение являлось выдающимся образцом юридической мысли Украинского гетманства и совместным плодом усилий и. Выговского и Ю. Немирича (украинского магната и авантюриста). Оно включало в себя создание триединого государства Речи Посполитой в составе Польши, Великого княжества Литовского и новообразованного княжества Руського. В состав последнего должны были входить Брацлавское, Киевское и Черниговское воеводства. Предусматривался выпуск собственной монеты, создание сейма, уничтожение унии и предоставление широких привилегий православию, реестр казаков в шестьдесят тысяч человек, свободное избрание гетмана и даже сохранение союза с Москвой. Отдельные статьи оговаривали учреждение академий, школ, библиотек и типографий102.
В своем манифесте европейским державам Выговский подчеркивал, что, принимая протекцию царя в 1654 году, он и Хмельницкий думали только о том, «чтобы сохранить и приумножить для себя и потомства нашего свободу нашу».
Несмотря на заключение Гадячского договора, было бы большим преувеличением полагать, что поляки считали Выговского «своим». На самом деле они, мягко говоря, недолюбливали нового гетмана. Литовский магнат Павел Сапега называл его «восковой нос» и зло добавлял: «Пусть гордится, как хочет, своим счастьем; настанет время, когда он вынужден будет укротить свою непреодолимую злость, недоступную ни для каких убеждений»103. Беневский, старый знакомый Выговского и комиссар от Речи Посполитой на переговорах с Украиной, в своем отчете подчеркивал: «Я как не ручался за верность Выговского, так и теперь не ручаюсь, т. к. у него ложь, клятвопреступничество – постоянный принцип и письма его сами себе противоречат»104.
В свою очередь, не доверяя полякам, Выговский, несмотря на подписание Гадячского договора, продолжал свои контакты с русскими, предлагая собрать всеобщую раду для решения всех спорных вопросов и даже обещая отказаться от булавы «для успокоения междоусобия». Но гетман зачастую сам вредил своему положению. Так, в январе он забрал имущество Богдана Хмельницкого, настроив против себя Юрия. В ответ тот увез из Чигирина пушки и начал собирать вокруг себя оппозиционно настроенных казаков.
Между тем началось наступление русских войск на Левобережье под лозунгом наказания «изменника» Выговского. Цветущий край был опустошен «огнем и мечом». Кровавые бои между русскими и украинцами продолжались до февраля 1659 года, когда боярину и наместнику А.Н. Трубецкому был дан тайный наказ начать переговоры с Выговским на условиях Гадячского договора. Наказ этот лично редактировал царь Алексей Михайлович, придавая ему особое значение. В документе говорилось, что если в статьях польского короля Выговскому обещано гетманство и воеводство Киевское, а полковникам и старшине пожалованы шляхетство и имения в Украине, то договор следует составить на тех же условиях105.
Позиция Алексея Михайловича создавала весной 1659 года реальный шанс к примирению с Выговским. Дело в том, что к этому времени в Речи Посполитой уже наметилась яростная оппозиция Гадячскому договору в лице католического духовенства и польской шляхты, они не желали идти ни на какие уступки казакам. Выговский это знал, и если бы Трубецкой придерживался данного ему тайного наказа, союз мог быть возобновлен.
Однако русские воеводы предпочитали переговорам войну106. Они даже дали вождю радикальных элементов запорожскому кошевому атаману и. Беспалому титул гетмана Войска Запорожского, открыв трагическую череду «многогетманства» в украинской истории.
Между тем война шла с переменным успехом. В феврале Выговский взял Миргород, а в апреле его сторонники были осаждены в Конотопе. Семьдесят дней казаки отражали все штурмы. Не дождавшись помощи от поляков, на выручку к ним отправился сам гетман с казаками и нанятыми им татарами. Их силы достигали пятидесяти пяти тысяч человек107. Битва произошла 8 июля 1659 года под Конотопом. Выговский атаковал русские войска, а затем спешно отступил, имитируя бегство. Татары и казаки, сидевшие в засаде, ударили в тыл русским, началась паника. Казаки перекопали дорогу, разобрали мост и отрезали таким образом все пути к отступлению. А.Н. Трубецкой потерял тысячи убитыми, ранеными и взятыми в плен108.
Эта битва стала редким примером, где Выговский проявил личную храбрость (он всегда был больше дипломатом и политиком, чем воином и казаком). Находясь в гуще боя, Выговский был сброшен со своего коня Шелеста пушечным выстрелом109.
Но даже победа и заключенный после этого союз с ханом уже не могли спасти Выговского. Под влиянием польской общественности и сильного диктата Ватикана сейм в мае 1659 года принял Гадячский договор в более чем урезанном виде. Идея Княжества Руського и триединого государства вообще была убрана из текста, равно как и положение о сохранении союза с Москвой. Отменялись и ликвидация унии и целый ряд других важнейших для Украинского гетманства статей. Решение сейма стало крахом гетманства Выговского.
Сам он это хорошо понимал. Когда гетман получил от польского комиссара К. Перетятковича окончательный текст договора, утвержденного на сейме, он сказал: «Ты со смертью приехал и смерть мне привез! и сев на кровать, он заплакал». Поляк в своих записках описывает яркую и характерную сцену, разыгравшуюся после этого в доме Выговского. Статьи договора были зачитаны старшине. Прослушав их, отец гетмана и брат Данила «немедленно встали из-за стола и пошли в комнату, где была мать. Немного спустя, мать вышла из комнаты и сказала гетману: „Иван, мы поехали“. Выговский с гневом отвечал: „идите хоть к черту! Вы были бы рады меня в ложке воды утопить за то, что я из вас панов сделал“»110. Не ожидая обеда и не простившись с гетманом, они уехали.
После их отъезда гетман пригласил на обед старшину – некоторые были, а другие ушли. Перетяткович засвидетельствовал почтение Даниле и просил у него конвоя. Ответ был резкий и недоброжелательный: «„Я бы дал конвой, подарил бы тебе и коня доброго, если бы ты не стал из русина ляхом. Однако прошу на обед“». Сказав это, он ушел в церковь, так что я один остался в избе... Между тем из комнаты выходит жена Данилы, дочь Хмельницкого, и говорит: «„Не жди, лях, ни обеда, ни подвод“»111 и заперла за собой дверь. По мне будто мороз прошел. Быстро побежал я на квартиру и сел с прислугой на коней… поспешил в Корсунь...»112.
Так встретили окончательную редакцию Гадячского договора самые близкие к Выговскому люди. Не приходится удивляться тому, что остальные его соратники были крайне разочарованы и решили свергнуть своего лидера, дискредитированного принятием Гадячского договора. На созванной старшинской раде на реке Росаве в сентябре 1659 года казацкие старшины, поддерживавшие Выговского во время его гетманства, отдали булаву Юрию Хмельницкому.
Иван, который даже не присутствовал на раде, тяжело переживал крах. После приезда депутатов от войска поляки долго уговаривали Выговского добровольно отказаться от булавы. Потоцкий докладывал Яну Казимиру: «После продолжительных переговоров в пане гетмане Запорожском наконец взяло верх усердие к вашей королевской милости; он объявил, что для сохранения мира отдаст бунчук и булаву», после чего отправил их со своим братом Даниилом113. Там же на раде было дано обещание отпустить жену Выговского, остававшуюся в качестве заложницы в руках мятежной старшины.
Выговский опасался самого худшего. В своем письме к королю он заявлял, имея в виду старшин: «Сомневаюсь, чтоб они исполнили свои обещания»114. У него были серьезные основания сомневаться. Девятая статья заключенного вскоре Юрием Хмельницким с Москвой нового Переяславского договора требовала выдачи и. Выговского с семьей.
Лишившись булавы, Выговский присоединяется к отряду Андрея Потоцкого, именуя себя «великим коронным гетманом» – титул, который он присвоил по собственной инициативе и который не слишком соответствовал его реальному положению. Впрочем, у него оставались и вполне законные титулы – воеводы Киевского (согласно Гадячскому договору) – звание, пожалованное ему Речью Посполитой пожизненно, а также ранг сенатора (наконец-то с точки зрения поляков он стал формально ровней своей жене Стеткевич из сенаторского рода – но в каких обстоятельствах!).
В тяжелейший момент своей жизни, лишившись власти, богатства, не зная о судьбе собственной семьи, Выговский в очередной раз продемонстрировал недюжинные способности противостоять року. Он снова ведет себя не как прямолинейный военный, а как политик. Он очень быстро забывает обиду на бывших соратников и начинает новые контакты со старшинами, только что лишившими его булавы.
Кроме того, Выговский постоянно клянется в верности полякам и умоляет прислать коронные войска. Он, конечно, надеялся, опираясь на польскую силу привлечь к себе казацких полковников. Но главная причина была в том, что в Чигирине с отрядом поляков, всей артиллерией и запасом золота осталась горячо любимая супруга Выговского. Хотя ему и дали уверение за подписью нового гетмана Юрия Хмельницкого и старшин, что доставят Елену к нему под Котельню, Выговский по-прежнему в этом сомневался и желал вернуть жену с помощью польского оружия. В середине октября поляки из обоза под Котельной сообщали, что «Пани Воеводина Киевская сидит в Чигиринском замке, ее из Чигирина не выпускают, что пана воеводу очень волнует»115.
Трудно сказать, думал ли в тот период Выговский о возвращении своего гетманства. Возможно, он еще не успел отойти от пережитого разочарования и пока занимался только спасением собственной жены и имущества. Но при этом он оставался верен себе. Не слишком считаясь и советуясь со своими союзниками поляками, он принимал турецкого посла, вел переговоры с ханом. Независимое поведение Выговского даже в таких тяжелых для него условиях не могло не вызывать глухого раздражения у поляков. Они должны были особенно остро реагировать на обвинения Выговского в промедлении, учитывая собственную беспомощность. Ведь начавшаяся в коронном войске конфедерация сделала невозможными любые военные действия.
Станислав Беневский, главный эксперт по украинским делам среди поляков, описывая ситуацию, прямо говорил: «Парализованная отчизна, когда наиболее требовалось рук, тогда их и не имела, чем мы погубили Выговского…»116.
Устав ждать, Выговский решает перейти к решительным действиям. Двенадцатого ноября он написал коронному гетману Потоцкому: «Опасаясь, чтоб оборонительное Чигиринское войско, ослабленное осадою, не погибло, я отправляюсь… в степи, чтобы усилить гарнизон людьми и продовольствием, и вместе с тем спасти жену». Понимая, что может погибнуть, Выговский поручал заботам короля своих родителей и сына Евстафия, находившихся в Польше. Впрочем, даже решившись на крайность, Выговский не изменил свой вызывающий тон. Его просьбы звучат скорее как требования, которые не могли не злить Яна Казимира: «Довольно работал я и проливал своей крови за честь вашей королевской милости. А что возникло возмущение, то это не моя вина. Единственною причиною было то, что не скоро пришли вспомогательные войска вашей королевской милости…»117.
Наконец, во второй половине ноября польские войска и Выговский со своими «новобранцами» соединились под Хмельником, где вскоре произошло сражение с отрядом Киевского воеводы В.Б. Шереметева. По словам поляка, участника битвы, казаки проникли в лагерь к полякам и зажгли его. Русские начали наступать на этот сигнал, но сбились с пути, заблудившись в воде и болоте Буга118. Сражение длилось с обеда до сумерек. В результате поляков, «драгунов и возной челяди погибло до 400 человек, а Москвы с 4000»119. Несмотря на успех, А. Потоцкий приказал отступить, опасаясь прихода казаков, и поляки ушли к Ляховцу. После этого Потоцкий распустил свои войска на зимние квартиры на пять недель.
Выговский был крайне раздосадован и склонен винить поляков во всех своих неудачах. В письме к королю он горестно восклицал: «Здесь я теперь только жалкий изгнанник, потому что, бежав из Чигирина верхом, в одной сермяге, я не только лишился всего имущества, но и потерял любезную подругу жизни, не имея никакой надежды возвратить ее, потому что нет у меня никакого войска»120.
Но к его чести надо признать, что период апатии у бывшего гетмана длился недолго. Ему удалось связаться с ордой, и хан дал указ готовиться к войне по весенней траве. Выговский опять был полон энергии и оптимизма. Он тешил себя иллюзиями, что некоторые старшины перейдут на его сторону, как только он вступит на Украину во главе войска.
Выговский еще не догадывался, какие несчастья обрушатся на его голову через пару дней. Между тем в плен к русским войскам попали братья Выговского Василий, Юрий, илья и Данила. Пленение любимого брата Данилы стало страшным ударом для Ивана. Пикантность ситуации заключалась в том, что женой Данилы была Елена, родная сестра гетмана Юрия Хмельницкого и дочь Богдана. Ее сестра Степанида, бывшая замужем за Иваном Нечаем, попала в плен в Быхове, и, «имея в виду заслуги… отца и брата»121, воеводы повелели отменить смертную казнь и отпустить ее с детьми к брату122. Казнь и. Нечая была заменена ссылкой в Сибирь, а Данила умер по дороге в Москву от допросов с пристрастьем.
Мертвого Данилу Выговского привезли в Субботов. Как описывал очевидец, все тело его было порезано в куски кнутами, глаза выколоты и залиты серебром, уши сверлом вывернуты и тоже залиты серебром. Пальцы перерезаны. Бедра в куски по жилам разобраны. Когда тело увидела вдова, Елена Хмельницкая, то так о гроб ударилась, что рассекла себе голову. Прибежал Юрий Хмельницкий и, увидев тело, горько плакал. Сестра «великим кляла его проклятьем», и когда Юрий хотел войти к ней в избу, она запустила в него поленом123. Многие поляки со злорадством встретили известие о мученической смерти Данилы, который в свое время сжег Люблин124. А польский посол С. Беневский не замедлил обратиться к Юрию Хмельницкому с провокационными вопросами: «Почему же замучил человека? Не только жалость, но и позор всему войску прислать замученного зятя гетмана, славного и заслуженного человека, а вашей милости шурина»125.
Примерно в те же дни отряды Юрия Хмельницкого взяли Чигирин. Там нашли двести пушек, несколько тысяч центнеров пороха и несколько миллионов польских денег. Среди прочих сокровищ находилась и жена Выговского. Ее Юрий отправил в свое родовое имение Субботов.
Это были тяжелые удары для Выговского. Он лишился близких ему людей, в чьем присутствии он особенно нуждался в момент, когда старшина отвернулась от него. Потерял он и большую долю из накопленных за годы восстания Хмельницкого средств. В эти дни он пишет горькое письмо королю: «…крепость Чигиринская, со всею артиллериею, досталась неприятелю, а жена моя досталась со всем имуществом в руки Хмельниченка… я доказал свое усердие утратою избранного на всю жизнь друга…»126.
На какой-то момент Выговским опять овладело отчаяние, и в его письме к Пражмовскому вырвалась униженная мольба: «Покорно прошу вашу милость, моего милостливого пана и благодетеля, не дай мне погибнуть до конца, потому что я и то уже погиб совершенно, все потерял, будучи предан в жертву завистникам»127.
Но московские воеводы, желая отомстить Ивану Выговскому за его «измену», допустили серьезную ошибку, как некогда поляки по отношению к Богдану Хмельницкому. Они довели бывшего гетмана до крайности: убили брата и добивались выдачи его жены. Однако Выговского, несмотря на его отставку, было еще рано списывать со счетов. Поляки понимали это лучше и хотя терпеть его не могли и ожидали от него лишь всяких неприятностей, тем не менее, величали «воеводой киевским».
Юрий Хмельницкий тоже считал себя обиженным русскими и всячески затягивал выполнение их требования – не отсылал Елену Выговскую в Москву и сам туда не спешил.
Смерть Данилы еще больше подтолкнула Выговского к активным действиям. Похоже, теперь он одинаково ненавидел и поляков, и русских. Неудовлетворенный действиями польских войск, он старается привлечь на свою сторону Крым.
Весной 1660 года усилия Киевского воеводы начали наконец давать плоды. Хотя Крымский хан сам на Украину не пошел, но послал туда пятьдесят тысяч человек. Планы Выговского встать с татарами на границе с Валахией, равно как и сами эти переговоры, проводившиеся без всякой санкции или координации с поляками, не могли не вызвать их раздражения и опасения. О них с тревогой писали даже представители папского двора128. Выговскому приходилось оправдываться, что он собирался «до весны остановиться с Каябеем лагерем на границах Валахии», однако «завистливые люди» начали объяснять этот план превратно, и ему пришлось отступить129.
Все лето Выговский продолжал переписку с Крымом: ханом, великим конюшим Батыр-агой, подскарбием надворным Ахмет-агой, вождем будулацких войск Шабалат-агой, нурадин султаном, перекопским мурзой Карачбеем и визирем великих орд Сефер Газыагой. Один этот список наглядно демонстрирует масштаб контактов Выговского с татарами. Хан лично занимался розыском попавшей в полон жены писаря Юрия Хмельницкого Семена Глуховского, сестры Золоторенко, на которую Выговский надеялся выменять свою жену. Хан с сожалением сообщал ему в июле: «Бог есть свидетелем нашим, что в Кафе того лета поветреем умерла; когда б была жива, хотя б же было нам дать за нее 10 000 ефимков, учинили б мы на прошенье ваше для того самого, что есте нам много во всяком деле услуживали и много с нами в дружбе пребывали и ныне пребываете. Для лутчей вам подлинности то извещаем словом нашим ханским, что сей невесты живой нет»130.
В августе Выговский торжественно, в сопровождении большой свиты (в двести всадников), прибыл во Львов, где находился польский король и присягнул на воеводство киевское. Он теперь не только официально стал сенатором, но и значительно (неясно, каким путем) укрепил свое материальное положение. К полякам он привел четырнадцать хоругвей и двести драгунов общей численностью две тысячи человек, нанятых на собственные средства131.