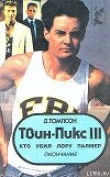Текст книги "Ячейка 402"
Автор книги: Татьяна Дагович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
3
Надоело подглядывать сквозь щёлочку, стоять у двери в спальню, где Лиля читала книгу с изображением глиняного бюста на обложке. Анна на цыпочках скользнула через прихожую в залу, горячей кожей прямо в разложенную на диване постель. Попала локтем на твёрдое – книга. Опять. Бедный Хайдеггер. На него снова легли и бумага, и бой часов, и холодные женские руки. Царапнули неровные ногти. Лиля обещала сделать ей маникюр завтра. Выпуклые предметы. Журнальный столик. Стул. Светлеющая простыня в цветочек. Анна опять писала, устроив книгу на подушке.
«А был ли немец по фамилии Хайдеггер? У Шопенгауэра интереснее фамилия, пока её выговоришь, можно уснуть, а здесь нужно начать читать, чтобы уснуть.
Я так чудно умею лгать. Прежде всего себе. Например: пару дней назад (или недель?) я писала, что, когда ходила в одиночку звонить родителям, я не знала, почему Лиля разоралась на меня. Ещё я якобы слышала в трубке длинные гудки. Ещё я якобы видела вокруг людей, которые казались мне странными. Удивительно, как я умею верить в то, что пишу!
На самом деле. Всё было так. Выйдя, я вызвала лифт, но он стоял. Я спустилась по лестнице. В подъезде были разбросаны бумажки, рваные вещи.
Я собиралась спросить у кого-нибудь, где почта, но на улице никого не было. Совсем. Я пыталась ощущать присутствие других людей, но их не было. Больше не было. По-моему, их не было нигде. В домах. В магазинах. Я вышла к базару – все жилмассивы устроены одинаково. Там было пусто. Прошлась по рядам. На прилавках лежало посиневшее мясо, в вёдрах гнили цветы. И мне стало так плохо, что я не могу описать. Я никогда не была особенно общительной, не любила людей вокруг, но их отсутствие – хуже смерти, много хуже смерти. (Любой из нас знает, что, когда он умрёт – его похоронят.) Я закрыла глаза, мне было так страшно. И я стала представлять себе людей. Их голоса. У меня не получалось, было тихо. В тот день было очень светло, так светло, что я не смогла принять тени столбов или ещё там что за людей.
Единственное, что я могла представить себе, – полые тела. Потому и были люди странными в моём восприятии. Тени воображения. Я нашла почту. Дверь была открыта, внутри пусто. Я подошла к стойке, выговорила название населённого пункта и телефон. Положила деньги. Прошла в третью кабинку. Аппараты были мёртвыми. Я набрала номер. Гудков не было. И не могло быть никаких гудков. Я стояла с трубкой ровно столько, сколько ждала бы ответа. Забрала свои, то есть Лилины деньги.
Возвращаясь, я продолжала представлять, что вокруг меня жизнь. У меня не было выхода – иначе мне пришлось бы. Я не знаю, дойти до первой попавшейся бельевой верёвки и повеситься. Мои воображаемые люди приближались видом к нормальным. К тому моменту, когда я его увидела.
Да, я его видела. Как бы мне хотелось не помнить, что я его видела! Его, это… Это не человек, точно. Как бы объяснить. Он был плотный. Даже более плотный, чем надо, как железо. Настоящий, не придуманный. Худой, высокий. Может, он не был выше нормального баскетболиста, но меня выше головы на две. И я не обрадовалась, нет. У меня схватило живот от ужаса. Теперь нельзя было сопротивляться правде – он шёл в пустоте, больше не было ничего и никого. А он был. Шёл так громко, равномерно. А я – как остальные, не больше, чем игра воображения. Тем не менее он меня видел. Но не трогал. Пока. Как охотник, оставляющий мелкую дичь на потом. Кто был он? Я побежала, меня тошнило от страха. Люди оборачивались на меня, но мне не было дела до их воображаемого удивления – я спасалась.
Самое смешное, что все эти дни я продолжала делать вид, что не знаю, кем меня пугает Лиля, что за вестники, ангелы уполномоченные-озабоченные поджидают нас снаружи.
Вечером я попросила Лилю похоронить меня, если я умру когда-нибудь. Она долго смеялась и взяла с меня такое же обещание. А когда я вернулась, мне хотелось обнимать, целовать её, трогать её руки и ноги, чтобы убедиться, что она есть. Хотя один человек – это всё равно отчаянно мало.
Я пишу, и всё равно чего-то недоговариваю. Да, тем же вечером Лиля научила меня, как скручивать провода телефонные на почте, чтобы звонить. (И шить научила…) Но я не знаю, с кем я говорю по телефону. С родителями? С ней? Сама с собой?
Правды я всё равно не смогу написать».
Закрыла лист в книге. Откинулась на подушку, вертя ручку в пальцах. В спальне заскрипело. Вертелась во сне Лиля. Анна закрыла глаза. Кровать в соседней комнате заскрипела опять. И опять. Сон слетел. Такое ощущение, что там весёлый секс. Век не поднимала. С кем это Лиля? Сама с собой? И что там в её книге такое?
Анна смотрела в темноту под веками и ждала, когда будут бить полночь часы на стене, чтобы увидеть карликов. Подметить момент, когда они выпрямляются из ковра. Очень длинное время – но часы не били. Даже не тикали.
У Лили стало тихо.
Скатилась и упала на пол ручка. Перевернулась и оказалась у стены. Случайно коснулась левым соском. От холода по телу побежали мурашки. Темнота под веками смягчилась, как растворённая акварель, посветлела, растеклась сумерками. Вспомнила…
Вспоминала:
…Сегодня.
В сумерках.
Взяв пошитые вещи, они вышли, спустились по лестнице. Бросали вороватые взгляды в щели дверей, в пустые квартиры.
– Куда мы пойдём? – спросила Анна.
– Так, пройдёмся по магазинам.
– Они не закрываются ещё?
– Если закроются – откроем. Кроме того, нам нужно отнести товар. – Лиля похлопала по большой сумке. Зазвенели ключи и зашелестела ткань.
Сумерки смыли все краски, только чёрные конусы тополей раскачивались в сером небе. Шаги гулко отдавались в тишине, других звуков не было. Анна бросила мимолётный взгляд на две пыльные машины у подъезда.
Дверца одной была закрыта неплотно, по ней ползла ржавчина. Холодный страх начал медленный подъём от ног к голове. Но тут она вспомнила о Сергее. Вспомнила неожиданно – утром она обещала себе, что скажет Лиле: то ли любит она Сергея, то ли хочет безумно. И страх уступил место приятной щекотке в венах. Походка стала лёгкой. Она дала добрым воспоминаниям бродить по телу, задерживаясь в некоторых уголках. Какая разница, о ком вспоминать?
Сколько ни шли Лилия и Анна, никто не встречался им, но в сумерках легче не обращать внимание на отсутствие людей. Особенно вдвоём. Анна даже привыкла к тишине, неподвижности. Они шли прямо по проезжей части – дороги были пусты. Но светофоры синхронно меняли цвета. Блестел огнями центр города.
Зашли в гигантский торговый комплекс. Лиля точно знала, куда направляется. Анна отстала.
– Чего ты там дожидаешься? Идём!
– Иди, я сейчас подойду!
Анна остановилась между столиками суши-бара и, закинув голову, посмотрела вверх, на сплетения лестниц в свете невидимых ламп, на стеклянный купол. Никто бы не смог представить, что здесь бывает тихо. Стиснула листья растения в кадке. Листья были упругими. Спустила руку к земле. Земля оказалась влажной.
А Лилия, занырнувшая в один из магазинов одежды, по-хозяйски рылась под прилавком, заглядывала в подсобное помещение. Пошитые платья вынимала – видимо, здесь был их пункт назначения. В руках держала десяток вешалок. Деловито прикрепляла ценники, несколько бирок пометила красными наклейками скидок. Развешивала по размерам. Анна зашла в магазинчик, но не помогала, только смотрела: Лиля раскраснелась от напряжения, волосы падали на щёки. Выглядела почти ребёнком, очень красивой девочкой. Анна думала, как приятно, наверное, быть такой изящной и лёгкой, такой милой. И до нытья сердца – хотелось, нужно было быть именно такой.
Потом Лиля занялась какими-то махинациями с кассовым аппаратом, с бумагами. Анна отвлеклась. В таких магазинах она, разумеется, никогда ничего не покупала, даже не заходила в них. Мысли о Сергее смешались с мыслями о надетых и снятых вещах, о дорогой одежде, о вседозволенности. Анна могла брать что угодно и примерять, не заходя в кабинки. Никто не видел. Накинула заманчивый пиджак. Разочаровалась.
– Ты плохо подбираешь размер! – заметила Лиля из своего угла. Анна обернулась, но ничего не сказала.
Внимание её привлекло свадебное платье. Сразу отвела глаза. Мужчины-то у неё нет, зачем ей свадебное платье? Манекен-невеста, без головы, стоял чуть поодаль, среди вечерних нарядов. Платье было шёлковое, гладкое. Внизу несколько складок. Узкий лиф, асимметричные полосы стразов. И ничего на плечах. Всё время видела его боковым зрением, непроизвольно. В целом платье было простым для свадебного – ни воланов, ни кружев, ни цветов. Чем больше Анна не смотрела на него, тем сильнее оно притягивало. Текучая белизна, совершенная форма.
Желание примерить свадебное платье переходило в нервный зуд, становилось сильнее желания любви с мужчиной, сильнее всех других желаний. Платье казалось идеальным, невозможным, и, чем меньше она, одиночка, имела на него прав, тем сильнее хотела его. Анна завидовала манекену, у которого вообще нет головы и рук, который никогда не выйдет замуж, но имеет право на платье. Она долго отворачивалась, предчувствуя снежный шелест материи в пальцах. Лиля возилась у витрины.
Анна быстро сняла с себя блузку и брюки, разулась, откинула в сторону. Лёгкое, платье не упало с манекена – легло на руку. Быстро, быстро… Так же легко легло на тело, сделав его стройным и длинным. Спину кольнуло – она просунула под ткань руку, отлепила квадратную белую наклеечку, стряхнула с пальца – прилипло. Застыла.
Медленно подошла к зеркалу. Распустила волосы. «Если бы ты был здесь, Серёжа, всё решилось бы в одну секунду».
Отражение гипнотизировало. Зрачки расширялись. Отражение было чудесным. Никогда раньше Анна не видела хорошего отражения. Напряжённая, серая, она не нравилась себе. Но сейчас отражение стало прекрасным, красивее Лили.
На скулах выступил румянец. Глаза блестели от слёз. Воздух в лёгких приобретал другие свойства. Чужая красота невесты, полное самопоглощение, свет лампы по зеркалу. Шёпот тканей в неподвижности. На волосах появился венок – уложила подкравшаяся на цыпочках Лиля. Зрачки стали ещё шире. Анна не могла оторваться от отражения, дышать без него.
Пока Анна стояла перед зеркалом, Лиля выбрала себе комплект хлопкового белья, уложила в сумочку, что-то нажала в кассовом аппарате. Сидя на полу, примерила несколько пар обуви. Вздохнула.
Вздох вывел Анну из оцепенения. Она вспомнила, что пора идти за тем, что в самом деле нужно, – за продуктами. Платье вернула на место и с честным облегчением натянула свои невзрачные брюки, отлепила и выкинула в урну прилипшую к ним наклейку с платья с пропечатанным «402», зацепила волосы, вернулась в свой организм, в своё существо, которое, кажется, едва не потеряла.
– Идём? – спросила Лиля.
– Всё? А деньги?
– Какие деньги! Не смеши меня.
Когда они выходили из магазина, на другом конце холла Анна заметила уборщицу. Обычная уборщица в синем халате катила тележку с ведром и моющими средствами в сторону туалетов. Глянула на Лилю, но та целенаправленно шла к продуктовому.
Аномальная тишина в продуктовом супермаркете. Взяли салаты, овощи, зубную пасту, порошок для ручной стирки, сыр, колбасу, икру, хлеб, замороженную рыбу, торт. Прошли мимо пустых касс.
Пакеты оказались тяжёлыми, однако Лиля предложила прогуляться по проспекту.
– Мы так редко бываем на воздухе.
Лиля учила её не оглядываться и не бояться. Анна не знала толком, чего бояться. Город светился огнями. «Может, взорвалась какая АЭС, и всех эвакуировали, – думала она. А мы остались. И скоро радиация начнёт брать своё. Вылезут волосы». Она сказала Лиле:
– Как-то пусто в городе. Странно, да, в такое время?
Лиля посмотрела на неё с иронией.
– Послушай… Так пусто, но люди как будто есть… Магазины полны продуктами, цветы политы. Фонари горят, в конце концов. А?
Лиля прыснула от смеха.
Хорошо, что они шли по тротуару, – по дороге пронеслось несколько машин. На большой скорости. Кабины были пусты.
Затерявшись (в толпе?), они шли, обменивались шутками, тыкали пальцами в витрины, обращали внимание на афиши, сворачивали на перекрёстках. Под фонарями кружила мошкара. Анна всюду носила с собой любовь к этому возлюбленному идиоту Сергею, как плод, о котором только мечтала. Мечтала.
…Прижалась к прикрытому обоями холодному бетону грудью, животом. Сергей должен быть здесь, даже если мысль о нём неприятна. Она ведь белела невестой, должна быть брачная ночь.
Звуки. Лиля то ли смеялась, то ли плакала в спальне. Тоскливым упоением Анна убаюкала себя, уснула. Шариковая ручка валялась под диваном.
* * *
Люди, снующие в аэропорту Амстердама, напоминали ему животных, которые стараются выглядеть не тем, чем они есть. Что свойственно природе – маскировка, мимикрия. Все эти причёски, походки, куртки, сумки, украшения, кивки, улыбки. Пройдя паспортный контроль, Шарван несколько минут наблюдал охоту пассажиров за багажом. Те, кто находил свои чемоданы раньше, вспыхивали радостью. Людей у ленты оставалось всё меньше, и выглядели они всё более подавленными. Даже здесь – первые и последние. Даже здесь лучше быть среди первых. Принимали за свои личные потребности потребность эволюции пробить тупик. Человека.
Шарван, обходившийся ручной кладью, стоял и смотрел. Аэропорт был живой иллюстрацией к словам Леонида Ивановича. Все слова шефа рано или поздно снабжаются живыми иллюстрациями, скрыться от которых можно только там, среди бело-зелёных квадратов. Когда-нибудь. Протёр очки и направился к выходу. Шипхол, знакомый, но чужой, как любой аэропорт.
Как бы то ни было, эта командировка ему куда приятнее, чем прежнее задание. Он взял такси, изъясняясь по-английски фразами, замороженными пару лет назад на вечное хранение и пользование. Рассеянно смотрел в окно, через осевшую на стекло изморось. Ветвились каналы. Над водой жались друг к другу худые дома с лебёдками. На чёрных машинах пронеслась мусульманская свадьба. И снова ржавые велосипеды. Здесь всегда что-то напоминало ему о детстве. Возможно, о детских снах. Поэтому Шарван терпеть не мог Амстердам. Но он здесь всего на часик-другой. Расплатившись, отпустил такси у гигантской бесплатной парковки на окраине.
Машины, трейлеры, фуры. Туда-сюда люди с сумками. Вздрагивал, разбирая в общем гомоне русские слова. Клеточками расставленный транспорт растекался в глазах. Это ему не мешало. Он уверенно шёл по узким дорожкам, не обращая внимания на маркировку – местонахождение нужного «Фольксвагена» среди посторонних «Фольксвагенов» определил бы с закрытыми глазами. Удивился, увидев, что машина зарегистрирована в Амстердаме, – в случае общения с полицейскими, это могло вызвать недоумение. По-голландски он не знал ни слова. Однако превышать скорость Шарван не собирался, пристёгивался он даже дома, так отчего ему общаться с полицией?
Машина по-утиному откликнулась, открылась. Он сел на чёрное сиденье, с удовольствием ощущая сухой воздух. Снял куртку, остался в клетчатой футболке. Немного помедлил, прежде чем завести двигатель. Вспомнил, как перед отъездом Люба сказала: «Возвращайся быстрее». Возвращаться на самом деле нужно быстрее, чтобы не упустить из-под контроля ситуацию на месте. Завёл мотор. Едва тронулся, понял, что багажник не пуст. Другого он не ожидал. Хотя случалось.
Долгий тоннель, как в описаниях клинической смерти. Направление А10. Мокрая дорога. По поведению машины – килограммов сорок в багажнике. Включил радио, но чужеродный лепет не прогонял мерзких мыслей о детстве.
…Первые его воспоминания были достаточно поздними. Кто знает, может, не так уж ошибались воспитатели, приписывавшие ему отставание в развитии. Примерно шестилетним он помнил себя в большой холодной спальне интерната. Кем были его родители и почему оставили его, Шарван не знал. Не интересовался. Слыхал, что «Шарван» – то ли грузинское, то ли армянское имя, тоже не интересовался. Люба, сама на четверть грузинка, кажется, угадывала в его голубых радужках и тёмно-русых волосах что-то такое. Не наше. В интернате это угадывали безошибочно. Но он не обижался на кличку Жопарван, находя её начисто лишённой изобретательности и юмора.
Имя Георгий нравилось ему не больше, но больше нравилось той женщине. Её, кстати, он помнил не очень хорошо. Совсем не хорошо. Ему было почти тринадцать, когда его усыновили. Этой женщине около сорока. Она очень хотела ребёнка, но боялась, что малыша не успеет вырастить. (Как в воду глядела.) Выбор, её и воспитателей, пал на Шарвана. Он был спокойный, более или менее здоровый, алкогольных и сексуальных опытов имел меньше, чем сверстники.
Женщина просила называть её мамой – он называл. Его всегда удивляло, какое важное значение придают люди словам. Имени в том числе: мачеха записала его Георгием и перевела на свою фамилию – Бжегский.
Мачеха старалась помогать Шарвану с домашними заданиями. Он справлялся сам, но делал вид, что её присутствие необходимо. Она показала его лучшему окулисту в городе и удостоверилась, что слабая успеваемость – следствие не тупости, а плохого зрения. С тех пор он носил очки и навёрстывал упущенное. Ходила с ним в кино, на фильмы, по её мнению, соответствующие интересам подростка. Водила в кафе. Вместе они съездили в Вильнюс и в Познань. Готовила завтраки, обеды из трёх блюд, ужины. Она любила его пылко, свое несбывшееся дитя.
Женщина была замужем. Муж её редко появлялся в их двухкомнатной квартире. Он относился к мальчику с ленивой симпатией, называл Шарваном.
Финансово женщина была обеспечена, и в этом обстоятельстве Шарван сразу нашёл перемену к лучшему. Но её ценности – дом, уют, душевное тепло – он перерос к тому времени, хотя и притворялся, будто ценит их, чтобы доставить ей удовольствие. В новом классе приживался тяжело.
Через три года после усыновления, ему как раз исполнилось шестнадцать, у мачехи нашли опухоль яичников. Она лежала в гинекологическом отделении. После операции худела и чернела. Он каждый день готовил протёртый суп и шёл к ней. Проходил между открытыми палатами, где лежали девушки, женщины, старухи, больше не стесняющиеся своих больных органов. К тошнотворному запаху гноя и лекарств он привык. В палате у женщины стоял телевизор, но её это мало радовало. Она говорила только о Шарване, о его будущем.
Шарван знал, что всегда, когда его самого нет в палате, там муж женщины. Днями и ночами. Но встречались они только на выходе. В одну такую встречу Шарван уловил во взгляде отчима ненависть – и испугался. После смерти женщины этот человек станет его опекуном. Мачеху он помнил только так: мягкий запах духов, завязанные в узел волосы и выпадающие пряди.
Потом жил один. Отчим появлялся в квартире не чаще, чем раньше. Приносил деньги – больше, чем Шарвану было нужно. У него не было ни девушки, ни близких друзей. Не было на кого тратить. С бытом справлялся. Окончил школу. Отчим не требовал называть его папой, да, в сущности, и отчимом не был – просто жизненным помощником. Шарван называл его по имени-отчеству – как и сейчас. Организовал Шарвану образование, потом взял на работу – с тех пор они стали говорить чаще, в том числе и о вещах отвлечённых, и стали лучше понимать друг друга. Общаться на равных, конечно, не могли, но дистанция, которую подразумевают отношения шеф – подчинённый, для обоих была комфортнее, чем близость вынужденного родства. И наконец пришло счастье: нашлись рядом люди, нашлась Любовь.
…На границе с Германией Шарван сбросил скорость. Проехал. С усмешкой подумал, что бы произошло, если бы кому-нибудь пришло в голову проверить его машину. Нет, ничего бы не случилось – запас спокойствия и упрямства у него достаточный. «Дворники» сметали водяные крапинки с лобового стекла. Удвоение гласных исчезло с дорожных указателей. Темнело. Он рассчитывал быть в Берлине к четырём-пяти утра.
Автострады больше не были освещены – Шарвану так казалось удобнее. Он хорошо ориентировался в темноте. Поначалу дорога была почти пустой, но постепенно заполнялась фурами, нарядными, как ёлочные игрушки. На большинстве из них были эмблемы знакомых торговых сетей или предприятий.
Первую остановку сделал через триста километров от Амстердама. Сходил в кусты. Нашёл предусмотрительно оставленные для него в машине булочки и термос с кофе. Ему не советовали заезжать в придорожные кафе.
Шарван с детства не пробовал курить, но ему хотелось постоять на воздухе, будто он курит. Опершись на влажно-пыльный капот, пил кофе и смотрел на дорогу, передёргивая плечами от прохлады. Отсюда, из пазухи съезда, автострада виделась по-другому. То, что за рулём было неторопливым общим движением, отсюда смотрелось гоном ярких светящихся частиц. Он едва успевал зафиксировать их взглядом. По другую сторону дороги цепочкой засвечивались и гасли красные огни ветрогенераторов. Допив кофе, поставил термос в «Фольксваген». Но передумал садиться. Обошёл машину, стал у багажника. Никого, кроме него, здесь не было. Он принципиально не должен был этого делать. Как и задумываться о грузе. Осторожно открыл багажник, поднял серебристую материю и мягкую прослойку.
Под ними, на тонком матрасе лежало тело, одетое в серебристую рубаху-кимоно. Если бы полиции или пограничным службам пришло в голову проверить машину, они бы приняли тело за труп и пришлось бы выбираться из проблемной ситуации. В крайнем случае выдав тело за настоящий труп.
Без его вмешательства полиции не удалось бы установить причины смерти. Потому что смерти не было. Тело пребывало в совершенном состоянии. Оно не было трупом. Оно никогда не было живым. Просто человеческое тело. Шарван догадывался: оно само по себе, не выросшее, никем не созданное. Догадывался: его не должно быть здесь. Но оно было нужно – так говорили Шарвану. Догадки исчезали в сознании, заглушённые другими, насущными мыслями.
Шарван заглянул в его лицо, полуприкрытое расчёсанными русыми волосами. В мелькающем свете чужих фар ему показалось, что на лице выражение то ли униженности, то ли обиды. Он знал, это – игра воображения: так же видим мы выражение лица у машины с глазами-фарами, у пятен на луне. Но кроме того показалась ему, что лицо это смутно знакомо.
Услышал за спиной шум замедляющихся шин. Легковушка съезжала на эту же площадку. Без суеты, Шарван укутал тело и закрыл багажник. Возиться в своём багажнике на остановке – естественная вещь. Оглянулся. Пузатый зелёный «Рено». Что забыл он здесь среди ночи, вдали от городов?
Выехал на трассу. Приспособился к скорости попутных машин. Они почти стояли относительно друг друга. Выбрал музыкальную станцию на радио. Опять вспомнил про шланг от душа. Это из-за тела. Дурное воспоминание.
Когда-то они с Настькой развлекались в ванне, наполнявшейся через шланг душа. Этот шланг будто намеревался выскочить под напором: кружился, отталкивался, отскакивал – вправо, влево, шумел, норовил повернуться вверх и полить потолок. Шарван, смеясь, прижимал шланг, а он снова выпрыгивал из руки. Ванна набралась, и Настька опустила кран. Сразу шланг прекратил вырываться и бессильно опустился на дно. Тогда Шарван понял смерть. Шланг был на месте и вода была на месте. Но уже не двигался.
Всё-таки жаль, что Настьки больше нет там. Она была самая контактная из русалок, и с ней можно было долго говорить, сколько же они проговорили за этот год… Он рассказывал о своей работе, только ей и можно было рассказывать, что получалось и что ему нравилось. Она слушала, внимательно глядя на него своими рыбьими глазами, никогда не перебивала, только прятала лицо в воду, если он говорил слишком долго, и отвечала, начиная с середины одной ей ведомого предложения, о своём – о фазах луны, хлорке в водопроводной воде, о невестах – любимая её тема, – и обрывала слова внезапно, на середине интонации. Он продолжал: возражал Леониду Ивановичу – как не умел возразить в личной беседе с шефом, планировал будущее – то с Любой, то там, у брата Леонида Ивановича, где уже ни первых, ни последних нет и все счастливы. И так несколько часов подряд.
Снова включил «дворники», хотя настоящий дождь так и не начался, всё брызгало на лобовое мокрой пылью. Со встречной резанули глаза дальним светом, Шарван зажмурился на долю секунды, сжал правой рукой руль и внезапно вспомнил, где видел лицо этого подростка. С тем же выражением. В интернате, в туалете, в мутном щербатом зеркале. В день усыновления. Засигналили, он нырнул в правый ряд, пропуская несущийся под двести микроавтобус. Ерунда, не было в интернатском туалете зеркал…
На самом деле ему нужно было не в Берлин. Тридцать километров от Потсдама.
Выключил радио, включил диск с радиоспектаклем по Тургеневу. Ему было всё равно, что слушать, лишь бы не уснуть от музыки, гула дороги и «дворников». Через четыре часа был на месте.
Туманный рассвет. Разъезжающиеся в стороны ворота. Он предпочитал не въезжать внутрь – связался по телефону, и институт выслал своего водителя. Его самого молчаливый немец подвёз до Лихтенберга, до вокзала. Кутался в куртку на перроне, среди бомжей и хиппи, ждал электричку.