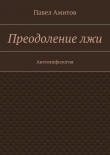Текст книги "Вериги любви"
Автор книги: Татьяна Батурина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Сегодня особенное утро: просыпаюсь с ощущением праздника. Праздник? Да вроде нет, разве что домашний тихий день. Но это теперь мне не в диковинку: натрудилась, набегалась, пора и преткновиться дома.
А состояние праздничное не угасает, наоборот, рассветает вместе с небом в окошке. Богу помолясь, тянусь по домашним утренним кругам – к кухонному столу, где лежат вчерашние черновики. Привычка работать в утлом приюте кухни под синим абажуром настольной лампы издавна сладка: теснее телу – просторнее душе.
Черновики разбросаны – значит, вчера не поставлена важная точка. И странно: вечером исписала многие листы бумаги, а утром в толк не возьму, о чем. Начинаю перечитывать – и внове переживаю. И будто не мной все изложено, а кем-то другим – вроде даже умным, даже несмешливым, захватившим неведомо как право по-своему вспоминать о моей жизни. Надо этого другого, этого самозваного соглядатая, изгнать вон, новоявленный свойственник мне ни к чему – ни к селу моему Житне-Горы, ни к родной Дар-Горе. Я уж как-нибудь сама: и мытьем, и катаньем, и ползком, и вприпрыжку – как жилось, так и опишу.
А тут и тайна праздника раскрывается. От исписанных, черканых-перечерканых воспоминаниями черновых листов исходит слабый аромат: цветов ли, трав ли, малины-смородины ли, а может, и ладан-винограда… Еще не веря, подношу черновики к лицу – благоухают! И никакой метафоры, никакого преувеличения: запах до того настоящий, что ощущаю каждую его струинку. Так в нечаянно составленном и оттого еще более прекрасном букете тонко чувствуется нектар каждого цветка. Может быть, в лиственном гербарии черновиков благоухают воспоминания самой природы, сохраняющей себя в моем сочинении среди цветов, трав, деревьев – рядом с родными людьми?
На празднование 60-летия Победы в Волгоград среди прочих гостей приехала московская поэтесса Людмила Шикина, теперь уже лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград». Эту премию мы получали вместе: Людмила Шикина, волгоградский поэт и мой друг Владимир Мавродиев и я. После приема у губернатора я повезла Людмилу в Пятиморск-на-Дону, где 2 февраля 1943 года победно завершилась Сталинградская битва.
Машина миновала центр Волгограда, покатила по зацарицынским улицам, повернула к Казанскому собору и двинулась через Яблочный поселок к повороту на ростовско-калачевскую трассу.
– Где это мы? – полюбопытствовала гостья.
– На Дар-Горе, скоро дом родительский проезжать будем.
– Дар-Гора? Отличное название для книги!
Надо же, а я и не замечала. С десятилетнего возраста жила здесь, столько событий житейских связано с Дар-Горой! А вот книгу сочинить ума не хватило.
Между тем о Дар-Горе написано много, история поселения и трагична, и радостна одновременно – по-русски. Место это высокое, а поскольку дареное, то и назвалась слобода естественно и просто: Дар-Горой. Кто же и кому подарил благодатную землю? Именно благодатную, плодородную, в которую палку сухую воткнешь – и та зацветет. А история такова.
В 1901 году в Царицыне случился большой пожар – может быть, самый страшный за всю историю города. Начался он с Волги, с деревянной барки-беляны, груженной лесом и смолою, вмиг перекинулся на другие суда, на береговые склады – и запылал город, вся Зацарицынская слобода почти полностью выгорела.
Обездоленных погорельцев своей державной милостью одарил Николай II, пожаловавший 10 000 рублей из царской казны на восстановление сгоревших улиц и застройку ближнегородских, то есть окраинных, земель.
Молодой газетный репортер, будущий замечательный русский писатель Александр Куприн рассказывал в очерке «Царицынское пожарище»: «Только по огромности опустевшей площади можно судить о небывалых размерах пожара. Сгорело все до последней соринки».
И в этот же год в жизни Царицына произошло великое событие: был заложен памятный камень на месте будущего строительства кафедрального собора Александра Невского. Теперь, спустя столетие, можно по-всякому комментировать оба события, но внутренне не выглядит ли эта история следующим образом: пожар явился великим испытанием для царицан, а закладка православного собора дана была Господом как надежда и помощь в преодолении этого испытания? Отстраивался после пожарища город, и, несмотря на нужду, горожане, в том числе и погорельцы, жертвовали на строительство храма.
К 1918 году, когда состоялось его освящение, следы страшного пожара 1901 года да еще двух, поменьше, случившихся в 1902 и 1903 годах, поросли травой забвения: Царицын размахнулся и вдоль Волги, и вширь. Эта уходящая вдаль степная ширь была отдана погорельцам на поселение. Так явилась миру Дар-Гора, обитатели которой вскоре прозвали ее солнечной, а дальние ее слободки – Яблочной, Садовой, Сосновой.
Раньше ведь, когда имена давали поселениям, в самый корень глядели, вот потому Дар-Гора такая – Садово-Яблочно-Сосновая! В общем, солнечная. В нашем доме каждое лето стекла были заклеены старыми газетами, которые мы с братом, зевая, вычитывали вдоль и поперек, а открытые настежь-насквозь балконная и входная двери едва упасали от знойной духоты. Но зато окрест росли деревья!
Мы переехали в новый восьмиквартирный дом на Дар-Горе на улице Ардатовской в 1957 году. Дом строили специально для нас и других семей сотрудников ветеринарной лаборатории: она располагалась рядом, всего в двадцати шагах. По другую сторону находился пустырь, которому вскоре предстояло превратиться в большой общий сад. Наконец-то мечта отца исполнилась: он завел на нашем участке огород, посадил яблоневые, вишневые и абрикосовые деревья, кусты малины, смородины, крыжовника. Но самой любимой была виноградная лоза. Постепенно она разрослась вдоль сада, оплела беседку и стала рожать темные терпкие гроздья: виноград оказался винным.
Воды для сада-огорода поначалу хватало: окрест дома находились три пруда – один ближе, другой подальше, третий и вовсе через дорогу, вдобавок в каждом дворе Яблочного поселка – а мы жили на самом его верху – еще в старые времена были вырыты колодцы. Но, поскольку садов и огородов на Дар-Горе становилось все больше, воды оставалось все меньше, и даже отведенная на нашу окраину нитка от городского водовода мало помогала: воду для полива можно было брать только ночью, в определенные часы, и то текла она тоненькой, зябкой струйкой.
Пуглива утренняя мгла,
Как сон, в котором я была.
Взгляну в окно – уже синё,
И синим кажется белье,
Летят по ветру рукава,
И синим светится трава
У бочки с прелою водой,
С неутонувшею звездой.
Сегодня бочку обварю,
Чтоб не рассохлась к сентябрю.
В ней будет новая вода
И – надо ж! – новая звезда.
И все-таки сад вырос. И в нашем дворе, как и в Житне-Горах, варили варенье, сушили яблоки и абрикосы. В хорошие годы отец ставил вино, а уж в умении солить огурцы и помидоры ему не было равных. Особенно удавались помидоры – с укропом и вишневым листом. Да и капуста квашеная ох какой сладкой казалась зимой! Конечно, своего огорода только на то и хватало, чтобы овощей поесть в сезон, а на засолку брали с базара.
Кто знает теперь из нынешних молодых, сколько что стоило? Можно сказать, люди даром отдавали овощи и фрукты: арбузы и капуста шли по 4 копейки за килограмм, помидоры – за 10, яблоки – за 12, картошка та подороже: по 16 копеек. Ящиками и мешками брали! Правда, тогда цена копейке другая была, тогда перед русской копейкой заморские центы приседали. А урожаи были – свет кормили! Арбузы, конечно, лучшие везли в город из Быково, яблоки – из Паньшино, а за краснослободскими помидорами аж с Севера купцы приезжали, да в очередь! Нашу Волгоградскую область называли до перестроечной катастрофы Всесоюзным огородом. А теперь Туреччина везет в нищую Россию свой безвкусный огородный товар и – ничего, утираемся, едим и спасибо говорим. Без пушек нас взяли, за здорово живешь. Что с нами стало, со всей нашей жизнью?
Исчезли старинные Лапшинский и Федоровский сады, перемолоты бульдозерами по окраинам сосняки и березовые рощи, ушла-пропала Бирючья балка, а на месте ценнейших посадок дендросада бывшего научного института ВНИАЛМИ высятся частные коттеджи, строится огромный торговый супермаркет. Везде «новорусские» топоры погуляли, по всей нашей надоевшей кому-то русской старине. И продолжают гулять. Доколе? Эх! И сама знаю, что вопрос бестолковый.
Отец часто уезжал по делам в Москву. Бывало, он только собирается, а мы уже заранее делим московскую добычу: шоколадные конфеты, диковинное печенье в твердых коробках и – о, счастье! – оранжевые апельсины с черными овальными наклеечками на каждом. Апельсины из Марокко! Наклеечки мы с братом собирали: у кого меньше, тот, например, всю обувь моет целую неделю. Я так любила апельсины, что даже новому платью или туфлям радовалась меньше. Кстати, апельсины отец привозил не только нам, но и соседям. Да, был такой в детстве праздник: апельсины из Марокко.
Как же я радовалась позже опубликованной в журнале «Юность» повести Василия Аксенова «Апельсины из Марокко» – из-за названия! Казалось, я соседствую с диковинной сказкой, да что там соседствую – я сама в ней участвую… Сказкой была Москва.
Родители возили нас в столицу несколько раз, и теперь я понимаю: Москва должна начинаться у каждого в детстве. Были мы и в Ленинграде, и в Севастополе, и в Сочи, и в Киеве. Мама считала, что путешествия воспитывают любовь к родине. Мамочка, родная! Ты сама – наша любовь, наша стена.
Гляжу на осень, листья не срывая,
Гляжу, как не глядела отродясь!
А ты уходишь в дым, лицо скрывая,
Слезы незваной, видно, устыдясь.
Осенняя?
И верно, золотая
Слеза украсит розу на платке,
Когда, его прорешины латая,
Слезу смахнешь как будто налегке.
Платок не древний, но уже не новый –
Послевоенный, редкий, прожитой,
Запорошенный колкою половой,
Изношенный с великой простотой.
Но лишь накинешь – молодая сила
Из каждой ветхой ниточки видна!
Ах, матушка,
Ах, мамушка,
Россия!
Держава колыбельная…
Стена!
Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного в Москве… Эрмитаж, Петергоф, Царское Село, Александро-Невская лавра в Ленинграде… Ботанический сад в Сочи, озеро Рица и Черное море… Боевые корабли в Севастополе… Киевский Крещатик и Киево-Печерская лавра… А сколько подробностей, сколько переживаний! А ведь мама болела, часами отлеживалась после всяких походов и поездок. Зато теперь, куда ни еду, все мать с отцом вспоминаю, и само их невидимое присутствие защищает. Все-таки быть рядом с родными людьми – завещанное Богом счастье.
Я никогда не расставалась с куклами, в поездках – тоже. Но всех моих любимиц взять было невозможно, и всякий раз со мной ехала очередная избранница, которой полагались платья, башмачки, шляпки, чашки, ложки, столик, кроватка… Отец хватался за голову, кричал, что вещей и так много, что нести игрушки я буду сама, но мама, понимающая абсолютно все, укладывала кукольное приданое в отдельную сумку, сумку – в чемодан… А чемодан нес отец. Я же шествовала с куклой, крепко-крепко держась за маму.
– Да не висни ты на мне! – и мама отнимала немеющую от моей тяжести руку. Я все равно висла, а как же иначе? Она ведь мама.
Уже будучи взрослой и замужней, я тяжело заболела, и меня направили в Москву, в клинику для космонавтов имени Курчатова – говорили, лучшую – для обследования. Стояла золотая осень, и я, несмотря на всякие огорчительные обстоятельства своего пребывания в Москве, гуляла по больничному парку, сочиняла стихи, а по ночам перепечатывала их на старенькой машинке в комнате старшей медсестры, мне разрешали. Но было все же очень себя жалко, болезную, и я писала домой каждый день.
И вдруг приехала мама, привезла домашнее варенье и пирог от тети Павы, больше ничего, у нее в руках и чемодана-то не было. Мама рассказала, как шла мимо вокзала, думала обо мне, с этими думами и вареньем пришла к сестре Павлине… Как потом они вдвоем поспешали на вокзал, к поезду, мама села без билета в ближайший вагон, и проводница ее не выпроводила, даже место подыскала на нижней полке. Так она, моя дорогая матушка, и оказалась в Москве – в самый свой последний раз.
Я уже ведала про свой диагноз, суливший летальный исход лет через пятнадцать. Конечно, не от врачей знала: ввиду больничного ремонта пациенток нескольких палат разместили временно в ординаторской, а там стояли шкафы с медицинской литературой. Их, правда, завесили простынями, да что толку: по вечерам мы читали про свои болезни. Так я и узнала все о себе, рассказала маме, она ведь врач, знает, как спастись.
Мама не знала, уехала в слезах, правда, спросила меня, но так, как будто вовсе не меня:
– Может быть, это ошибка?
И я, гуляя после расставания с матушкой по парку, размышляла уже спокойно, что же теперь делать. Совершенно для себя неожиданно подумала: «Ангел мой, помоги! Ведь я еще не стала поэтом!» Я даже назвала Ангела «зеленоглазеньким», как о нем поет в своей песне Окуджава…
Давно это было, в 70-х годах, а я продолжаю рассказ еще о более далеких, первых летах нашего бытия в восьмиквартирном доме на улице Ардатовской, позже – Неждановой. В квартире напротив жили Поповы: Иван Андреевич и Александра Ивановна с дочерьми Верой и Леной. Это были великие труженики: дом, огород – всегда Поповы рядышком, дружненько, гуськом. Да и другие соседи колготились не меньше. Яблоки родились самые сладкие у Поповых, самая сочная вишня – у нас, а вот цветами славились Тарабрины.
Отец и Иван Андреевич часами рассуждали о привоях и удобрениях, иногда бражничали в саду с устатку. Очень редкая по тому времени отцовская книжка по садоводству, которая из рук в руки переходила по всему дому, долго хранилась в моей библиотеке, а вот где она теперь – не ведаю.
Где теперь песни, которые пел отец в застольях? Витают они, невидимые, над нашим домом, словно птицы, отпущенные на волю, но не умеющие жить без дома. Иногда какая-нибудь из них садится мне на плечо, и я начинаю потихоньку напевать. Это может случиться где угодно, и я знаю: отец поет вместе со мной.
Иногда наши песни подхватывают другие люди. Так было недавно в Лазаревском, где собрались на праздник украинской культуры украинцы, живущие в России. На трапезе, как водится, запели – ох, как же хорошо! И я ничуть не удивилась, когда почувствовала на своем плече певчую птицу. Поклонилась я тогда собравшимся и попросила спеть в память об отце «Дывлюсь я на нэбо». Запели, да так, что слышно было и в Украине! Я знаю об этом потому, что вдруг через несколько дней позвонила из Житне-Гор Валя Редзюк – просто так, по-родственному, позвала в гости, рассказала о житье-бытье. Стало быть, птица та и до Житне-Гор долетела, потому что Валя сказала на прощанье:
– Заспиваемо!
В каждой семье нашего дома росли дети: Вера и Лена Поповы, Толя, Таня, Валя и Гера Тарабрины, Лариса и Женя Якушенко, Саша и Лена Цирикидзе и мы с братом. У нас был общий дом, общий двор, общий сарай, общий сад с общей беседкой, общая скамейка у ворот, где очень любили сумерничать наши общие бабушки.
Мария Гавриловна и Мария Артемовна даже летом носили валенки. Однажды я спросила:
– Что, холодно?
– Холодно, холодно…
– Да ведь жара!
– А нам морозно…
Лавочка эта общая, на которой бабушки сиживали, до сих пор жива, не рассыпалась в пух и прах, только еще больше притулилась к забору. Теперь она пустует.
Школа тоже была одна на всех – 14-я, лишь Лена и Вера Поповы учились в 53-й. Может, оттого, что держались по этой причине особняком, они были, не в пример остальным, круглыми отличницами, а Вера даже стала лауреатом Государственной премии России. Это было в последний год правления Ельцина, а упоминаю я об этом потому, что на приеме в Кремле по случаю вручения премии Ельцин поцеловал нашей Верочке руку.
Летом она с семьей приехала из своего Покрова к родителям, мы сели в саду на скамеечку и поговорили.
– Я смотрю на детей и понимаю, что Россия сильна своим крепким семенем. Потому что дети рождаются с хорошей душой. Потом, конечно, обрушивается на них поток грязи жизненной…
И Вера продолжала:
– А вот наше послевоенное бедное время дало нам много света. Органически передавалось священное отношение к земле, мы болеем ею… Я до сих пор не могу пройти спокойно мимо стариков-нищих, сердце сжимается. Их столько сейчас в России! Каждая встреча с ними оборачивается слезами, потому что всем подать невозможно, а не подать – тоже невозможно.
– Поди, слезы льешь все время по прошлому?
– А ты как думаешь? Прошлое надо любить, это наши предки, наши корни. Я не понимаю, как можно жить без корней?
– Скажи, а ты предков чувствуешь?
– Да, и это почти мистика. Когда я проезжаю Филоново, где у меня бабушка с дедушкой похоронены, я всегда просыпаюсь в пять часов утра. Ни разу не было, чтобы не проснулась. И в этот раз тоже. Вроде устала, ремонт дома делала, три дня не спала, радовалась, что высплюсь в поезде, упала на полку, уснула. Вдруг просыпаюсь и сама себе удивляюсь, почему я проснулась? Неужели опять Филоново? Смотрю – действительно, Филоново!
– Ангел-хранитель напоминает душе о святом, взывает к душе…
– Да, по-моему, люди, которые теряют связь с прошлым, значительно беднее, им тяжелее жить, наверное.
– Вера, как же ты стала лауреатом Госпремии?
– Сама не знаю. Единственное мое каждодневное правило – все делать хорошо, а плохо само получится.
Вера, что называется, пошла по стопам своих родителей. Закончила Московскую ветеринарную академию, во время учебы определилась и решила заняться вирусологией. Диплом защитила у знаменитого профессора Свет-Молдавского в институте онкологии на Каширском шоссе. Начинала изучать проблему лечения рака повышенными температурами. Но распределилась после учебы в Покров, в центр вирусологии. И опять встретилась со знаменитостью – с профессором Сергеевым, который стал ее научным руководителем.
– Вера, а все же: как премию заработала?
– Работать было прежде всего интересно, а то, что интересно, то перспективно.
– А как работа называлась?
– Ну, это для тебя будет скучно!
– Совсем нет! Хотя к стихам вирусологию не приравнять…
Ее работа называлась «Разработка средств диагностики и специфической профилактики против классической чумы свиней». Это заболевание первой группы опасности, и, конечно, учитывая большую территорию России, чума свиней может наделать больших бед, особенно среди дикой фауны, среди кабанов, там существует постоянные очаги этой болезни.
– Для человека это опасно?
– Нет, но чума свиней наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. И такие страны, как Америка или Голландия, сначала безуспешно потратили значительные средства на искоренение болезни, а потом вырезали все поголовье, сразу.
Вера работала не одна, и поэтому, может быть, всего за десять лет удалось разработать диагностику и найти способы профилактики чумы и для домашних свиней, и для живой природы. Созданы очень хорошие препараты, которые уже закупает у нас заграница.
– Взялась, одним словом, за проблему по-мужски?
– По-моему, по-мужски у нас нынче все женщины работают!
– Это да…
В Кремле Ельцин действительно Вере поцеловал руку, а на фуршете сказал ученым:
– Государственная премия вручается однажды в году, награждаемых человек триста пятьдесят-триста семьдесят, но вас мы решили наградить отдельно: и потому, что у меня к вам особое отношение, и потому, что работа у вас такая – уникальная! Благодарю вас.
Я смотрела пленку с записью: Вера со слишком прямой (прямо-таки деревянной!) спиной, на высоких каблучищах, в лице – ни кровинки. Впрочем, она всегда была бледная. Ученая.
Что еще о ней рассказать? Она счастлива, но трудным счастьем. Первый ребенок у Веры родился больным, она попросила у мужа развода, не хотела быть обузой. Сколько усилий предпринял Владимир, чтобы, может быть, и психику Веры поддержать, и вернуть ее к жизни! Ребенок стал их общим счастьем, плохих ведь детей не бывает.
Школа наша находилась у самого дар-горского базара. Дорога казалась долгой, особенно зимой или в распутицу: ходили закоулками, где тротуаров сроду не бывало, а снега и грязи – вдоволь. В школьной раздевалке длинными рядами стояли валенки в калошах и резиновые сапоги, и после уроков вечно недовольная тетя Мотя долго держала нас в очереди, придирчиво доглядывая, в свои ли впрягаемся сапоги или валенки.
Обувь на нас, по выражению мамы, горела.
– Не напасешься, – жаловалась она соседкам, – у других дети как дети, а мои гойды какие-то!
А как было не гойдать по канавам да колдобинам, по садам чужим да огородам! Еще и в походы ходили – далеко в степь, за кладбище. В те времена там росли тюльпаны. Сейчас, может, где и попадутся случайно, а ведь в детстве тюльпанов было много. Да и позже, когда я уже с маленьким сыном ходила гулять в степь, они желтели и алели и справа, и слева, и далеко впереди, то появляясь совсем рядом, то прячась от нас – словно играли.
Написала:
Напрасно ль я в страданиях вострила слух и зрение?
Не мне ли нынче выпало без выспренних затей
По высшему велению, по своему хотению,
Смеясь, следить за играми тюльпанов и детей?
И в голову прийти не могло, что, может быть, мелькая по сторонам, тюльпаны отводили нас от гибельных мест, ведь не только ржавые стреляные гильзы и патроны хранила послевоенная даргорская земля, а и снаряды целые, и – вдруг! – мины… Находили же мы в детстве и ремни с пряжками армейскими, и гильзы, и даже кости, думали: может, человеческие? Играли в войну – почти настоящую, потому что окопы были самыми настоящими, ружья, правда, деревянные, братнего изготовления. Родителям ничего не рассказывали, понимали: больше в степь не пустят.
Война была совсем рядом: что ни день – военные вывозили за город неразорвавшиеся бомбы и снаряды, взрывали их вдали от жилья. Одна такая бомба долгое время тупо торчала, чуть накренясь, из земли недалеко от нашей школы. Вокруг – дома, люди, а бомба – торчит. Говорили, что она неопасная уже, пустая… А я помню ее гладкие черные бока, на которых – ни ржавинки. Пустая? Как знать… Но торчала долго.
Однажды я увидела, что некрасива, у других девчонок – талии и ноги, у меня же – ни того ни другого. А ведь в совсем маленьком детстве мечтала быть балериной, даже снилась себе белоснежной, летучей. Вертелась перед зеркалом: толстая! Пожаловалась матери:
– Почему я такая?
Матушка засмеялась:
– Рано тебе красоваться! Знаешь ведь про гадкого утенка?
Сказку Андерсена я читала, но до сей поры себя с ней не соотносила.
– Но это же сказка, мама!
– Ну, спортом займись, скорее вырастешь.
В спортивную секцию попроситься было боязно, к тому же я не знала, в какую именно. Придумала ходить в спортзал в одиночку: он никогда не закрывался, и находилось время между школьными занятиями и вечерними тренировками, когда здесь никого не было.
Помню, что полы в зале всегда были дочиста вымыты после школьного дня, и эта свежесть зеленого цвета (почему-то красили полы зеленой краской) давала мне ощущение праздника. Я качалась на кольцах, сторожко ступала-ползала по бревну, подтягивалась на брусьях. Но больше всего мне нравилось танцевать, изобретая всякие прыжки и повороты.
Во время такого самодельного танца меня увидел учитель физкультуры Юрий Яковлевич Шерстобитов:
– Ты что здесь делаешь одна?
– Только маме не говорите! Она думает, я в секцию хожу…
– А почему же не ходишь?
Я молчала. Учитель догадался:
– Стесняешься? Ну, ладно, погоди, пойду переоденусь.
Его кабинет с фанерными стенами находился рядом, и вскоре учитель появился в необыкновенно красивом спортивном костюме: синем, с яркими белыми полосками. Ведь Юрий Яковлевич когда-то был чемпионом России по гимнастике, костюм оттуда, из чемпионской замечательной жизни.
– Ну, давай побегаем! – и Юрий Яковлевич легко побежал по кругу, я за ним в своих широких сатиновых шароварах и резиновых тапочках.
Так началась моя гимнастика. У меня появилась форма: трико, чешки, узкие маечки и трусики, но главное – на занятиях все получалось! И вскоре Юрий Яковлевич отвел меня в гимнастическую школу к тренеру Владимиру Ивановичу Скале. О, эти изматывающие, эти любимые тренировки! Ничем другим я уже не могла жить, только гимнастикой.
Разве забудется день, когда я ступила на огромный ковер гимнастического зала в институте физкультуры? Заиграла музыка, и я побежала, полетела, закружилась в вольных упражнениях! Это были первые в моей жизни спортивные соревнования. Потом они повторялись еще и еще, и вскоре я была второразрядницей, стала готовиться к сдаче перворазрядных нормативов, даже была чемпионкой области, но с гимнастикой все же пришлось расстаться, и вот почему.
Во-первых, со всего маху упала на бревно, было так больно и так зашлось дыхание, что показалось – умираю. Появился страх, тренировки становились мучительными. Во-вторых, из-за неуемной приверженности к чтению у меня развилась близорукость, «подарившая» очки. «Очи ясные», – хихикала подружка Нина. Я же была в отчаянии: очкариков презирали, да и красивой теперь точно не быть…
Однажды Юрий Яковлевич позвал к себе в кабинет и показал записку от Скалы, в которой кроме всего прочего была фраза: «Обрати внимание на Таню Бойко, эта может быть хорошей гимнасткой, верни ее в школу».
– Не вернешься? – спросил учитель.
– Но я не могу, Юрий Яковлевич! Правда не могу. И мама не разрешает.
– Ну, раз мама не разрешает… А жаль.
Мне очень понравилось, как он это сказал, – словно похвалил.
Лучшие ученики переписывались с иностранными школьниками. Директор сам назначал, кто будет «дружить» с Венгрией, с Чехословакией, с Румынией. Мне такое счастье не светило, я ведь не была круглой отличницей, как когда-то в 56-й школе. А переписываться очень хотелось! Немногие счастливчики хвалились почтовыми марками, значками, открытками и прочими яркими сувенирами из заграницы, простые же смертные томились завистью. Я в то время начала собирать марки, заграничные адреса были просто необходимы! Но где их взять? Да не зря же говорится: голь на выдумки хитра.
Сочинила письма в Пекин, Будапешт, Бухарест, Прагу и Софию и послала их по придуманным адресам, например: «КНР, Пекин, школа № 14». Марок налепила побольше: все же заграница! Наверное, поэтому три письма – в Пекин, Прагу и Будапешт – дошли, и, на удивление, скоро, я получила ответные послания. Не в пример нашим иностранные конверты были изнутри на разноцветных бумажных подкладках, а сами письма – на прекрасной блестящей бумаге.
Ни имен, ни адресов, ни писем – ничего этого не сохранилось с тех детских лет, но какое-то время в доме еще находились разные безделушки вроде брелоков и переводных картинок, потом и они пропали. Зато у меня появилось несколько альбомов заграничных почтовых марок, которые перекочевали потом в Волжский к моим племянникам Игорю и Олегу.
Дольше других в иностранных друзьях оставался китайский мальчик, старшеклассник из Пекина. Но однажды он прислал короткую записку, в которой извещал о прекращении переписки. В их стране, писал мальчик, начался «большой экономический скачок», и теперь все свои силы он будет отдавать только родине, для чего переезжает в деревню – жить и работать в трудовой коммуне. Вероятно, сообщал далее мальчик, когда-нибудь он снова сможет мне написать, но не теперь: теперь главное – «большой скачок». На этом наша переписка закончилась.
Жаль, что ни одного письма я не сохранила ни от девочек из Чехословакии и Венгрии, ни от мальчика из Китая. Но что я могла понимать тогда, шестиклассница провинциальной русской школы? Разве знала я, что жизнь не бесконечна и надо хранить каждое ее мгновение?
По Яблочному поселку ходила дурочка Маня: в черном платке, в тяжелых спортивных мужских башмаках на босу ногу и летом, и зимой. Ее дразнили незло Маней-иконой, и не зря: старые люди помнили, какая была она раскрасавица. Когда с фронта вернулась, вместе с братьями дом построила, да сгорел и дом, и подворье по недосмотру. Тогда-то и тронулась Маня умом, обрядилась в черное и стала по поселку воду носить в большой синей бутылке, поливая все подряд: лавочки, палисадники, завалинки, заборы, калитки, порожки, столбы, огороды и сады. И вправду: больше пожаров не было, а Маня-икона вскоре куда-то пропала.
Мы, дети, Маню побаивались, оттого, наверное, и преследовали по жестокому детскому неведению: обзывали уродкой, швыряли вслед камни – обязательно попасть в бутылку! Ни разу она нам и слова не сказала, но однажды так на меня глянула… Я впервые поняла, что значит – леденеет сердце.
Я пойму эту тайну потом,
Этот образ узнаю нетленный,
Охраняющий отческий дом
В обретенной навечно вселенной.
Состраданье, печаль и покой
Сталинградского послевоенья –
Нынче помню я Маню такой
В ореоле добра и терпенья.
Так и вижу: идет по золе
В незлобивом безумье, во свете
Чистоты, и бегут по земле
Вслед за ней несмышленые дети…
Из поселка мы стремительно вырастали, как из детской одежды, нас неостановимо влекли дар-горские просторы – те, что ближе к городу.
Нас ждал «Мирок»! Так на языке местной шпаны назывался кинотеатр «Мир» – коронный центр Дар-Горы. Не раз мы сбегали в кино с занятий, мало заботясь о неминуемом наказании, ведь уроки «Мирка» были куда интереснее школьных. Здесь знакомились и расставались, дрались и мирились, играли в парке в карты и пели под гитару. Здесь назначали свидания, менялись марками и книгами, отсюда после вечерних сеансов отправлялись к кому-нибудь на посиделки. «Мирком» верховодил Сережка Арапов из 105-й школы – высокий, русоволосый, синеглазый красавчик, явно знающий себе цену. Он неторопливо похаживал по фойе кинотеатра, поглядывал на девчонок – те замирали под прекрасным насмешливым взором.
Нина Резникова, моя лучшая подружка, терпеть не могла Арапова: о нем сплетничали, как о безжалостном сердцееде, и я то и дело вздыхала… Нина грозила:
– Гляди вот, матери скажу!
Я и глядела потаясь… и догляделась. Однажды Нина больно ущипнула меня за руку:
– Танька, на тебя дед смотрит!
Я оглянулась: Арапов не просто смотрел, он двигался по направлению к нашему уголку под портретами знаменитых артистов.
– Почему дед, ты что, с ума сдвинулась?
– Да ведь ему уже восемнадцать лет, он второгодником сто раз был!
Нам с Ниной было по пятнадцать. Второгодник наконец подошел и, игнорируя Нину, бросил в пространство окрест меня:
– В «кильдим» придешь сегодня?
Мы обмерли и опрометью кинулись на улицу. Не остановились, пока не добежали до Нининого дома.
– Вот это да! В «кильдим»! Точно матери скажу!
– Да я что, собираюсь туда, что ли?
– Меня же не позвал!
– Да я при чем?
Однако чувствовала себя героиней необыкновенного приключения.
Про «кильдим» – на местном жаргонноречии деревянный танцевальный клуб около железнодорожной станции – всякое рассказывали. Девчонки, которые ходили туда на танцы, умели пить вино и потихоньку курили за школой на спортплощадке. Про одну (не из нашей школы) говорили, что она танцует без трусиков, а другая в пятнадцать лет родила ребеночка и его куда-то увезли.