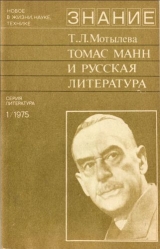
Текст книги "Томас Манн и русская литература"
Автор книги: Тамара Мотылева
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Борьба против фашизма. Статьи о русских писателях. «Доктор Фаустус»
Антифашистская тема в художественном творчестве Томаса Манна ведет свое начало от рассказа «Марио и волшебник», написанного еще до гитлеровского переворота, в 1930 г. Здесь показана в непримиримо сатирическом свете Италия Муссолини; действие завершается на резко протестующей ноте, – Марио, человек из народа, стреляет в фашиста-гипнотизера, унизившего его достоинство.
Антифашистская идея живет во всех произведениях Томаса Манна, созданных им в эмиграции, в США, в годы гитлеровской диктатуры. Даже и там, где мир образов писателя, казалось бы, предельно далек от современности, ее забот и битв, скрытая, подспудная связь с современностью налицо.
Еще до того, как Томасу Манну пришлось покинуть Германию, он начал работать над циклом романов на сюжет библейской истории об Иосифе Прекрасном. Этот четырехтомный цикл был закончен во время второй мировой войны, когда писатель жил в США. Томас Манн сам в докладе «Иосиф и его братья» объяснил, в чем он видит актуальность этого большого повествования на мотив стародавней легенды. Фашистские пропагандисты часто обращались к древним мифам, пытаясь с их помощью пробудить в людях варварские, человеконенавистнические инстинкты. В тетралогии об Иосифе, по словам Томаса Манна, миф «изменил свои функции… С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою орудием, которое разворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь, – вплоть до мельчайшей клеточки языка, – пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в этом романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа» (9, 178). История Иосифа, которая в свое время привлекала Толстого широтой, универсальностью своего нравственного содержания, была осмыслена Т. Манном как история рождения «я» из человеческого коллектива». Легендарный Иосиф, эгоистически-заносчивый красавец и баловень судьбы, проходит через множество житейских превратностей, через унижения рабства и плена, и, умудренный страданиями, становится видным государственным деятелем Египта, народным «кормильцем». Обратившись к преданию об Иосифе, Томас Манн показал, как в глубине седой древности складывались коренные моральные понятия, определяющие отношение человека к семье, народу, обществу.
Дух сопротивления варварству фашизма ясно ощутим и в романе Т. Манна «Лотта в Веймаре» (1938). В основе сюжета здесь подлинный факт, эпизод из биографии Гёте – встреча старого поэта, после многих лет разлуки, с Шарлоттой Кестнер, изображенной им когда-то в образе Лотты в «Страданиях молодого Вертера». Эпизод, казалось бы, небольшой, частный; однако Томасу Манну удалось в этом романе, сравнительно небольшом по объему и охватывающем немного времени, показать своего любимого отечественного классика более полно, разносторонне, в конечном счете и исторически более верно, чем он был представлен в этюде «Гёте и Толстой». В романе «Лотта в Веймаре» Гёте – не «дитя природы», живущее в полной гармонии с миром, и не высокомерный олимпиец, пуще всего оберегающий свой покой, а художник острой и тревожной мысли, художник-гражданин, который под оболочкой бюргерской уравновешенности затаил глубокое беспокойство по поводу судеб и будущности своего народа. Жизнь тайного советника Гёте, окруженного почетом при веймарском дворе, в изображении Томаса Манна – очень нелегкая жизнь: гениальный писатель окружен людьми, которые, в сущности, не понимают его и чужды ему.
Рисуя духовную драму Гёте, Томас Манн обращается к художественным традициям Толстого. Когда-то автор «Войны и мира» широко ввел в обиход художественной прозы внутренние монологи – неслышные разговоры героев с самими собою. В толстовских внутренних монологах психический процесс прослеживается в своей повседневности, непосредственности – читатель видит, как зарождаются, развиваются, взаимодействуют мысли и чувства людей. В литературе XX в. внутренний монолог получил широкое распространение. Так и знаменитая седьмая глава «Лотты в Веймаре» – пространный внутренний монолог Гёте, пробуждающегося утром, – смелое творческое развитие приемов Толстого. Этот монолог раскрывает богатство духа Гёте и сложность той ситуации, в которой находится прославленный поэт. В своих думах Гёте резко осуждает немецких националистов, мракобесов его времени – и эти раздумья неожиданно перекликаются с современностью, читаются как вызов реакционерам всех времен и уничтожающий приговор гитлеровцам. А в заключительной откровенной беседе Гёте с Шарлоттой Кестнер труд поэта раскрывается как подвиг непрерывного творческого напряжения во имя служения людям. Так кристаллизовались в романе о Гёте размышления Томаса Манна о жизненном назначении художника.
Практика творческой и общественной деятельности Томаса Манна – эмигранта-антифашиста вновь и вновь обращала его мысли к русской литературе. На смерть А. М. Горького Томас Манн откликнулся коротким обращением к советской общественности: «В лице Максима Горького ушел великий русский человек, великий гуманист и социалист, достойный почитания посредник между ценностями прошлого и волей к будущему. И я сегодня мысленно – на Красной площади в Москве, где русский народ прощается со своим сыном, который стал ему отцом».
Год спустя, в 1937 г., когда в Советском Союзе широко отмечалось столетие со дня кончины А. С. Пушкина, Томас Манн написал краткую статью, в которой почтил память основоположника русской национальной литературы.
На Томаса Манна произвело впечатление то, с каким размахом был отпразднован в Советском Союзе Пушкинский юбилей. Он увидел здесь доказательство, что Советская власть высоко ценит культуру прошлого.
В годы эмиграции Томас Манн живо ощущал давность и прочность своих творческих связей с русской литературой. Он не раз вспоминал о ней в своих письмах тех лет.
Друг Томаса Манна, видная американская журналистка Агнес Мейер, прислала ему свою статью, где она сравнивала его с Толстым. Т. Манн был смущен этим, и писал Агнес Мейер 27 июля 1940 г.: «При таком сопоставлении, как думается мне, нельзя забывать, как далеко мне до Толстого (которого я вновь и вновь перечитываю)…» 3 декабря 1940 г. он писал той же корреспондентке, видимо, отвечая на ее вопросы: «Я много читал Толстого, когда работал над «Будденброками», – ведь мне уже доводилось рассказывать, каким оплотом и опорой были «Анна Каренина» и «Война и мир» для моих тогда еще неокрепших сил. А «Детство и отрочество», кажется, тогда еще не знал, а прочитал лишь позже. Но это не столь важно, Толстой есть Толстой, и великолепное творение его юности содержится и в его последующих монументальных творениях, а они в нем».
Стоит привести и начало письма Т. Манна к Агнес Мейер от 30 сентября 1943 г. Оно написано с юмором, но речь тут явно идет с серьезных вещах:
«Дорогая графиня Толстая,
Так я иногда называю Вас про себя, потому что Вы напоминаете мне эту достойную восхищения женщину, и ее огорчение по поводу того, что Лев, великий художник, который умел писать такие прекрасные романы, сверх того еще писал такие несуразные вещи о политике и религии. Что ж, на религию я не посягаю, да и в области политики все пойдет на лад, поверьте мне!»
Смысл этих строк, видимо, в следующем. Некоторые из американских друзей Томаса Манна (в том числе и А. Мейер) пытались его удержать от активной антифашистской деятельности, отнимавшей много сил, и подчас неугодной влиятельным политическим кругам США; однако Т. Манн мягко, но решительно отвергал подобное вмешательство в свои дела.
С русской литературой, и особенно с Толстым, ассоциировались у Т. Манна размышления о долге писателя – и о его собственном долге. В письме к Ф. Кауфману от 17 февраля 1941 г. Манн поделился своими мыслями на этот счет. Задачи искусства, писал он, не тождественны с задачами политики, и он сам не считает себя политическим деятелем. «Однако есть во мне некая предрасположенность и готовность к тому, чтобы «пострадать за добро»… Вообще, писатель всегда – нечто иное и нечто большее, чем просто художник, – к безответственно играющим баловням искусства вроде Рихарда Штрауса я всегда чувствовал легкое презрение и даже написал об этом пьесу. Она называется «Фьоренца». Но если там я принимаю сторону критика-аскета против искусства самодовольной пышности – это не должно вводить в заблуждение: я верю в искусство, как силу, способную вести людей, и недавно выразил эту веру в предисловии к «Анне Карениной».
Работая над вступительной статьей к иллюстрированному изданию «Анны Карениной», которое вышло в США в 1939 г., Т. Манн задумывался над проблемами, стоявшими перед ним самим, перед прогрессивными деятелями культуры всего мира накануне второй мировой войны.
В этом критическом этюде повторяются некоторые мысли и даже прямо – некоторые формулировки прежних работ Т. Манна о Толстом, но есть и нечто существенно новое. Здесь подчеркивается критическое отношение Толстого к тому обществу, в котором он жил. «Анна Каренина», замечает Т. Манн, как бы подготовляла перелом во взглядах Толстого: в последующие годы он «проанатомировал своей беспощадной мыслью семью, народ, государство, церковь, и в особенности искусство, ибо плотское и чувственное начало он видел прежде всего в искусстве» (10, 261).
Правда, мы не можем согласиться с тем, как Томас Манн объясняет здесь смысл толстовской критики современного ему искусства: Толстой осуждал искусство, которое он называл «господским» не за «чувственность», а за то, что оно ориентировалось на вкусы и запросы привилегированной верхушки. Вряд ли мы можем согласиться и с той схемой развития Толстого, которая намечена в этой статье Т. Манна: путь автора «Анны Карениной» тут рисуется как движение от инстинкта к разуму, и тем самым от искусства «наивного», «плотского» – к искусству социально-критическому. Однако впервые Т. Манн с такой ясностью и убежденностью сказал о «беспощадно анатомирующей» силе реализма Толстого.
Показательно и само внимание Томаса Манна к сдвигам в мировоззрении Толстого, подготовлявшими будущий перелом. Писателя-антифашиста явно интересовало в тот момент, какими путями шел его русский учитель к разрыву со своим классом, как нарастало в нем ощущение своего долга перед народом и человечеством.
По ходу анализа «Анны Карениной», у Т. Манна возникает любопытная аналогия с романом «Лотта в Веймаре», вышедшем в свет незадолго до того, как он начал работать над своей статьей. В «Лотте в Веймаре» показано, почему старый Гёте не одобрял подъема национальных по сути дела националистических чувств в немецких государствах во время войн против Наполеона: он чувствовал, что в этом массовом воинственном возбуждении заложены зачатки того шовинизма и агрессивности, которые могут сыграть роковую роль в будущем. Толстовский Левин, герой во многом близкий автору, проявляет подобное же «скептически-реалистическое» отношение к балканской войне. «Он не разделяет охвативший всех энтузиазм, он чувствует себя одиноким среди восторженной толпы, точно так же, как Гёте во время освободительных войн, хотя и в том и в другом случае в национальное движение влилась новая, демократическая струя…» (10, 268).
В толстовской, как и в гётевской позиции одиночки, не приемлющей «восторженной толпы», был, по мнению Т. Манна, свой героизм, но и своя опасность. Была своя опасность и в той позиции, которую занимал толстовский Левин в спорах со своим братом Кознышевым о цивилизации, науке, вере. Левин – как и сам Толстой в последние десятилетия жизни – предпочитал веру узкому позитивистскому знанию, буржуазной науке. Толстой, при всех своих заблуждениях, по словам Т. Манна, «ушел на шаг вперед» от своего времени и общества, он осуждал науку «добропорядочного, великого девятнадцатого века», исполненную упований на мирный и беспрепятственный прогресс: он отвергал либерально-позитивистские иллюзии и был прав. Однако Томас Манн стремится показать не только величие Толстого, смелость его мысли, но и несостоятельность его религиозно-утопической проповеди.
Можно ли отвергать науку и знание во имя разума и веры? Ни в коем случае нельзя, утверждает Томас Манн, ибо ориентация на веру, отрицание науки «очень легко может привести к мракобесию и варварству». В наши дни, говорит Т. Манн, «вовсе не надо быть героем-одиночкой, для того, чтобы, выбросив за борт всевластный в девятнадцатом веке авторитет науки, положиться вместо знания на «миф», на «веру», то есть, иными словами, поддаться нечистоплотной и губительной для культуры, рассчитанной на подонков демагогии. В наши дни все это стало массовым явлением, но это не шаг вперед, а сто шагов назад». От «реализма» науки, по мысли Т. Манна, надо идти не назад, к вере, а вперед – к прогрессивным стремлениям века. Такова поправка Томаса Манна-антифашиста к религиозной концовке «Анны Карениной». Он, разумеется, никак не отождествляет толстовскую проповедь с «мракобесием» XX в. Но он убежден, что та вера, к которой пришел, в итоге своих исканий, толстовский Левин, не годится в качестве опоры для борьбы с фашистским варварством.
Та страстность и даже некоторая прямолинейность, с которой Томас Манн связывает социальную и философскую проблематику романа Толстого с современностью, судит о ней с позиций современности, свидетельствуют, насколько дорого ему наследие русского классика, его идеи – даже и тогда, когда он эти идеи оспаривает.
Толстой, который «совершил в области искусства такое, о чем мы, простые люди, и мечтать не смеем», был в своих работах последних лет, по мнению Томаса Манна, несправедлив к искусству, недооценивал его силу. «Искусство – самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ извечного, неподвластного рассудку стремления человека к добру, к истине и совершенству…» (10, 271). И Томас Манн завершает свой этюд, как и начал его, развернутым художественным сравнением: эпическое искусство – океан. Именно эпическое искусство, великим мастером которого был Толстой, охватывает людей в их взаимосвязи, жизнь как целое. Толстой, по мысли Томаса Манна, вооружает современных деятелей искусства против болезненного индивидуализма, артистической «нездоровой игры» и помогает им работать на пользу стремления людей «к добру, к истине и совершенству…»
Томас Манн не случайно ввел в свою статью об «Анне Карениной» полемическое замечание насчет вреда «нездоровой игры» в искусстве. Он исподволь вынашивал замысел романа о музыканте, загубившем свой талант на ложных путях артистического «демонизма». Роман этот, «Доктор Фаустус», законченный в 1946 г., стал для Т. Манна произведением в некотором роде итоговым. Здесь он дал бой тем реакционным идеям в эстетике и политике, от власти которых он долго не мог избавиться.
Мы помним, что Томас Манн не раз сопоставлял Толстого и Достоевского, пытался выяснить, который из гигантов русской литературы ему дороже. В статье об «Анне Карениной» мы снова находим такое сопоставление, сделанное в беглой форме. После слов о здоровье Толстого, как отличительной черте его реализма, мы читаем: «В этом – сила Толстого, сила, которой не обладал в такой мере ни один эпический художник нового времени, сила, которая отличает его гений, – если не по масштабу, то во всяком случае по самой сути, – от болезненного величия Достоевского с его надрывом, с его гротескно-апокалиптическими картинами» (10, 251). Значило ли это, что Томас Манн отвернулся от Достоевского? Ни в коем случае. Напротив, именно в годы работы над «Доктором Фаустусом» он усиленно перечитывал его, находил у него то, чего не мог найти у Толстого. Достоевский помогал ему проникнуть в глубины уязвленной и больной души.
В автобиографическом этюде «История «Доктора «Фаустуса» Т. Манн прямо говорит: «В эпоху моей жизни, прошедшую под знаком «Фаустуса», интерес к больному, апокалиптически-гротесковому миру Достоевского решительно возобладал у меня над более сильной приязнью к гомеровской мощи Толстого» (9, 287).
По просьбе одного из американских издательств Т. Манн написал предисловие к сборнику повестей Достоевского. Работа над этой статьей шла у него параллельно с работой над главами «Доктора Фаустуса».
Название этой статьи Томаса Манна – «Достоевский – но в меру» – может вызвать недоумение. Подходит ли такое название для работы о художнике, который во всем – и в страстях своих героев, и в конфликтах своих романов – тяготел к чрезвычайному, чрезмерному? Однако у. Т. Манна слова «но в меру» обращены не к Достоевскому, а к самому себе. Он словно боялся подпасть под обаяние могучей личности Достоевского, его могучего и жестокого таланта. В названии этом есть и другой смысл: Томас Манн взялся написать об авторе «Братьев Карамазовых» на небольшом пространстве, не претендуя на полноту охвата темы.
Статья «Достоевский – но в меру» резко окрашена авторской субъективностью. Томас Манн в тот период напряженно размышлял над жизнью и идеями Ницше. Статья «Философия Ницше в свете нашего опыта», появившаяся после второй мировой войны, была для Манна окончательным расчетом с наследием ницшеанства. Раздумья над Достоевским и над Ницше совпали по времени и переплелись. В статье «Достоевский – но в меру» сопоставляются, соотносятся жизненные и творческие пути этих столь несхожих между собой людей: ведь оба они, говорит Манн, были для него в свое время «фактором духовного воспитания» (10, 327), оба они, каждый на свой лад, были «сынами ада, великими богоискателями и безумцами» (10, 329), каждый из них был отмечен «гением как болезнью и болезнью как гением» (10,328).
Томас Манн увлекается этой поверхностной психологической параллелью, проходит мимо глубочайших идеологических расхождений между реакционным немецким философом и русским писателем-гуманистом. Понятно, что характеристика Достоевского-художника у него получается односторонней. И все же статья эта содержит интересные и верные мысли.
Без колебаний говорит Томас Манн о громадном превосходстве Достоевского-психолога даже над самыми прославленными кумирами модернистской литературы XX в. «Достаточно привлечь для сопоставления Пруста и те психологические nouveautés[2]2
Новшества (франц.).
[Закрыть], сюрпризы и побрякушки, которыми изобилуют его книги, чтобы понять разницу в направленности, нравственном смысле творчества этих писателей. Психологические находки, новшества и смелые ходы француза не более чем пустяшная игра в сравнении с жуткими откровениями Достоевского, человека, который побывал в аду. Мог ли Пруст написать Раскольникова, «Преступление и наказание», этот величайший уголовный роман всех времен? Знаний бы ему, пожалуй, хватило, а вот сознания, совести…» (10, 330–331).
Нетрудно оспорить утверждение Томаса Манна, согласно которому болезнь, эпилепсия, была чуть ли не важнейшим источником художественной силы Достоевского. Но стоит прислушаться к его суждениям относительно того, как Достоевский, знаток больной души, обогатил мировую литературу. Для него как для художника болезнь влекла «за собой нечто такое, что важнее и плодотворнее для жизни и ее развития, чем засвидетельствованная врачами нормальность…» «Целая орда, целое поколение восприимчивых и несокрушимо здоровых юнцов набрасывается на создание больного гения, того, чья болезнь переросла в гениальность, восхищается им, восхваляет его, уносит с собой, делает достоянием культуры, которая жива не единым домашним хлебом здоровья» (10, 338). Достоевский, по словам Т. Манна, «создал поэтический мир невиданной новизны и смелости, населенный бесчисленными персонажами, мир, в котором бушуют грандиозные страсти и который не только велик «преступными» порывами мысли и сердца, раздвигающими границы наших знаний о человеке, но и клокочет вызывающим озорством, фантастическим комизмом и «веселостью духа». Ибо, помимо прочего, этот распятый страстотерпец был и удивительным юмористом» (10, 340).
Лишь в беглой форме – хотя и с неподдельным восхищением – говорит Томас Манн о больших романах Достоевского, его «эпических памятниках»: «…впрочем, это не эпические произведения, а грандиозные драмы, построенные по законам сцены, – драмы, в которых действие, раскрывающее самые темные глубины человеческой души и нередко развертывающиеся в течение всего лишь нескольких дней, развивается в сверхреалистических и лихорадочных диалогах…» (10, 340). Среди повестей Достоевского, включенных в американский сборник, наибольшее внимание автора предисловия привлекают «Записки из подполья». Тут Томас Манн неизмеримо возвышается над теми западными истолкователями Достоевского, которые сводят идеи этой повести к жестоким антигуманистическим высказываниям ее героя. «Мучительные парадоксы, которые «герой» Достоевского бросает в лицо своим противникам-позитивистам, кажутся человеконенавистничеством, и все же они высказаны во имя человечества и из любви к нему: во имя нового гуманизма, углубленного и лишенного риторики, прошедшего через все адские бездны мук и познания» (10, 345).
Статья Томаса Манна помогает понять, в каком смысле опыт русского «художника-титана» (10, 331) и опыт русской литературы в целом мог быть для него творческой опорой в работе над романом «Доктор Фаустус».
Жизнеописание Адриана Леверкюна, талантливого композитора, создателя сверхизощренной музыки «для немногих», который в конечном счете приходит к духовному и творческому краху, было задумано Томасом Манном как большое художественное обобщение. Через образ Адриана Леверкюна в романе раскрыты судьбы буржуазной культуры XX в., утрачивающей связи с народной жизнью и прогрессивным наследием прошлого. Своей критикой буржуазного «господского искусства» роман «Доктор Фаустус» тесно примыкает к толстовской традиции и развивает, на более высокой и сложной художественной основе, мотивы ранних новелл Томаса Манна о людях искусства – от «Тонио Крёгера» до «Смерти в Венеции».
Однако Томас Манн хотел написать роман не только о судьбах искусства и художника. Адриан Леверкюн, по собственным словам писателя, «это, так сказать, собирательный образ, «герой нашего времени», несущий в себе всю боль эпохи» (9, 260). В романе «Доктор Фаустус» тема искусства переплетается с темой политической. Критика антинародной музыки связывается с осуждением антинародных течений немецкой социальной и философской мысли, проложивших дорогу фашизму.
Некогда Томас Манн в статье «Мысли о войне» (от идей которой он впоследствии далеко отошел) бросил замечание: «Искусство, как и всякая культура, – сублимация демонического». В романе «Доктор Фаустус» раскрывается вся вредность, пагубность подобных взглядов на культуру. «Демоническое» – это и есть реакционный дух ненависти к разуму, иррационализма, антигуманизма, который культивировался Ницше и его последователями, и отравлял сознание немецкой интеллигенции на протяжении многих десятилетий.
Композитор Адриан Леверкюн стоит в стороне от политики, он ни в коем случае не считает себя реакционером. Но его творческая деятельность реакционна по своей сути – она проникнута равнодушием к людям, высокомерным презрением к толпе. Она несет в себе иссушающий холод, который оказывается гибельным и для самого композитора, для его таланта. В финале романа Адриан Леверкюн, пораженный тяжкой душевной болезнью, в горько-покаянной речи говорит сам о себе: «Заместо того, чтобы разумно печься о нуждах человека, о том, чтобы людям лучше жилось на земле и среди них установился порядок… иной сворачивает с прямой дороги и предается сатанинским неистовствам» (5, 644).
Роман «Доктор Фаустус» дает широкую картину умственной жизни Германии первой трети XX в. – читатель видит, как зарождались и развивались реакционные идеологические течения, которые в конечном счете сделали многих и многих, казалось бы, образованных, просвещенных немцев безоружными по отношению к фашистской заразе. Именно в этом – исторические истоки тех «сатанинских неистовств», которые исковеркали жизненный и творческий путь Адриана Леверкюна.
Томасу Манну хотелось поднять трагедию Адриана Леверкюна на уровень символа. Сюжет романа реалистически достоверен и в то же время возвышается над будничной реальностью, содержит элемент философски-легендарного иносказания. Именно поэтому романисту оказался необходим старинный немецкий сказочный мотив договора с дьяволом, лежащий в основе гётевского «Фауста». Адриан Леверкюн, новый Фауст, покупает творческое могущество ценой сделки с нечистой силой. Судьба композитора, предавшегося дьяволу, вырастает в зловещую аллегорию, связывается в сознании романиста – и читателя – с судьбой Германии, предавшейся фашистским душегубам.
Центральная глава «Доктора Фаустуса» – ночной кошмар Адриана Леверкюна, его беседа с таинственным двойником, князем преисподней, образ которого порожден больной фантазией композитора и вместе с тем принимает реальные, зримые черты. Работая над этими страницами, Томас Манн писал Агнес Мейер в январе 1945 г.: «Роман дошел до XXV главы – решающей по своей важности. Это – большой диалог бедного Адриана с чертом, – его чертовски трудно сочинять, и есть опасность, что будет слишком похоже на Ивана Карамазова. Как тут быть – уж сколько хорошего сделано до меня!»
Преемственная связь «Доктора Фаустуса» с Достоевским сказывается, конечно, не только в этой «решающей» двадцать пятой главе. «Доктор Фаустус», как и «Волшебная гора», роман интеллектуальный, своего рода роман-диспут, где взаимодействуют спорящие голоса, и где движение, развитие идей занимает важное место в сюжете. Достоевский помог автору романа о Леверкюне в самом широком смысле – как аналитик ущербной и больной человеческой психики, как художник, прошедший «через все адские бездны мук и познания» (10, 345).
Вряд ли стоит искать в прямом смысле сходство между Адрианом Леверкюном и теми героями Достоевского, у которых – как у Раскольникова или Ивана Карамазова – мучительная жажда истины выливается в умышленное или неумышленное злодейство. Однако в XXV главе «Доктора Фаустуса» Томас Манн открыто и преднамеренно вступил в творческое соревнование с автором «Братьев Карамазовых».
Еще в начале двадцатых годов Томас Манн задумывался над тем, как великие русские писатели умеют дерзновенно сталкивать зловещее и смешное, низводя демонические силы на землю. В статье «Русская антология» Т. Манн писал, ссылаясь на Гоголя: «Выставить черта дураком – вот в чем мистический смысл русского комизма…». Тут же он замечал, что и у Достоевского «эпилептически-апокалиптический мир теней проникнут необузданной стихией комического». Дьявольское видение Адриана Леверкюна представлено Томасом Манном именно в этом духе. Пришелец с того света, ведущий беседу с композитором, не столь зловещ, сколь грубо прозаичен, отталкивающе фамильярен, а кое в чем даже и портретно похож на собеседника Ивана Карамазова. Само собой разумеется, что по содержанию своему XXV глава «Доктора Фаустуса» подчинена сложному идейно-сюжетному плану романа о композиторе. Творческая самостоятельность Томаса Манна тут очевидна. Но очевидна и та поддержка, которую он получил от Достоевского. Пользуясь этой поддержкой, Томас Манн нашел свои, сильнодействующие художественные средства для того, чтобы распознать природу зла и заклеймить его.








