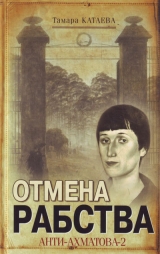
Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
* * *
Ахматова вернулась из Ташкента <…> «преображенная, молодая и прекрасная». Страшным призраком показался ей человек, переживший блокаду и потерявший способность разделить с ней ее новую молодость. (Т. С. Позднякова. Виновных нет…. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 166.) Но его статус, его имя оставались при нем – и Ахматова решила не сдаваться. Такие ситуации были ей не впервой.
* * *
Исследовательница Алла Марченко, отводя от Ахматовой обвинения, что та во время войны путалась с иностранным разведчиком, дает более основательную и респектабельную версию (и более вообще-то правдоподобную): любовником Ахматовой в Ташкенте был А. Козловский, женатый человек, разумеется, гостеприимством чьей жены она охотно пользовалась. Ну а несчастному дистрофику Владимиру Гаршину с его профессорскими регалиями в невесты все продолжала готовиться.
* * *
1945 год был у Владимира Георгиевича очень трудный, потому что это было время, когда он начинал строить свою новую семью. Капитолине Григорьевне Волковой было тогда 55 лет. Она впервые выходила замуж. Была она подвижная, румяная, черноглазая. Мне казалось, что можно дать ей лет 28, не больше. (H. В. Кузьмина. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 71.) Фотографии подтверждают это невероятное наблюдение. Шестьдесят лет, отделяющих женщину на снимке от нашего времени, о которых мы знаем, кажутся нам уже как бы прожитыми ею, она должна бы быть столетней – юным красавицам на пожелтевших фотографиях мы всегда набавляем года, – но женщина с правильным красивым лицом, полным какой-то перехваченной фотографом мысли, с открывающей лицо прической, в хорошем платье и с легкими красивыми руками, а в руках – полевой бинокль, – она очень миловидна и молода. Доктор медицинских наук, врач. Дом у них был очень красивый, ухоженный, уютный. Я ни до того, ни после того никогда не видела так красиво накрытого стола. Каждый день – белая скатерть, и подставки какие-то хрустальные, какие-то серебряные колечки. (Стр. 71.)
* * *
Разрыв с Шилейко Анна Андреевна, насколько могу судить, переживала тяжело, тайно сжигаемая ревностью и чувством унижения более, чем утратой любви.
С. Л. Шервинский. Анна Ахматова в ракурсе быта. По: В. Шилейко. Последняя любовь… Стр. 314
Ревность накала жадности – такие свойства людей не меняются со временем.
* * *
Вера Андреева-Шилейко, соперница, 1888–1974, искусствовед. <…> В 1956 г. завершила докторскую диссертацию о влиянии древнекитайской живописи на живопись раннего Ренессанса, но не защитила ее из-за резко ухудшившихся отношений между СССР и Китаем. Это вам не «подумать только: шестьсот миллионов китайцев и я одна!». Шестьсот миллионов ничего не смогли – или не захотели – сделать вредоносного Анне Андреевне, а Вере Андреевой – смогли. Но ее вызвать на ковер, чтобы доказывать свое превосходство, как бедную Ольгу Высоцкую, Ахматова не смогла. Наверное, потому, что для Андреевой нарумяненные щеки, шелковый халат и молодые мужчины в свите – это был бы не аргумент.
Она была очень высока ростом, как раз в габаритах Владимира Казимировича.
C. B. Шервинский. Анна Ахматова в ракурсе быта. По: В. Шилейко. Последняя любовь… Стр. 314
Женщины сражались на ее поле – никто не был молоденькой замухрышечкой медсестрой – и побеждали.
* * *
Н. В. Кузьмина: Я дочь младшей сестры Владимира Георгиевича Гаршина. <…> Отца посадили в 1937 году и расстреляли, мама осталась с тремя детьми, я самая старшая. Мы жили в Кабардино-Балкарии. Меня как-то вызвали в органы и велели следить за одной семьей и доносить. Мама в ужасе написала письмо дяде Володе: «Володечка, спаси мою дочь!» И дядя Володя понял и помог: он оформил мне разрешение на перевод из Нальчикского пединститута <…> он был вдовцом. <…> Когда Владимир Георгиевич думал о новой семье, он сразу договорился, что в их доме будет жить и старшая сестра его первой жены. <…> В это время из армии пришел дяди Володи сын Алеша. А еще у тети Капы [Волковой] была племянница Нина, она тоже жила с ними <…>. И тут я им свалилась на голову. <…>
Пока я училась в пединституте, дядя Володя ежемесячно давал мне по 400 рублей. А во время войны из блокадного города он часто посылал деньги Анне Ахматовой в Ташкент, я нигде не читала, чтобы было сказано Гаршину «спасибо». Это его счастье – тетя Капа. И когда он заболел, я всегда говорила (и сейчас так думаю): Бог уберег его от Ахматовой. (Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 71.)
* * *
Вопреки устоявшемуся мнению сюжет романа был вовсе не таков, что Гаршин не выдержал мужского одиночества, клюнул на молоденькую – пусть и не на молоденькую, но в любом случае на подвернувшуюся свободную женщину. На самом деле Гаршин сначала расстался с Ахматовой, он уже во время войны понял, что она ему не пара и не нужна как человек, принял решение не жениться, сказал ей об этом при первой встрече на перроне и отвез к знакомым. Потом заходил, приносил еду, заботился, как всегда. Она же не хотела отступаться. Однажды Владимир Георгиевич пришел встревоженный и рассказал, что Анна Андреевна потребовала, чтобы он женился на ней. Он ответил отказом. Анна Андреевна, как он говорил, в истерике упала на пол. Владимир Георгиевич ушел от нее и больше к ней не возвращался. (К. Г. Волкова. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 67.)
* * *
Был тяжелый разговор, и на этом они расстались. Причем, была, насколько я знаю, бурная сцена, именно бурная сцена. Рыбаковы слышали крик Анны Андреевны. И больше они не виделись.
Т. Е. Журавлева. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 61
* * *
…раз я видела его в настоящем гневе. Он пришел с работы возбужденный и возмущенный и говорил с Капитолиной Григорьевной в кабинете, а я слышала. Он рассказал, что к нему на работу приходила Ахматова, вела себя истерично, он понял, что это конец. История эта произошла уже после того, как Владимир Георгиевич и Капитолина Григорьевна по-настоящему поселились вместе, то есть не раньше 1945 года, что опровергает существующее представление о том, что после разрыва в июле 1944-го Ахматова и Гаршин не виделись. (H. Л. Гаршина. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 65.) Книга о Гаршине издана тиражом 1000 экземпляров – впрочем, если что-то замечательное и эффектное известно об Ахматовой даже одному-единственному человеку – или почудилось ему, – это становится символом веры для миллионов.
* * *
Рассказ исходит как будто от санитарок, лично знавших Гаршина. <…> «Ахматова приехала в Ленинград, ей очень хотелось замуж за нашего Гаршина. Она ему и сказала, а он ей – нет, не хочу. Она раз – и упала в обморок. А он посмотрел и говорит: «Как ты, Аня, некрасиво лежишь». Закурил и спокойно ушел, а она так и осталась ни с чем…» Рассказ этот, за который автор просит прощения у читателей, свидетельствует только о высоком мнении санитарок о Гаршине, который, говорят, был всегда с ними изысканно вежлив, любезен и внимателен, что очень ими ценилось. Но ведь и это рассказ современниц. (Ю. И. Будыко. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 66.)
Как сказала бы Ахматова – «народные чаяния».
* * *
Каким образом такое становится известным? Все тайное становится явным. Как такой расклад сил мог быть известен санитаркам? Пусть Гаршин был для них царь и бог – ну так и должны они были радоваться, что он, вдовец, женится — плохо человеку, когда он один, а уж в послевоенном Ленинграде – тем более, они желали ему добра. Думать, что он женится на санитарке же, – не думали, наверно, да и вряд ли обрадовались бы. Откуда было доподлинно известно, что Ахматовой очень хочется замуж за ихнего Гаршина? Какой бы ни был Гаршин профессор, а все ж и Ахматова – писательница, советская писательница. Почти что Любовь Орлова, она, может, с Молотовым по воскресеньям садится обедать! Нет. В прозекторской было известно, что Ахматова углядела себе лакомый кусочек. О любви как-то речи не шло. Ахматову же разгадали довольно тонко, не хватало только фразы улыбнулся спокойно и жутко. Впрочем, о визите Ахматовой к Гаршину на службу было известно, естественно, всему персоналу, а уж о чем ведутся крики из-за дверей кабинета в таких случаях – большой прозорливости не нужно, чтобы догадаться.
* * *
Т. Б. Журавлева: На рубеже 1948–1949 годов, когда мы были уже на 4-м курсе, Владимир Георгиевич заболел. У него была блокадная гипертония. <…> Он ходил с высочайшими цифрами артериального давления. И тогда не было ничего, чем можно это лечить. Кажется, даже дибазол появился чуть позже. Лечили сонной терапией. Но идти в сонную палату и спать под гипнозом – это было не для него <…> Его интеллект и его психическая сфера ни в коей мере не пострадали. Но для него стало невозможным его любимое дело – преподавание, воспитание молодых врачей. А впечатление о его якобы психическом нездоровье рождалось из-за определенной трактовки стихов Ахматовой.
(Т. Б. Журавлева. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 84–85.)
* * *
«Светлый слушатель темных бредней…» (потом стало: «темный слушатель светлых бредней»! – когда он оставил ее…). (Л. K. Чуковская, В. М. Жирмунский. Из переписки (1966–1970). Из кн.: Я всем прощение дарую… Стр. 390.) Не связанные с Анной Андреевной кодексом даже женской дружбы могут позволить себе выразиться более пространно, чем это делает восклицательный знак.
* * *
Стихотворение «А человек, который для меня…» – жестокое, мстительное стихотворение – безусловно посвящено ему [В. Г. Гаршину]. Бог ей судья, – а расправа с больным не украшает.
Л. К. Чуковская, В. М. Жирмунский. Из переписки (1966–1970). Из кн.: Я всем прощение дарую… Стр. 393
* * *
Гаршин совсем забылся, с кем он имел дело. В черновиках Ахматовой сохранились строки (от таких онемеет кто угодно, посмевший подумать о том, чтобы пренебречь ею).
Я еще не таких забывала,
Забывала, представь, навсегда.
Я таких забывала, что имя
Их не смею сейчас произнесть,
Так могуче сиянье над ними,
(Превратившихся в мрамор, в камею)
Превратившихся в знамя и честь.
Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 165
Я еще не таких забывала – аргумент для склоки, разборки между женщинами на уровне «Какая есть, желаю вам другую», «А человек, который для меня теперь никто», «А, ты думал, я тоже такая…» – для таких дискуссий аргумент действительно сильный, доказывающий несомненное нравственное величие той, за кем остался самый громкий выкрик, посрамленные собеседницы не найдут что возразить, разве что задним числом позлобствуют: а на кого, собственно, она намекала? Чьего уж имени-то нельзя произнесть? Кто у нее из таких был? Для нас, когда страсти все-таки действительно улеглись, остается все-таки констатировать: может, каких-то она и забывала, а вот академика Гаршина забыть – и уж тем более простить – не могла.
* * *
Он был какой-то удивительно порядочный человек. После этого знаменитого постановления сорок шестого года <…> у нас было собрание преподавательского состава <…> И мы должны были проклинать, предавать анафеме. Все молчали. Опустив глаза, абсолютно все молчали. Выступил только Владимир Георгиевич Гаршин. Он сказал: «Я был другом Анны Андреевны, я остаюсь ее другом, и я буду ее другом». Это я слышала собственными ушами.
М. М. Тушинская. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 74
* * *
Он и вообще был смел и принципиален.
И вот в <…> трудной обстановке, когда лучше лишний раз не показываться на глаза сильным мира сего, Владимир Георгиевич – первый и единственный – отреагировал на арест профессора Цинзерлинга.
Т. Б. Журавлева. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 27
С 1948 года я работала на кафедре патологической анатомии, которой заведовал Владимир Георгиевич. Владимир Георгиевич был высокопринципиальным. В те времена везде и всюду утверждался приоритет русских ученых. Поносился, в частности, великий немецкий ученый <…> Рудольф Вирхов. <…> Владимир Георгиевич <…> прочел лекцию о великом ученом и замечательном человеке, продемонстрировав свою независимость и порядочность. <…> Вообще он всячески сопротивлялся советскому мракобесию. В конце сороковых годов вышла книга академика Лепешинской с совершенно бредовыми идеями невежды. Было приказано каждому ее купить <…> и подробно проштудировать. Владимир Георгиевич отказался и только сказал: «Она всегда была сумасшедшей старухой».
H. Ю. Бомаш. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 74–75
По-прежнему любил делать подарки. И. Д. Хлопиной подарил старинное масонское кольцо.
Ю. И. Будыко. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 74
* * *
С Владимиром Георгиевичем Гаршиным никто не прервал отношений после истории с Ахматовой, даже и ее друзья не отвернулись. Собственно, с чего бы? Что не захотел жениться – так ведь не девушку обесчестил, ничего ведь страшного не случилось, что был непорядочен – никто не поверил, потому что знали про него правду, а сплетнями не интересовались. За безумие? По счастью, нравственные установки Ахматовой расходились с принятыми у других людей. Вот фотография: Гаршин в 1948 году на даче у Шостаковича.
* * *
У Гаршина тогда была служебная машина – военных лет «виллис». Михайлов ездил с ним. Раз около Терийок (теперь Зеленогорск) они увидели работающих на дороге пленных немцев. Гаршин велел шоферу остановиться, вышел – угостил их всех папиросами, все раздал и сказал что-то по-немецки. Сел молча, поехали дальше. Может быть, он вспомнил, как в Первую мировую войну был в плену у немцев?
Ю. Л. Будыко. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 74
Ольга Иосифовна Рыбакова рассказывала, что, когда хоронили Владимира Георгиевича, одна дама из числа общих друзей – врач – предложила Анне Андреевне зайти проститься с ним, хотя бы когда никого не будет. Ахматова отказалась. Она так и не простила ему…
Ю. Л. Будыко. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 88
…корректнейшие воспоминания Ольги Иосифовны Рыбаковой об отношениях Ахматовой и Гаршина. Она ничего не пыталась объяснить.
Н. Л. Попова. Сборник «Владимир Георгиевич Гаршин». Стр. 89
Во время длительной последней болезни Владимира Георгиевича его часто навещала Лидия Яковлевна Рыбакова, а после ее смерти (в 1953 году) – Ольга Иосифовна. Это из тех Рыбаковых, с которыми Гаршин заранее договорился, направляясь на вокзал встречать Ахматову из эвакуации, – что отвезет ее к ним в дом: к себе, в жены, не примет. Его правоту и право Рыбаковы знали, приняли, при всей любви к Ахматовой, как видим, не нашли причин рассориться с ним. <…> Гаршин не раз спрашивал об Ахматовой: «Как там Аня?» Но она о нем ни разу не спросила, хотя Рыбакова часто с ней встречалась.
Ю. Л. Будыко. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 88
* * *
Н. И. Попова, директор музея Ахматовой: Это невозможно объяснить. Знаете, есть дистанция времени, есть дистанция этическая, которая никому из нас не позволяет давать свое объяснение.
Ю. Л. Будыко. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 89
* * *
Ахматова, как всегда, победила.
Волков: Но вернемся к разговору о письмах Ахматовой… В одном из них она цитирует следующее свое стихотворение:
Глаза безумные твои
И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.
<…> вы хорошо знаете, что Ахматова просто так, по наитию или прихоти, своих стихов в письмах приводить не могла <…> она, конечно, превосходно понимала, что все ее сохранившиеся письма когда-нибудь будут опубликованы и тщательнейшим образом исследованы и прокомментированы. <…> Почему же это четверостишие появилось в письме к вам?
Бродский: Нет, мне как-то ничего в голову не приходит… Может быть, имеются в виду ее отношения с Исайей Берлиным? Но у него совсем не безумные глаза. У кого же из ее друзей были безумные глаза? Может быть, у Недоброво? По-моему, безумные глаза были отчасти у Гумилева, а отчасти у Пунина. И еще, вероятно, у Шилейко.
Волков: А уж совсем безумные они были у Владимира Гаршина, не так ли? Тот просто рехнулся!
Бродский: Вот видите, еще лучше.
С. Волков. Диалоги с Бродским. Стр. 265–266
Это с ее легкой – или нелегкой – руки для Владимира Гаршина такая этическая дистанция считается в самый раз.
Баран и ярочка, или постамент
О заморском вздоре (Гумилев и пр.)
В. Ерофеев. Записные книжки. Книга вторая. Стр. 457
* * *
Жизнь идет. Дети становятся подростками. Мальчики открывают Гумилева, девочки – Ахматову. Потом немного стесняются. Пушкин, например, остается навсегда, и пожизненная привязанность к нему ничего однозначно не говорит о его поклоннике. Хорошо – да, но чем конкретно он продолжает удерживать человека, что ему дает – так сразу не ответишь. Пушкин – не ярлык. Любитель Гумилева или Ахматовой – вот это нечто более конкретное, как диагноз.
* * *
Николай Гумилев – поэт уровня КСП. Если Лев Толстой попал действительно на Кавказ, он стал писать историю, в которую попал или мог попасть ОН, каждый автор пишет только о себе. А как только появляются жирафы, жены вождей племени, марсельские матросы – это чисто мальчишеские фантазии. Можно было и прочитать в марсельской газете, что, оказывается, какая-то чернокожая принцесса матросского притона – жена (третья жена, дочь, сестра) вождя какого-то (название, конечно, приводится) африканского племени. Можно попытаться раскопать такую заметку во французской прессе того времени, когда эту сказочную страну посетил раздраженный недоверием соотечественников Николай Степанович Гумилев. А можно просто прочитать рассказ Антона Чехова с его героем «Монтигомо Ястребиный Коготь», чтобы понять, что Коле Гумилеву никакая Африка ничего дать не могла.
* * *
В русском языке для слова «жираф» рифм мало. Рифмуя с жирафом слово «Чад», поэт подтверждает это правило. Из чего складывается поэзия? С рифмами разобрались, теперь об эпитетах – об изысканном эпитете к слову «жираф». Русские не видели жирафов, не знали, что они изысканные, Гумилев увидел, нашел поразившее всех слово – роднее и нужнее жираф никому не стал. Те, кто решил, что такая-то поэзия и открывает что-то неведанное, сокровенное, нераскрытое, – стали туристами. Наконец-то полная поэзии душа знает, куда ей выплескиваться – в туризм. Занятие, которое существует для того, чтобы убить время и провести моцион для самого поверхностного слоя различных групп рецепторов.
* * *
То есть он сначала описал все, что мог: жирафа, озеро Чад. Интереснее и глубже он мыслить не мог. А потом, вдогонку, может, и отсмотрел антураж – и действительно по складу личности он интересовался «новым» – чтобы не углубляться в «старое», бояться – многого не боялся, но написать об увиденном уже ничего не мог. Вся его сфера интересов лежала в петербургских салонах, и то, чем их завсегдатаев можно было удивить, он написал. Отсмотрел Африку, чтобы отмести упреки. Дать это не дало ничего ни ему, ни нам.
* * *
Могли бы возникнуть серьезные подозрения, что Николай Гумилев ни в каких Абиссиниях и Африках не бывал, и все его стихотворения о леопардах, наложницах и женах королей племен, которыми со смехом овладевают пьяные матросы в Марселе, даже Анна Ахматова называет это маскарадом. «Жираф», во всяком случае, был написан до всяких поездок, реальных или нет, на озеро Чад. Гумилев, отъехав из Петербурга, обильно переписывался с мэтром Валерием Брюсовым – льстиво, восторженно. (И теперь моя высшая литературная гордость – это быть Вашим послушным учеником как в стихах, так и в прозе. (В. В. Бронгулеев. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Стр. 74) и пр.) Искал свои пути – чем удивить. В себе самом найти ресурсов не надеялся, их и не нашлось. Остановился на использованном в детстве приеме при обольщении гимназистки Тани: У этой девочки, как и у многих ее сверстниц, был «заветный альбом» с опросными листами. В нем подруги и поклонники отвечали на вопросы: «Какой Ваш любимый цветок и дерево? <…> Гимназистки писали – роза или фиалка. Дерево – береза или липа. Блюдо – мороженое или рябчик. Писатель – Чарская. Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд – индюшку, гуся или борщ, из писателей – Майн Рида, Вальтера Скотта или Жюля Верна. Когда очередь дошла до меня, – продолжал Гумилев, – я написал не задумываясь: цветок – орхидея, дерево – баобаб, писатель – Оскар Уайльд, блюдо – канандер. Эффект получился полный. Даже больший, чем я ожидал. Все стушевались передо мной. Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце. (В. Л. Бронгулеев. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Стр. 23.) Ирония – казавшаяся спасительной самоирония – рассказа заключалась в том, что Гумилев будто бы действительно написал с ошибкой канандер, интересничая и не зная правильного названия сыра «камамбер». Собственно, это не имеет никакого значения. «Повзрослев», Николай Степанович не особенно изменился, отвечал на почти такие же вопросы словами героя Леонида Андреева: «Я очень люблю негритянок». Своим невеликим талантом Леонид Андреев довольно красочно описал комизм ситуации. Анна Ахматова – клюнула: чтобы увидеть жирафа и прочесть печаль в его глазах. В Африку ездили Хемингуэй, Агата Кристи, Лени Рифеншталь, это были все целые экспедиции, большие деньги, американские автомобили, консульские формальности, проводники и снова – плата за все. Одиночки – просто съедаются. Дневники Миклухо-Маклая наполовину состоят из описаний сложных, смертельно опасных переговоров и договоренностей с местными жителями. Африканцы – не менее простодушны. Они еще более злы и решительны. Все аборигены такие же люди, как все. Люди не любят чужаков и защищают свое. Каждый, кто хоть по каким-то ДОСТОВЕРНЫМ документам познакомился с тем, что такое на самом деле африканские племена, поймет, что тем людям нет дела до меланхолических фантазий петербургского поэта, и за (небесспорные) достоинства его стихов своих женщин и своих антилоп ему не отдадут. А уж своих леопардов! В библиотеке Сорбонны (откуда не вылезал) Гумилев, конечно, мог начитаться африканских сказок, записанных французскими образованными колонизаторами – и представлял себе, какое место в мифологической иерархии занимал леопард – ну и бросал его шкуру к туфелькам Ани Горенко. Та воспринимала благосклонно, пока с раздражением не заметила, что литературоведы маскарад принимают за чистую монету и собираются разбирать гумилевское творчество в таком ключе, а великой любовной лирики вроде и не видят вовсе. «Что они вычитывают из молодого Гумилева, кроме озера Чад, жирафа, капитанов и прочей маскарадной рухляди?» <…> Вся ранняя поэзия Гумилева была глубоко чужда Анне Андреевне, и лишь на склоне лет она об этом заявила вполне определенно. <…> За стихами влюбленного в нее молодого человека она хотела видеть не его «волнующий и странный мир», а лишь его чувства к ней. (В. В. Бронгулеев. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Стр. 68.)
Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всем виденном: как он ночевал в трюме парохода вместе с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу <…> От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о нем лишь постфактум. Поэт заранее написал письма родителям, и его друзья аккуратно каждые десять дней отправляли их из Парижа. (В. В. Бронгулеев. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Стр. 72.) Или наоборот – постфактум придумалось путешествие. Люди, действительно видевшие моря, дальние страны и пальмы в лучах заката, – Джозеф Конрад, например, – описывают не рухлядь маскарада, а людей. Ну или те же самые пальмы, или песок, но не интуристовские печальные глаза изящного жирафа.
* * *
Вот шестнадцатилетняя девочка видит в театре Николая Гумилева, весь вид которого выражает поклонение поэтическому гению Валерия Брюсова: совершенно дикое выражение восхищения на очень некрасивом лице. Восхищение казалось диким, скорее глупым, а взгляд почти зверским. (Стр. 100). Чтобы с такими активами прослыть удачливым сердцеедом, надо неустанно трудиться на этом поприще. Гумилев был неутомим.
* * *
Баран и ярочка – это не Пастернак и Ахматова, Пастернак к ней не рядился, парочка ей – Гумилев. Дочь сказала: «Гумилев – поэт для женщин, он пишет так, как будто на него смотрит женщина». Она не знала, что Блок будто бы сказал об Ахматовой: «…как будто на вас смотрит мужчина, а нужно – как будто смотрит Бог». (М. Гаспаров. Записи и выписки. Стр. 130.)
* * *
Семейная зависть, ревность к Блоку.
* * *
Отец мой не любил его стихов и называл их «стекляшками».
Н. Чуковский. Литературные воспоминания. Стр. 28
* * *
Николай Гумилев (моя жена и по канве еще прелестно вышивает) в меру сил продвигал жену по журналам (инкогнито, конечно: Обоснование авторства Н. С. Гумилева см.: Крейл В. Записки русской академической группы в США): Преломление в теперешней жизни вечной женской души остро и властно дает чувствовать лирика Анны Ахматовой. (Летопись. Стр. 79.) Властность они оба любят, она приписывает властность ему, он – ей. Есть людские свойства первого ранга, обладать которыми заповедано от Бога и которые делают людей самодостаточными, не зависящими от людей и обстоятельств, а есть вспомогательные, придуманные для затейливости и украшательства жизни, для того, чтобы заполнить ее пустоту. Быть властным – это именно такое, зависимое от других людей и их суждений, не существующее само по себе, для самого человека свойство. Властным может быть только тот, кто окружил себя желающими подчиниться власти. Ахматовой подчинялись со слезами счастья на глазах.
* * *
Шилейко и Пунин были оба комиссарами. Горький продвинул и Николая Степановича, и он тоже успел испытать власть.
Без санкции Николая Степановича трудно было не только напечатать свои стихи, но даже просто выступить с чтением стихов на каком-нибудь литературном вечере.
Н. Чуковский. Литературные воспоминания. Стр. 31
От скрещения Брюсова и Бальмонта явился Гумилев.
М. Гаспаров. Записи и выписки. Стр. 233
… а Гумилев писал тогда <…> и пронесут знамена / От Каэро к Парижу <…> Очевидно, предполагался какой-то наполеоновский цикл. (Этого еще не хватало!) (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 273.) Над Гумилевым подсмеиваться позволялось только ей: ему все подвластно, но если еще даже и Наполеон!!
Правда, «Андрей Рублев» написан под впечатлением статьи об Андрее Рублеве в «Аполлоне» – впечатление книжное. (А. Ахматова. Т. 1. Стр. 630.) Журнальное.
А закончилось все прямо-таки жирафом.
* * *
Гумилев, в отличие от Ахматовой, мог стать выдающимся литературным теоретиком – это тот жанр, в котором можно копить, набирать, а недостаточные для создания настоящих стихов – которые не конструируются – способности расцветят литературоведческие работы необходимыми озарениями или хотя бы приятным блеском.
* * *
Ахматова пришла к вдове Гумилева и сурово заявила: «Вам нечего плакать. Он не был способен на настоящую любовь, а тем более – к вам». (О. Гильдебрандт-Арбенина. Девочка, катящая серсо… Стр. 146.)
В те же дивные апрельские дни Гумилев дарит ей [Елизавете Дмитриевой, Черубине], его «царице», прекрасное стихотворение, именно с таким названием. Впоследствии Анна Ахматова настаивала: «Царицу» Гумилев посвятил ей. Но нет, стихотворение написано в апреле 1909 года, в дни, когда бурно развивался роман Гумилева и Дмитриевой. (Л. H. Агеева. Неразгаданная Черубина. Стр. 71.)
* * *
Дмитриева (Черубина де Габриак): Я вернулась совсем закрытая для Н.С. <…> мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за M.A. [Волошина]. (В. Бронгулеев. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Стр. 145.) Черубина де Габриак не была большим поэтом, чем Анна Ахматова, а Елизавета Ивановна Дмитриева – более обольстительной женщиной, чем Аня Горенко. Снижает образ Ахматовой только эта наигранно-отстраненная манера каталогизировать господ, падавших к ее ногам.
* * *
Ахматова твердила, что за всем Гумилевым одна непреходящая любовь к ней: чем больше бабник, тем легче к нему присочинить такую легенду.
М. Гаспаров. Записи и выписки. Стр. 124
* * *
О героине стихотворения «Ужас». По традиции этой женщине-гиене приписывали некий метафорический прообраз. Критикам казалось весьма глубокомысленным отождествлять это исчадие ада с каким-либо реальным женским существом из окружения. Естественно, наиболее пикантным было привлечение для этой цели личности Анны Ахматовой, некоторые высказывания которой как бы подтверждали правомерность такого сопоставления. Какие же? Так, много позднее (много позднее она действительно замкнула на себя всю историю мировой литературы) она писала, что «привыкла (все привычки выдуманы в старости) видеть себя в этих волшебных зеркалах и с головой гиены, и Евой, и Лилит, и девушкой, влюбленной в дьявола, и царицей беззаконий, и живой и мертвой, но всегда чужой». Ах, как красиво! Вероятно, Анне Андреевне импонировали данные отождествления. Ну слава богу, не одна Тамара Катаева видит ее сенильную манерность. Но она, конечно, ошибалась, преувеличивая свою роль в создании этих фантастических образов. Дело обстояло гораздо серьезнее. Да уж, если б дело поэзии Гумилева ограничилось делом воспевания жеманницы в льстящем ей пафосно-банальном ключе – Гумилев все-таки был бы совсем другим поэтом. (В. Н. Бронгулеев. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Стр. 75.)
* * *
Кроме Веры Евгеньевны были еще две сестры – Зоя и Лида. По словам Ахматовой, Зоя в тот период влюбилась в Гумилева, но он не ответил на ее чувство. Иначе его отношения сложились с Лидой <…> У них якобы произошел бурный роман, закончившийся скандалом в семье, и Лида вынуждена была покинуть родительский дом и поселиться отдельно. Однако следует сказать, что все эти сведения нельзя считать вполне достоверными и Ахматова могла исказить события. (В. В. Бронгулеев. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилева. Стр. 100.) Человек, написавший монографию о ранних годах жизни Гумилева, считает вполне вероятным, что Анна Ахматова могла – не ошибиться, не иметь неверные сведения, не воспользоваться чьей-то недостоверной информацией, а – ИСКАЗИТЬ события. Монография, как все, выпускаемое в этой стране, полна пиетета к великой поэтессе, но вот против научной точности не попрешь, и автор старается не заострять уж слишком внимания на открывающихся ему неприглядностях. Да и мы не будем. Хотя Лида – чья-то мать, чья-то бабка, а о ее юности рассказываются неприглядные небылицы, представляющие ее жертвой себя забывшей любви к сердцееду, к рыцарю одной-единственной королевы, которой-то уж ссориться с семьей и поселяться отдельно не приходилось.







