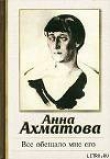Текст книги "Отмена рабства. Анти-Ахматова-2"
Автор книги: Тамара Катаева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Война! 31 августа 1941 года Анна Андреевна звонит маме: «Попросите Бориса Викторовича за мной зайти. Я осталась одна. Мне страшно». Папа немедленно пошел и привел ее на канал Грибоедова. При ней был небольшой чемоданчик, который сопровождал ее во всех ее поездках. <…> Дней десять она прожила у нас на пятом этаже, спускаясь в подвал при каждой воздушной тревоге. В подвале было бомбоубежище. В него выходили все дворницкие комнаты. Дворник с замечательным именем Моисей Епишкин предложил ей свою прихожую. <…> 27 сентября она улетела в Москву, оставив заветный чемоданчик в кабинете Бориса Викторовича. 21 марта 1942 года улетели в Москву и мы. Но всю лютую зиму 1942 года мы прожили в чужой квартире первого этажа. Наверх подняться – <…> могла только я. Мне и было поручено собраться. То есть положить в большой чемодан все самое нужное и ценное. Можно было взять в самолет только пятьдесят килограммов на всю семью.
Конечно, был сохранен весь архив Ахматовой. Увезен в эвакуацию, скитался всю войну с хозяевами. После войны в целости возвращен. Анна Ахматова подвиг оценила, по-царски щедро отплатила:
Подарила! Модильяни! <…>
В 1956-м <…> папа получил в подарок от итальянца-слависта Ло Гатто четырехтомный «Словарь искусств». Роскошный, в супере, с вкладышами на меловой бумаге. Такого мы еще не видели. Я буквально впилась в него. Дойдя до буквы «М», была поражена: Модильяни в числе великих художников! Ему отведено текста не меньше, чем Ренуару. Мчусь на Красную Конницу (там тогда жила Ахматова): «Анна Андреевна, может ли быть, что это тот самый Модильяни?» Ахматова долго читает и перечитывает (она хорошо знала итальянский язык), наконец произносит известную мне сентенцию: «Юноша прекрасный, как Божий день».
Через несколько дней раздался телефонный звонок: «Зоя, это Ахматова. Будет очень скверно, если я отберу у вас рисунок?» Ну что я могла ответить?
http:// news.mail.ru/inregions/st_petersburg
Отобрала не потому, что нахлынули воспоминания, что стало как-то невмоготу без этих линий, без этого живого присутствия, не потому, что привиделось во сне. Нет, просто сначала считала, что Модильяни – никто, а потом узнала (и принесла эту злосчастную энциклопедию, на беду, сама Зоя – такое совпадение, если б не она сама – ей была бы выдана полная тайн и знаков легенда), что тот прославился и стал знаменит – как Ренуар.
В их отношениях, Ахматовой и Модильяни, ничего не изменилось, человек и воспоминания о нем не стали ближе, сердцу не стал дороже человек, глазам нужнее – рисунок. Изменилась только цифра на ценнике.
* * *
Последний раз Тышлер виделся с Ахматовой в 1964 году. Он записал свои впечатления об этой встрече: «Располневшая, она сохранила свой эпический образ, свой «ахматовский» стиль с прибавлением некоторой тревоги внутреннего беспокойства». (Анна Ахматова в портретах современников. Стр. 124.) Найдено точное слово – беспокойство, тревога. Это – не ожидание завершения божественной трагедии, это – суета уходящей в чьи-то чужие руки жизни. Столько пришло в старости – и все придется оставлять. Лев Толстой, который каждый раз находит самые простые – чтобы не было разночтений – слова, «беспокойство» употребляет часто, его живущие интенсивной суетной светской жизнью герои беспокойны часто. Беспокойна Элен Безухова, выходящая на «тай-брейк» своей жизни и выбирающая между иностранным принцем и отечественным сановником, или сводящая загоревшегося брата с Наташей Ростовой, беспокойна измученная супруга Позднышева из «Крейцеровой сонаты» перед необходимым для ничего более не имеющей женщины шагом – изменой мужу. Многое беспокоило и Анну Андреевну перед смертью.
* * *
Итак, сэр Исайя Берлин (тогда еще не «сэр»)переступил порог Фонтанного дома 16 ноября 1945 года – это, конечно, не «конец ноября», как повествует сэр Исайя в мемуарах, написанных тридцать лет спустя, а, скорее, середина месяца, но таких несовпадений с фактами в воспоминаниях немало… (М. Кралин. Сэр Исайя Берлин и «Гость из Будущего», Стр. 197.) Вот это находка, вот это нужный тон, вот это эталонный тон для осмеливающихся писать об Ахматовой. Совершенно идентично по накалу с исследованиями пушкинистов о датировке преддуэльных событий. Свидание у Полетики – до или после получения анонимных писем? До или после женитьбы Дантеса? Ответ на вопросы рассказывает о разных историях, раскрывает самого Пушкина по-новому. 16 ноября – это конец или все же середина со стороны конца осени? Ведь у Ахматовой как ни осень – так трагическая. А некоторые люди легкомысленно дают такие неточные сведения – конец ноября, в то время как – см. текст.
Простишь ли мне эти ноябрьские дни? <…>
Трагической осени скудны убранства.
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом
По осени трагической ступая…
У Анны Ахматовой было некоторое время подумать <…>. Вечер миновал, этим, собственно, можно было и ограничиться. Но впереди маячила – и манила – ночь. И было право последнего выбора (правда, если б Исайя Менделевич знал, какой «выбор» делают за него другие – Михаил Кралин, например, – возможно, и он бы использовал свое право). Выбрать ночь – и остаться поэтом. Она выбрала ночь – и открыла дверь.
М. Кралин. Сэр Исайя Берлин и «Гость из Будущего». Стр. 221
И увидел месяц лукавый,
Притаившийся у ворот,
Как свою посмертную славу
Я меняла на вечер тот.
В том, что Ахматова пострадала из-за своих встреч с сэром Исайей Берлином, С<офья> К<азимировна> была непоколебимо уверена.
М. Кралин. Победившее смерть слово. Стр. 238
За что пострадал добропорядочный семьянин Зощенко?
Смущает не только ее необычная откровенность перед человеком, которого она видит первый раз в жизни. Смущает, кажется непривычной для «бесслезной»
Ахматовой, которую мы знаем по ее стихам, ее слезливость, о которой упоминается трижды («В ее глазах стояли слезы», «она залилась слезами», «ее глаза наполнились слезами»). Невольно, когда читаешь это, вспоминается о водке, выпитой за ужином. Это не роняет, разумеется, достоинство Ахматовой, но лишь по-человечески объясняет некоторые особенности ее поведения, оставленные Берлиным без прояснения. (М. Кралин. Сэр Исайя Берлин и «Гость из Будущего». Стр. 219). Ну а над Толстым, который на трезвую голову пускает, как дурак, слезу, заслышав музыку, конечно, можно посмеяться.
Она переживала муки ревности, и это отразилось в стихах, но бытовые факты советской действительности уже в цикле «Cinque» поданы, так сказать, в иностранной упаковке. И в дальнейшем этим приемом Ахматова пользовалась неоднократно и разработала его виртуозно. (М. Кралин. Сэр Исайя Берлин и «Гость из Будущего». Стр. 205.) То есть вместо «судков с обедами», которые приносил ей уже ушедший к другой, но не переставший быть сердобольным Гаршин, стало «десять лет ходила под наганом», этому иностранцы изумляются вернее.
* * *
Об особом искусстве «чарователя» женщин, присущем Берлину, писала мне в одном из писем С. С. Андроникова, прекрасно его знавшая и видевшая в этом основную «разгадку» романа Берлина с Ахматовой. (М. Кралин. Сэр Исайя Берлин и «Гость из Будущего». Стр. 199). В кавычки, собственно, нужно брать слово «роман», а г-н Берлин к нему и вовсе не причастен. А уж в чем его была вина, почему лестный выбор пал на него – тут г-жа Андроникова, вполне возможно, и права. «Чарователи» гребут одной гребенкой всех подряд. Которые девушки попроще – те поддаются, которые поглубже и посерьезней – не удовлетворяются внешним блеском…
* * *
Берлин – муж-иностранец. Почему бы нет?
Не далось.
Собратья
Бродский однажды сказал, что есть по крайней мере 10 поэтов, которые на одном с ним уровне. Он назвал Володю Уфлянда, Рейна, Бобышева, Наймана, Красовицкого. Я сейчас не помню всех, кто входил в эту десятку. <…> П.: Вам не кажется, что Бродский, при всем осознании своей исключительности, щедро наделяет равновеличием то одного, то другого из своих современников? К.: Вы знаете, мне кажется, что это опять-таки школа Ахматовой. Бродский с большой охотой и с большой симпатией будет говорить о тех поэтах, которые не кажутся ему сильными соперниками.
В. Кривулин. Маска, которая срослась с лицом. Стр. 174
* * *
Как-то Ахматова заметила, что в самоубийстве Марины Цветаевой были, по-видимому, и творческие причины. Это ж надо так исписаться – до крюка. Ну ладно, простим за то, что догадалась вовремя умереть. Так вот, у Анны Ахматовой «творческих причин» для самоубийства никогда не существовало. В этом была особая милость Господня по отношению к рабе Божией Анне. (М. Кралин. И уходить еще как будто рано… Стр. 112.) Все как есть истинная правда – по крайней мере сообщается таким тоном, что не поверить или хотя бы усомниться – невозможно. Как говорил чеховский герой – «На то вы и господа, чтобы знать. Господь знал, кому разум додать». (А. П. Чехов. Злоумышленник.) Про Ахматову все известно. Ну, а про Маринку и задумываться нечего.
* * *
Запись A. К. Гладкова. Когда в ее присутствии хвалят Цветаеву, молчит (хорошо воспитана), но человек этот для нее перестает существовать.
Летопись. Стр. 667
* * *
Запись Д. Е. Максимова: Когда я попросил ее прочитать мне мандельштамовский отзыв о ее поэзии <…> она как будто возразила на это: «Но ведь вы больше любите Марину?!» (Смысл: зачем же читать о ней, об Ахматовой? Вот ведь как смиренна.) Это было сказано с лукавством и с другими соседними более или менее различимыми чувствами.
Летопись. Стр. 532
* * *
О.М. и А.А. по-разному читали поэтов – он выискивал удачи, она – провалы.
Н. Л. Мандельштам. Третья книга. Стр. 111
* * *
Он [Пастернак] подарил ей 7 (или 8?) стихотворений. «Четыре великолепные, а остальные – полный смрад».
Летопись. Стр. 513
* * *
Ахматова на домашнем празднике у Пастернака… А.А. оказалась обладательницей прекрасного аппетита, развеселилась <…> не теряя величавой повадки <…> но – ни огня, ни даже тепла, зоркий холодноватый взгляд на подвыпивших, душа нараспашку, окружающих…
А. С. Эфрон. Летописи. Стр. 507
* * *
…из утомления от стихотворного бума 1962 года, гула стихов над стадионами и притока поэтических новобранцев — то есть оттого, что стихи пишет не только Анна Андреевна, у нее рождаются строки:
[Боже, все затрогано стихами]
Все в Москве затрогано стихами,
Рифмами проколото насквозь.
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 177
Как тут не вспомнить чью-то омерзительную любовь – и автора трудно назвать «Анной Ахматовой» – не потому, что марка эта слишком высока – не слишком – но просто любое имя с фамилией, в той форме, как принято писать имена поэтов, не особенно подходит для такого. Брезгливое старушечье разгоряченное брюзжанье, шипенье Анны Андреевны – это да.
* * *
…ср. ее фразу о Маяковском: «Жаль, его в семнадцатом году шальной пулей не убило». Будто бы проявляется величие Ахматовой – поверх обывательской заботливости сожаление о неразыгравшемся красивом сюжете — этот мотив связан у А.А. с темой перелома поэтовой судьбы. (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 601). Был бы понятен и похвален такой принципиальный взгляд – если б сама Ахматова десятилетиями не носила в сумочке (впрочем, газетная бумага бы не выдержала, значит – десятилетия спустя положила в сумочку) заметку такого же запальчивого ревнителя завершенности поэтессовых судеб, назвавшего ее женщиной, опоздавшей родиться или забывшей вовремя умереть. Она заметку показывала всем, и «люди» до сих пор ужасаются. Хотя у г-на Перцова все-таки как-то без подробностей – чем умертвить, когда именно… Макабрическое литературоведение – неплохо бы тогда и Пастернака под утренние поезда подтянуть для ловкости композиции. Пастернак замолчал после 17-го года… Ну и умолкни навеки! С Мандельштамом и Цветаевой поэтова судьба поступила гуманно. Какую биографию сделали нашим кудрявым!
* * *
Знаю, что А. потом в 1916-17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама – одна из самых больших моих радостей за жизнь. – «Этого никогда не было. Ни ее стихов у меня в сумочке, ни трещин и складок». Учитывая, что Ахматова носила в сумочке письма-признания от циркача-канатоходца синьора Вигорелли с приглашением в Италию, какого-то француза с мимоходным именованием ее grand poet'ом, любовное от Пунина (доставала и доставала из сумочки, читая всем подряд в Ташкенте; Пунин сам удивлялся, зачем писал его – не ей и не о ней, – и это еще не зная о складках, трещинах и чтении вслух письма знакомым и полузнакомым), – то, может, лишнее, проходное, мало что значащее, хоть и ранящее талантливостью, подношение Цветаевой все-таки носила.
* * *
Ну и что, что было влияние? У всех было влияние, никто не свалился с Луны. Найдя предшественника, того, у кого было что-то стянуто, Ахматова немного успокаивалась, притишала боль.
У нас, – сказала она, – сейчас страшно увлекаются Цветаевой, но я считаю, что это отчасти потому, что у нас совершенно не знают Белого, а у Цветаевой очень много от Белого.
Н. Струве. Восемь часов с Ахматовой
* * *
О Муре. Если бы она губила его в пылу борьбы с Цветаевой, не замечая, кто жив и кто умер, и только потом, опомнившись, – покаялась! Тогда ее можно было бы простить.
А так – она упорствовала до последнего. В шестидесятых годах рассказывала Бобышеву о панельном мальчишке – зная, что он погиб, что он погиб сиротой, что у него никого не было.
Слова прощенья и любви… – где-то услышал у нее Бродский, в тексте, который зашифрованно, настойчиво надиктовывала она ему для канонизирующего использования.
Ахматова не только обладала необыкновенной памятью, но нередко была несправедливо злопамятной. Не умела и не хотела прощать.
С. Коваленко. Анна Ахматова. ЖЗЛ. Стр. 168
Не простила за мать и за его собственный, слишком пристальный, молодой – что еще вырастет из волчонка! – взгляд.
* * *
О фамильной черте – зависти (по Ирине Одоевцевой).
Гумилев: Левушка весь в меня. Не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет, чтобы ему завидовали. В подтверждение вышесказанного Николай Степанович приводил такой факт. Они с сыном ехали в трамвае, и тот радовался, глядя на прохожих за окном: «Папа, ведь они все завидуют мне, правда? Они идут, а я еду!» (В. Н. Демин. Лев Гумилев ЖЗЛ. Стр. 26).
* * *
Она выписывает о заимствованиях Пушкина из Шенье; наверное, знакома с мыслями Мандельштама о Шенье. Может, поэтому она не хотела, чтобы издавали Мандельштама в шестидесятых годах?
* * *
Вышел однотомник Цветаевой. «Она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 143.) Великодушно и величественно. Записано ее собственной рукой. Железное алиби и ответ всем многочисленным наблюдателям, бесконечно видевшим только ревность, зависть, недоброжелательство. Ничего подобного, высказалась однозначно – и подготовлено под реплики: «Что вы, королева у нас одна! Где там «навсегда» – это только мода». Проговорилась: В СВОЮ Москву. Пусть. А она, Ахматова, пусть останется хоть тогда и не царицей Всея Руси, но хотя бы петербуржанкой. Императорство, столица, окно в Европу, мировая культура… Будет разделение, всего не отдадим. Коссаковская как-то говорила [Пушкину]: «Знаете ли, что Ваш Годунов может показаться интересным в России?» – «Сударыня, так же, как Вы можете сойти за хорошенькую женщину в доме вашей матушки». (О. С. Павлищева в письме мужу.) Цветаева должна знать свое место. В Москву!
А не продавался ли однотомник и в Ленинграде?
* * *
Ты МЕНЯ любила и жалела,
Ты МЕНЯ, как никто, поняла.
ТАК ЗА ЧТО ЖЕ твой голос и тело
Смерть до срока у нас отняла? (Выделено T.К.)
То есть предназначение свое в жизни Марина Ивановна выполняла исправно, работать бы еще и работать (любить и понимать Анну Ахматову) – до пенсии, до срока, никаких претензий нет – и на тебе, отнимают такую работницу. ЗА ЧТО лишать жизни Марину Цветаеву, если Анну Андреевну она – любила?
* * *
В 1913 году Ахматова выступала вместе с Игорем Северяниным и уже через четырнадцать лет говорила Лукницкому о влиянии Северянина на творчество высоко ценимого ею Бориса Пастернака.
В А. Шошин. Выступления А. А. Ахматовой. Материалы ПЛ. Лукницкого. Стр. 133
* * *
А я очень обижена за А. Блока. Какой же он тенор эпохи? Вроде Лемешева или еще ниже? Как же так? <…> Я позвонила Цявловской и спросила, как она смотрит на это звание? <…> Цяв<лов>ск<ая> ответила: «Это месть». – «За что?» – говорю я. – «За то, что он не был влюблен в А.»
Н. Чулкова. По: Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 511–512
Ко всем своим бывшим мужьям и любовникам относится враждебно, агрессивно.
М. Кралин. Победившее смерть слово. Стр. 227
Подруги Ахматовой Раневская и Островская наперебой упоминают «мужей» Ахматовой. «Ко всем вашим мужьям теперь будет прибавляться такой-то. Плюс такой-то», – плещет фимиамом Раневская.
Не враждебно и не агрессивно Ахматова относилась только к Гумилеву – тому, кто женился.
Ну и потом, после того, как Акела промахнулся на Гаршине, она весьма расчетливо взяла на себя тон быть снисходительной, ироничной, загадочной – к Берлину, к Бродскому, к Найману. Здесь бы агрессии никто не потерпел, развернулись бы и ушли.
* * *
Именно в связи с Ахматовой В. Топоров пишет о жанре «посмертных писем». (Е. Орлова. Литературная судьба Н. В. Недоброво. Стр. 53.) Если б письма и поэмы Ахматовой были в этом жанре! Но она и с живыми обращается бесцеремонно, как с мертвыми. Про мертвого Пастернака говорит, что тот три раза хотел жениться, про живого Берлина – что организует для нее Нобелевские премии.
* * *
Наполеона все любят, все в него влюблены. Все к нему примеряются (все его ловят). Анна Ахматова вздыхала, что над нею опять не просто небо – а небо Ватерлоо, и Марина Цветаева – кого только не любила, а уж Наполеона и Пушкина – это уж обязательно. И любовь эта кажется совершенно естественной, не называется безвкусной; смешной – да (если нет чувства юмора), достойной насмешки – нет, потому что Цветаева держит все эти любовные истории в сфере своих фантазий, своего мира – любви и поэзии, а Анна Ахматова – в сфере мнимой реальности, быта, житейских обстоятельств. Случись хоть что-то по молодости с Блоком – были бы невзначай упоминания о хлопотах по переезду на дачу, о расчете экономки, о найме зимней квартиры. Если ей хотелось быть замужем за русской литературой, то, вот беда, не в высоком, отвлеченном – вернее, не только в этом смысле, – а она хотела быть женой реальной, деятельной, мнимо приземленной, уставшей от тяжкого, избранным дарованного бремени.
* * *
А бешеная кровь меня к тебе вела…
Вот он – взрыв эротической энергии, едва ли не единственный, в сдержанной, в целом, поэзии Ахматовой.
М. Кралин. Артур и Анна. Стр. 274
Ирина Грэм – последняя подруга Артура, богатая вдова, познакомившаяся с ним в Америке, когда ему было самое начало седьмого десятка, когда никто не хочет верить очевидному. «Когда вспоминаю о мгновениях предельной близости с Пусикатом (красноречивое прозвище!) – мороз по коже. Он был настоящим мужчиной – умел дать женщине подлинное наслаждение. Блаженство!». Вот здесь и «зарыта собака». В этом – разгадка обожания Ириной Артура». (М. Кралин. Артур и Анна. Стр. 162.)
И – благодарности Ахматовой его памяти? Плюс – труднодоступность для проверки из-за железного занавеса, действительно ли он «гремит там»? В любом случае он – композитор. Живущий на Западе. Живущий на Западе русский композитор. Что-то вроде Игоря Стравинского. «Кажется, гремит там». Даже про Артура Лурье – разведется или нет?
Женится он на ней или нет? В трех историях – и Гаршина, и Берлина, и Пастернака – один и тот же мотив, одна мелодия – женитьба. Все вертится только вокруг этого. Не слишком романтично. Почему она не рассказывала, что Пастернак был в нее безумно влюблен – три раза? Потому что ей никто бы не поверил. Три раза предлагал жениться – это пожалуйста. Хотя – почитайте хронику его семейной жизни – где тут можно втиснуть такой опереточный брак? Но не поверить – это же значит назвать Ахматову лгуньей?
Жен писательских она не не любила – ненавидела. Тех, на ком ЖЕНИЛИСЬ. Не слишком достойные гениев ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ – это еще ничего, жен – прощать нельзя. Аполлинария Суслова – бог с нею, Анна Григорьевна – вот кто свел Достоевского в могилу.
* * *
Александр Блок не будет прощен никогда. В таких случаях мне почему-то (потому что Блок – это тот, который НЕ ЗАХОТЕЛ. За это он получит по полной программе) – вспоминается Блок, который с таким воодушевлением в своем дневнике записывает всю историю «Песни Судьбы». Мы узнаем имена всех, кто слушал первое чтение в доме автора, кто что сказал и почему. Видно, А<лександр> А<лександрович> придавал очень важное значение этой пьесе. А я почти за полвека не слышала, чтобы кто-нибудь сказал о ней доброе или вообще какое-нибудь слово (бранить Блока вообще не принято). (26 августа 1961.) (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 219–220.) Ну, приврал малость в дневничке Александр Александрович. Или чудились ему голоса – кто и что сказал, виделось – кто был в его доме при первом чтении. Между тем Блок на следующий день после чтения привычно, безо всякого воодушевления, и особенно ТАКОГО воодушевления, записал в дневнике в самом своем обстоятельном и сдержанном духе факт события, перечислил гостей и кто что сказал. До «почему» не дошло. Резюмирует: И я люблю теперь эту вещь более всех, написанных мной: она – значительнее всех. (А. Блок. Дневники. Стр. 106.) Заметьте – никакой магии ритма, волшебства видения – как там Ахматова расписывает свои произведения.
Далее на пятидесяти страницах Анна Андреевна описывает, что она думает о своей поэме и перечисляет списками и поврозь мнения различных реальных и выдуманных людей (мнения тоже реальные или ахматовские, вложенные им в уста).
* * *
Говорили о Блоке, А.А. сказала: «У него был пустой, отсутствующий взгляд. Он всегда смотрел поверх собеседника. Вот так. И шея, красная, как у мастерового, знаете, как от загара у некоторых белобрысых людей, у альбиносов, например. Или как у некоторых немцев».
Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 229
* * *
Знаменитое «вставание» произошло не на каком-то плановом, всеобще-официальном литературном мероприятии. А на вечере памяти БЛОКА. А уж кем она приходилась Блоку в народных чаяниях – напоминать не приходится. Во всяком случае, кем-то со вполне достаточным статусом, чтобы почитателям БЛОКА встать при ЕЕ появлении. Для нее это был наглядный пример того, как легко можно добиваться своих целей.
* * *
Бродский дал неверную – в таких случаях правильнее сказать (поскольку о неверности был прекрасно осведомлен он сам и передергивал с определенной целью) – лживую, но дающую биографиотворческим потугам Ахматовой благопристойный вид характеристику: Ее сантимент к Гумилеву определялся просто – любовь. Сантимент к собственному творчеству – тоже. За любовь, пусть и к себе, ее можно бы было простить – но она в своей беспомощно старческой (юношеской? ее юность была ТОЙ ЖЕ любовью) «Прозе к поэме» находит время посвятить большой кусок ненависти к Блоку – пишет обстоятельно, тонко, ядовито. Вот уж действительно каждое слово прошло через автора.
* * *
Вот как Ахматова возмущена тем, что ее стихотворение посмели сравнить со стихотворением Пастернака. Про «Оду» – совершенно неверное суждение о ее близости к «Вакханалии». Здесь (у нее самой, у Ахматовой) <…> — дерзкое (часто употребляемое Ахматовой пафосное словцо для обозначения своих воображаемых новаторств) свержение «царскосельских» традиций от Ломоносова до Анненского (в промежутке – кудрявый лицеист и дачник с поредевшей шевелюрой, свергаем без всякой жалости) и первый пласт полувоспоминаний, там (у Пастернака) – описание собственного «богатого быта». (Р. Тименчик. Анна Ахматова в 1960-е годы. Стр. 586). А вы говорите: «Нас четверо»! Только сравните, только вдумайтесь! Она еще им польстила.
* * *
Я сегодня поняла в Паст<ернаке> самое страшное: он никогда ничего не вспоминает… (Записные книжки. Стр. 188). Ну и слава богу, что ничего пострашнее за Пастернаком не числится. Хотя, как видно из конструкции фразы, Анна Андреевна могла бы предъявить целый список. Если б Пастернак знал, что он обязан предаваться воспоминаниям, и что кто-то учитывает его воспоминания, и если он не воспоминает – значит, он страшен…
А в заповедях ничего не сказано о воспоминаниях. Не забивайте себе голову: не вспоминается – не вспоминайте, живите чем-то другим, чем вам живется. Пастернаку вот все-таки удалось.
* * *
2 сентября 1961 г. Начало работы над очерком «Путь Пастернака». (Летопись. Стр. 568.) Очерк, очевидно, предполагалось наполнить не самыми, но все-таки тоже достаточно страшными вещами: об обязательности воспоминаний и т. д. Одно утешение – таких «очерков» Анна Андреевна не имела обыкновения доводить до конца.
* * *
Слова о Пастернаке ядоточивы не менее, чем о Блоке, хоть по виду – струйка меду: Писать широко и свободно. (Это установка. Легкоисполнимая, разумеется.) Симфония («симфония» – это всегда ее поэма, как-то так получилось, что о ее «Поэме без героя» все, будто сговорившись, объяснялись только в музыкальных терминах). Отзывы Б. Пастернака… Пастернаку не нравилась ее «Поэма без героя», он считал ее сделанной и манерной, но ему проще было проявить вежливость, чем вступать в ненужные объяснения. (И не потому, что я верю, что он, Борис, так думал (это она кокетничает. Ведь верит и не такому – верит самой собою сочиненным безудержным несуразным похвалам, а пастернаковская кажется ей и слишком сдержанной, но ЛЮДЯМ надо внушить, что похвалы Пастернака даже чрезмерны, а то и они, чего доброго, проникнутся его скептицизмом <…> но уж очень у него, по его гениальности, прелестно сказалось) (А. Ахматова. Т. 3. Стр. 235). Представьте, что кто-то так прелестно осмелился бы выразиться о творчестве самой Ахматовой – в чем бы такого переполненного коммунальной язвительностью критика не обвинили бы!