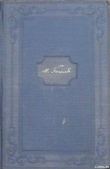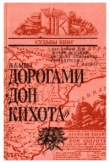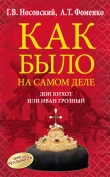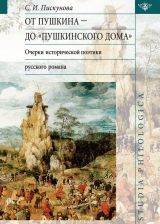
Текст книги "От Пушкина до "Пушкинского дома". Очерки исторической поэтики русского романа"
Автор книги: Светлана Пискунова
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Одна из его вершин – Ганя Иволгин – к концу первой части романа «провисает», так как весь содержательный потенциал, заложенный в этом персонаже, оказывается почти исчерпанным. Его место неожиданно занимает князь Мышкин, в результате чего образуется новая – иначе соотнесенная – четверица героев, связанных отношениями притяжения-отталкивания, чувством любви, соединенным с ненавистью или, хуже того, с безразличием, а то и презрением57.

Восходящее к книге К. В. Мочульского, распространенное в критике представление о «единодержавии» героя романа «Идиот» (необходимое условие «христоцентризма») порождено несоответствием реликтового «единоличного» названия романа, сохранившегося от в корне изменившегося первоначального замысла, и его реальной многогеройностью. Обычно мысль о том, что целое романа держится на фигуре князя, подкрепляется обрываемым на полуслове известным признанием писателя, содержащимся в письме А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 года (12 января 1868): «Но целое? Но герой? Потому что целое у меня выходит в виде героя. Так поставилось…» (28, кн. 2, 241). Однако пафос письма заключается не столько в отождествлении романного целого и героя (в этом ни для автора письма, ни для адресата нет ничего нового: такой принцип построения Достоевским был выдержан в «Преступлении и наказании»), а в последующем признании: «И, вообразите, какие, сами собой, вышли ужасы: оказалось, что кроме героя, есть и героиня, а стало быть, ДВА ГЕРОЯ! И кроме этих героев есть еще два характера – совершенно главных, то есть почти героев… Из четырех героев – два обозначены в душе у меня крепко, один еще совершенно не обозначился, а четвертый, т. е. главный, т. е. первый герой – чрезвычайно слаб…» (там же). Из письма явственно следует, что «держателем» единства романа изначально оказывается не один Мышкин. По крайней мере, не он один. Достоевский ясно сознает, что при наличии главного героя, целое романа держится не на нем одном, а, по меньшей мере, еще на троих героях, на всех четверых. В конечном счете, на тех самых, которые в кульминационный – непосредственно ведущий к трагической развязке – момент развития действия во второй половине романа сойдутся в доме Дарьи Алексеевны в Павловске: «…поджидавший Рогожин впустил князя и Аглаю и запер за ними дверь. „Во всем доме никого теперь, кроме нас вчетвером“, – заметил он вслух и странно посмотрел на князя…» (468). Между ними – четырьмя – все и решится. Развитие взаимоотношений фигурирующих в вершинах квадрата лиц58 и создает динамику «главного сюжета» романа, какие бы эзотерические смыслы исследователи в эту формулу Достоевского из подготовительных материалов к роману ни вкладывали.
Однако нельзя не признать, что в «кватерниорный» любовный конфликт, на котором держится сюжет «Идиота», фактически включен фантом Мышкина, его образ, по-разному складывающийся в глазах разных персонажей, посюсторонний мифический двойник князя («идиот», потенциальный богатый жених, классовый враг-аристократ, романтический герой-спаситель и т. п.). Подлинный, реальный князь находится над любовным сюжетом, на вершине пирамиды, для которой обозначенный выше квадрат является основанием.
Так что если Мышкин и «стоит в центре как композиционный стержень»59, то не в сюжетном центре романа, не в скрещении романных судеб, а в центре смысловом, символическом. На вершине пирамиды он – один: подле – никого, за исключением разве что автора60, да детей (в так и не осуществившемся замысле развития повествования).
Основанию и вершине пирамиды соответствуют два плана романа, о которых пишут многие его исследователи, именующие эти планы по-разному: реальный и метафизический, реальный и фантастический, реалистический и мистический, явный и потаенный. Мы предпочли более широкое и структурно-ориентированное разграничение – план горизонтальный и план вертикальный. С любовным сюжетом, разворачивающимся в горизонтальном плане, в реальном мире (Петербурге и его пригородах, Москве и провинции), скрещиваются пролегающие с ним в одной плоскости сюжеты авантюрно-плутовского повествования (история с сыном-самозванцем Павлищева, интриги Лебедева и т. п.), идеологического романа (судьба и бунт Ипполита), журнального фельетона и газетной хроники. План вертикальный, мистический, включает в себя не только евангельские ассоциации, мотивы Апокалипсиса, гностическую и иную мифопоэтическую образность (мотивы земного рая, творца-демиурга), но является местом развертывания рассказа-исповеди Мышкина о его жизни в Швейцарии.
Весь вопрос в том, как рассматривать соотношение двух планов. Для большинства исследователей, видящих в Мышкине христоподобное существо или воплощение авторского намерения сотворить таковое, чтобы продемонстрировать тщетность любых человекобожеских притязаний, план мистический практически полностью заслоняет план романный: «Сюжет "Идиота", – пишет в другой работе Г. Ермилова, – …двуплановый: на поверхности – "бесконечность историй в романе", в глубине – течение "главного сюжета"»… «Главный», «неисследимый сюжет "Идиота" раскрывается в глубочайших пластах поэтической метафизики романа, в его христианской эзотерической символике»61. То есть «главный сюжет» романа – нечто бессюжетное, скопище эзотерических и посему достаточно вольно и изощренно трактуемых символов, что отличает подход не только Г. Ермиловой, но и Т. А. Касаткиной, интерпретирующей образ князя Мышкина в совершенно отличном от Г. Ермиловой духе: «У Достоевского совокупность символических деталей, – пишет Т. А. Касаткина, – создает весь смысловой объем текста… Доступный для прочтения лишь из сюжета смысл произведений Достоевского или простоват, или нелеп. Ибо он не там, не в сюжете заключен»62. Правда, тут же Касаткина оговаривает, что у Достоевского (в отличие от Гоголя) смысл – и в детали, и в подтексте, и в сюжете. Но сам сюжет – основание пирамиды – интерпретаторами романа в аспекте «религиозной филологии» практически игнорируется. Все их внимание – к вершине (или к глубине, что одно и то же). События, описываемые в романе, все иные герои, окружающие Мышкина, – мельтешенье теней, заслоняющих подлинный – христианский – смысл повествования. Как ни парадоксально, но именно при таком подходе две ипостаси образа князя Мышкина – «реальная» и «идеальная» – «слипаются», и героя начинают судить и как несостоявшегося жениха, и как не реализовавшего своих целей пророка.
Как нам представляется, адекватнее воспринимают роман Достоевского те ученые, для которых два плана романа по меньшей мере равноправны. На диалогическом сопряжении этих планов и выстраивается художественное целое романа «Идиот», но и – художественное целое романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», а также большинства романов раннего Нового времени. Сопоставление романов Сервантеса и Достоевского предоставляет нам возможность еще раз оспорить распространенное заблуждение относительно самой природы романа как жанра. «Роман, ведущий и, я бы сказал, специфический жанр Нового времени, – пишет Г. Померанц, – чрезвычайно упорно сопротивлялся всякому „прикосновению мирам иным“. Попыток было много, но ни одна не получила серьезного признания. Только Достоевский пробил брешь в этом сопротивлении жанра…»63. Однако раннеевропейский роман (как затем – роман романтический или символистский) существует именно на линии соприкосновения этого, посюстороннего, и «иного» мира. Так, в «Дон Кихоте» есть свое «метафизическое» измерение, наличие которого читатель-христианин Достоевский не мог не ощущать. Сам герой Сервантеса (о чем уже упоминалось) сотворен с оглядкой на идею «подражания Христу». На образ Голгофы. Но одновременно и на карнавальный образ Великого Поста, а также – и прежде всего – на новохристиански пере осмысленную семантику жатвенного ритуала, соотнесенного с одной из ключевых мифологем раннеевропейского романа – с таинством евхаристии, которое постоянно пародируется (речь идет о сакральной пародии!) европейскими романистами64. В «Дон Кихоте» в глубине авантюрно-пародийного сюжета и иронического повествования о похождениях Рыцаря Печального Образа заключен христианско-гуманистический идеал единения людей во Христе, переведенный на своего рода ритуально-мифологический код. Таким кодом в «Дон Кихоте» является растительная символика, включающая в себя мотивы зерна, обмолота, последнего снопа и другие элементы жатвенного ритуала65, переосмысленного в духе превращения собранного на библейских полях урожая в хлеб Нового Завета, в плоть Христову. Но этот символический план романа никак не заслоняет план комических похождений Рыцаря Печального Образа, а лишь придает ему глубину. История безумного ламанчского идальго интересна и автору, и читателю не меньше, чем судьба соборного целого.
Трагическая судьба Льва Николаевича Мышкина – человека, увы, не вполне «положительно прекрасного», грешного, сознающего свою вину (перед Аглаей в первую очередь), су́дьбы Настасьи Филипповны, Аглаи, одержимого Рогожина, смертельно больного Ипполита, «бессмертного» шута и интригана Лебедева и его детей – су́дьбы героев романа Достоевского – интересны читателю Достоевского (да и самому автору) не меньше, чем судьба человечества.
Раздираемый любовью к Аглае, жалостью к Настасье Филипповне, братской привязанностью к Рогожину и сознанием необходимости всячески препятствовать осуществлению надежд «побратима», князь Мышкин – персонаж горизонтального плана – выглядит обреченным (на нем лежит трагическая вина!), несостоятельным, невоплотившимся… Неслучайно после слов о том, что образ князя в романе составляет «духовный смысл действия», Мочульский вынужден признать: «А между тем Мышкин для нас неуловим…»66.
Главный парадокс романа Достоевского состоит в том, что сюжетно недовоплощенный герой, герой-«недоносок», по жесткому и точному определению С. Г. Бочарова67, занимает смысловой (но не композиционный!) центр в романе о воплощении. При этом тему воплощения в «Идиоте» ученый трактует как «центральную христологическую идею романа»68. Но и в «Дон Кихоте» тема воплощения (книжного слова – в жизнь, жизни – в печатное слово) является жанрообразующей. При этом акт воплощения словесной «реальности» рыцарских или пасторальных «ромэнс» в деяния сошедшего с ума престарелого идальго сопровождается у Сервантеса карнавальным, снижающим и вместе с тем возвышающим героя смехом. Этот праздничный смех, объединяющий персонажей романа Сервантеса в народное целое, сменяется в «Идиоте» антикарнавальным барочным хохотом или потаенной, недоброжелательной насмешкой. Кардинальное различие в тональности и в направленности смеха Сервантеса и Достоевского-создателя «Идиота»69 устанавливает границы сходства двух романов, созданных на заре и на закате Нового времени.
С. Г. Бочаров очень точно определяет князя Мышкина как «обратную проекцию идеальному образу»70. Такой же «обратной проекцией» по отношению к роману Сервантеса – за исключением сохраняющейся и в проекции «формы плана» – оказывается во многом и сам роман Достоевского, в котором представлен «серьезный» Дон Кихот, в качестве оруженосца Рыцаря выступает еще больший донкихот – подросток Коля, а «побратим» князя из народа Рогожин воплощает не бытийное веселье, а смертный страх, не плотские утехи, а извращенно-аскетическую чувственность, роман, в котором донкихотствуют прекрасные дамы, взрослые кажутся детьми, а дети – состарившимися взрослыми…
Роман Достоевского возвращает читателя в зооморфный Древний (до рождества Христова существовавший) мир, мир Ветхого Завета и греческой трагедии, выстроенный вокруг образа приносимой в жертву плоти, заклания, разъятия, разложения… Взамен полей колосящейся пшеницы, среди которых держат путь герои Сервантеса, на страницах «Идиота» лишь мелькнут ворох срезанных красных камелий, деревья в кадках на террасе дачи Лебедева, цветы, разбросанные вокруг кровати, на которой лежит убитая Настасья Филипповна, да горшки с цветами матери Рогожина, которые убийца думал было перенести в спальню, да побоялся71… В то же время дохристианский природный мир трансформируется у Достоевского в мир «равнодушной природы», в постхристианскую современность. В мир кануна Страшного суда.
Поэтому и входящий в евхаристический сюжет, наряду с мотивом хлеба, мотив вина, метафорически претворяемого в кровь на постоялом дворе в эпизоде сражения Дон Кихота с винными бурдюками, обращается в «Идиоте» разгульными возлияниями в честь «епископа Бурдалу», а красной «бордо» оказывается «бурдой», из которой возникает несчастный двойник Мышкина Бурдовский. «Все нравственно пьяны» (9, 277), – отмечает Достоевский в записной книжке от 8 сентября 1868 года72. Это состояние, согласно замыслу, должно было охватить даже князя – состояние, в котором весь окружающий мир утрачивает четкие очертания, расплывается, развоплощается.
Тема развоплощения – оборотная сторона темы воплощения – присутствует как у Сервантеса, так и у Достоевского. Но у Сервантеса она в полную силу звучит под занавес, в финале Второй части – там, где Алонсо Кихано сбрасывает с себя облачение Дон Кихота Ламанчского. Там, где подставной автор Сид Ахмет Бенехели прощается со своим пером, запечатлевшим похождения рыцаря Печального Образа, сведения о которых были погребены в «архивах Ламанчи». Роман Сервантеса рождается из Письма, в конечном счете вновь становящегося достоянием печатного станка.
Судьба Мышкина и других героев «Идиота» – предмет слухов (устного, летучего слова) или же переписки тех или иных лиц (способ распространения слухов на расстоянии). Даже запечатлеваясь в «плоти» романного слова, история князя тут же развоплощается, поскольку, как прекрасно показано в уже упоминавшейся работе Г. С. Морсона, само существование романа «Идиот» в читательском восприятии «процессуально». Роман Достоевского, по мысли американского ученого, незавершен, недовоплощен. «Идиот», – пишет Г. С. Морсон, – бросает вызов по существу всем поэтикам от Аристотеля до наших дней, постольку поскольку поэтики разных школ настаивают на некоторой версии целостности и единства построения, необходимости каждой детали для целого и такой формы завершения, которая разрешает всякую неопределенность»73. Правда, при этом Морсон отмечает, что произведения, подобные «Идиоту», встречаются в мировой литературе, приводя в пример «Тристрама Шенди» и «Евгения Онегина». Открывается же этот ряд «Дон Кихотом»74, о котором Морсон на сей раз почему-то не вспомнил.
Но в «незавершенности» «Дон Кихота» и «Идиота» есть свои нюансы. Смерть «доброго» христианина Алонсо Кихано знаменует его духовное спасение. Однако его предсмертное отречение от роли Дон Кихота не связано с авторским развенчанием самой сути донкихотовских упований. Образ Дон Кихота обретает свое бессмертие – в «теле» и духе романа Сервантеса.
Духовная смерть Мышкина – его неизлечимое безумие – сопряжена с сохранением лишь физического тела князя. Повествование о дальнейшей участи других героев романа полностью перемещается на плоскость. Тут-то и происходит акт, если не отречения от донкихотизма, то кардинального переформулирования его сути. Лизавета Прокофьевна, чей образ сориентирован не только на Дон Кихота, но и на его потомков – классических чудаков английского романа XVIII столетия, нелепых добряков, живущих сердцем, – восклицает решительно: «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить» (8, 509). Слова Лизаветы Прокофьевны, перекликающиеся все с тем же эссе о Меттернихах и Дон-Кихотах, апеллируют к Дон Кихоту не только серьезному, но и разумному. Они адресованы Евгению Павловичу Радомскому, воплощению здравого смысла, играющему в романе роль резонера, а под конец и Deus ex machina. При сем присутствует совершенно не узнающий Лизавету Прокофьевну князь, от лицезрения которого всякий донкихотизм, впрямь, «пропасть может».
Примечания
1 См.: Morson G. S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky's Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Austin: University of Texas Press, 1981.
2Маркович В. О соотношении комического и трагического в пьесе Гоголя «Ревизор» // Гоголь как явление мировой культуры. М.: ИМЛИ РАН, 2003. C. 149.
3 Там же.
4 Характеризуя особый латиноамериканский тип творческой индивидуальности, известный культуролог-латиноамериканист В. Б. Земсков утверждал, что в Латинской Америке «художник выполняет демиургическую роль», поскольку «латиноамериканский творец – это, прежде всего, жизнесозидатель, и Слово для него является орудием мироустроения» (История литератур Латинской Америки. Очерки творчества писателей XХ века. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 13).
5 См. след. главу этой книги, а также: Пискунова С. И., Пискунов В. М. Культурологическая утопия Андрея Белого // Вопросы литературы. 1995. Вып. III.
6Иванов Вяч. Собрание сочинений. Т. IV. Брюссель: Foyer Oriental Chretien, 1987. С. 427.
7 Там же.
8 Там же. С. 491.
9 См., в частности, подготовленный Т. А. Касаткиной сборник работ русских и зарубежных исследователей: Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М.: Наследие, 2001.
10 С учетом известной (далее дважды повторяющейся) пометы Достоевского от 9 апреля 1868 года. на полях одной из тетрадей, содержащих подготовительные материалы к роману «КНЯЗЬ ХРИСТОС» (см.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 9. Л.: Наука, 1974. С. 246).
11 Об этом хорошо сказано в книге Г. К. Щенникова «Целостность Достоевского» (Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001. С. 24 и сл.). Его критику «христоцентристского» подхода к интерпретации романа «Идиот» мы в целом разделяем, не соглашаясь, впрочем, с идеализирующей интерпретацией образа князя Мышкина, предлагаемой ученым.
12 Столь же поразительно двойственны (если брать критику в целом) или антагонистичны оценки всех других героев романа, прежде всего Настасьи Филипповны, Рогожина, Аглаи, Лебедева, Радомского.
13 См.: Ермилова Г. Г. Тайна князя Мышкина. Иваново: Изд-во Ивановского ун-та, 1993.
14Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество // Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 390. Г. Ермилова, в конечном счете, соглашается: «Достоевский поставил перед собой задачи, превышающие литературные…» (Ермилова Г. Указ. соч. С. 38).
15Лукач Д. Теория романа // НЛО. 1994. № 9. С. 47.
16 Так звучит данная автором в Прологе к Первой части характеристика героя Сервантеса в пер. Н. М. Любимова.
17 См.: Щенников Г. К. Указ. соч. С. 24 (в этом ряду оказываются, к примеру, и Татьяна Ларина, и Белкин, и некрасовский Влас). Не будем говорить и о персонажах советских житийных эпосов типа Павла Корчагина, а также житийных эпосов контрсоветских, вроде доктора Живаго.
18 В современной культурологии персонажи, подобные гётевскому «демоническому существу», именуются «трикстерами». Лебедев – блестящий пример такого амбивалентного персонажа, творящего и зло, и добро, связующего своими интригами и проказами всех и вся, способного и к духовному взлету, и к нравственному падению. Потому-то он у Т. А. Касаткина – демонический «хозяин князя», а у Г. Ермиловой – «почитающий Oтца Небесного» (см.: Касаткина Т. Лебедев – хозяин князя // Достоевский и мировая культура. 1999. № 13; Ермилова Г. Восстановление падшего слова, или о филологичности романа «Идиот» // Достоевский и мировая культура. 1998. № 12).
19 Там же.
20 С точки зрения стилевой или «направленческой» типологии историко-литературного процесса, следует говорить о сентименталистской (а также рокальной) традициях, отказываясь, вместе с тем, от историцистского представления о смене направлений в литературе, схожей с мельканием вагонов в поездном составе, наблюдаемом с платформы: вагоны шли привычной линией… Прошел «классицизм»… Потом – «сентиментализм»… Потом – «романтизм»… Ничего не проходит. Все остается. Тот же сентиментализм, который и в 1840—1860-е годы, как показано в глубоком исследовании М. В. Иванова (см.: Иванов М. В. Судьба русского сентиментализма. СПб.: ФКИЦ «Эйдос», 1996), оставался вполне продуктивным стилем (или направлением).
21 Предлагаемое Г. Лесскисом (см.: Лесскис Г. Лев Толстой (1859–1869). Вторая книга цикла «Пушкинский путь в русской литературе». М.: ОГИ, 2000) определение жанра «Войны и мира» как идиллии кажется нам очень точным и не менее правомерным, чем общепринятое «роман-эпопея».
22 Трансформация мифологемы «Дон-Кихот» в восприятии Достоевского досконально исследована Ю. Айхенвальдом (См.: Айхенвальд Ю. Дон Кихот на русской почве. Т. 1–2. М.; Минск: Ю. Айхенвальд (наследники), 1996).
23Альми И. Л. О сюжетно-композиционном строе романа «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. Указ. изд. С. 442.
24 О францисканской «составляющей» «Дон Кихота» см.: Пискунова С. И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–XVII веков. Изд-во МГУ, 1998, о францисканских темах и мотивах «Идиота» см.: Попова И. Л.
Другая вера как социальное безумие «частного человека» («крик осла» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот») // Семиотика безумия. М.; Париж: Европа, 2005.
25 О гностической традиции в мировоззрении Достоевского впервые заговорил Вяч. Иванов в упоминавшихся работах. Точнее: заговорил на языке гностицизма. Из новейших работ на эту тему следует отметить: Тихомиров Б. Достоевский и гностическая традиция // Достоевский и мировая культура. СПб.: Серебряный век. 2000. № 15; Степанян К. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле слова» как творческий метод Достоевского. М.: Раритет, 2005.
26 См.: Щенников Г. К. Указ. соч. С. 27. Возможно, что при этом Г. К. Щенников и не принимает во внимание, что «христианский гуманизм» – это традиционное научное обозначение конкретного историко-культурного явления, имевшего место в Западной Европе в XVI столетии. В контексте этой работы важно, что автор «Дон Кихота» был христианским гуманистом или эразмистом, то есть последователем Эразма Роттердамского, создавшего свою версию гуманистического «мифа о человеке», совместив его с «соборным» идеалом единения человечества во Христе, символом которого для нидерландского гуманиста явилось мистическое «тело Христово». Тем знаменательнее совпадение оценки мировоззрения Достоевского, данной известным специалистом, с достаточно влиятельной в сервантистике концепцией Сервантеса-эразмиста (см.: Пискунова С. И. Указ. соч.).
27 Работа К. Степаняна «Юродство и безумие, смерть и воскресение, бытие и небытие» цитир. по кн.: Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. Указ. изд.
28Степанян К. Указ. соч. С. 153–154.
29 Там же. С. 155.
30 См. классический труд на эту тему: Durán М. La ambigüedad en el Quijote. México; Xálapa, 1961.
31Степанян К. Указ. соч. С. 147.
32 См.: Викторович В. Сюжет и повествование в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Вопросы сюжета и композиции в русской литературе. Горький: Горьковский гос. ун-т, 1988.
33 См., например: Карпов А. А. «Повести Белкина» и мотив «книжного сознания» в русской литературе конца XVIII – первой трети XIX века // Ibérica. К 400-летию романа Сервантеса «Дон Кихот». СПб.: Наука, 2005.
34 «Мышкин, так же как Настасья Филипповна, Лебедев и Коля, читает газеты…», – справедливо отмечает Г. С. Морсон (см.: Морсон Г. С. «Идиот», поступательная (процессуальная) литература и темпика // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»… Указ. изд. С. 21.
35 См. о них: Криницын А. Б. О специфике визуального мира Достоевского и семантике «видений» в романе «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»… Указ. изд.
36 Так, в разговоре с Радомским после рокового объяснения Настасьи Филипповны и Аглаи (Евгений Павлович представляет князю все произошедшее в свете посюсторонней нравственности и человечности), Мышкин, пытаясь объясниться, восклицает: «все это не то, а совершенно, совершенно другое!» (8, 483). «Не то», «не так» – слова, которые не раз произносит князь.
37 Ср.: Янг Сара. Картина Гольбейна «Христос в могиле» в структуре романа «Идиот» // Роман Достоевского «Идиот»… Указ. изд. С. 35 и сл. («…он утратил-таки долю своего милосердия», – отмечает, в частности, английская исследовательница).
38 Нельзя не отметить изоморфности соотношения Первой и Второй частей «Дон Кихота» и неоднократно привлекавших внимание исследователей первой и второй «половин» «Идиота», подразумевая под второй «половиной» вторую-четвертую части романа, составляющие своего рода целое, противостоящее первой части. Первая и вторая части «Идиота» разделены загадочными (очень туманно обозначенными в повествовании) шестью месяцами отсутствия князя Мышкина, Настасьи Филипповны и Рогожина в Петербурге, так что события второй-четвертой частей начинаются со второго появления внешне преобразившегося князя Мышкина в северной столице, где он теперь принят в обществе (в том числе как богатый жених), где ему чуть ли не навязана роль «рыцаря бедного», где всякий по-своему пытается использовать уже известные (и теперь никого не шокирующие) особенности его личности… Это появление Мышкина в Петербурге напоминает третий выезд Дон Кихота, отправляющегося в путь уже в качестве всемирно прославленного героя Первой части: многие из тех, с кем встречается герой Сервантеса на страницах Второй части, узнают в нем героя Первой. Его принимают в высшем обществе, у него появляется соперник-узурпатор (бакалавр Самсон Карраско). В него «понарошку» влюбляется девица-зубоскалка Альтисидора, мнимо умирающая от тоски по рыцарю, покинувшему герцогский замок… Герой Сервантеса во Второй части чаще всего вынужден играть роль героя Первой.
39 О душевной слепоте князя и его демоне-водителе см.: Касаткина Т. А. Роль художественной детали и особенности функционирования слова в романе «Идиот» // Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»… Указ. изд. Мы, однако, не склонны разделять слишком форсированное обличение поступков и мыслей князя с позиций ортодоксального богословия: нам кажется, такого рода обличение не входило в намерения автора.
40Мочульский К. Указ. соч. С. 394.
41 Как известно, сходство Мышкина с Обломовым к концу жизни осознавал и сам Достоевский.
42Ortega-y-Gasset J. Meditaciones del Quijote. La Habana, 1964. P. 160.
43 Роман «Идиот» цитир. по Полному собранию сочинений в тридцати томах. Т. 8. Цитир. страницы указываются в скобках в тексте главы.
44 «…И как безумный, захохотал»: связь мотивов хохота и безумия – общее место творчества Пушкина, столько раз явно и неявно цитируемого в романе. Как справедливо отмечает Г. Ермилова, «Идиот» – один из самых пушкинских романов писателя, он буквально насыщен прямыми и скрытыми пушкинскими цитатами» (Ермилова Г. Пушкинская «цитата» в романе «Идиот» // Роман Достоевского «Идиот»: раздумья, проблемы. Иваново: Изд-во Ивановского ун-та, 1999. С. 66).
45 См. прим. 35 к наст. ст.
46 Сойдя с ума, он обставит убийство любимой женщины предметами-цитатами из газетной хроники.
47 Нетрудно заметить, что Настасью Филипповну мало волнует, что думают о ней мужчины: она уязвлена поведением дам – Иволгиных, Епанчиных и прочих. С Рогожиным ее примиряет только то, что он подвел ее (как и Мышкина) под благословение своей матери.
48 О том, как это связано с гордостью, см.: Скафтымов А. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М.: Художественная литература, 1972.
49 См.: Ермилова Г. Указ. соч. С. 72, 77.
50 Там же. С. 84.
51 Ср.: «…авторское понимание „рыцаря бедного“ совершенно отлично от той интерпретации, которую получил пушкинский образ в сознании героев „Идиота“, и прежде всего Аглаи» (Ермилова Г. Указ. соч. С. 66–67).
52 См. также прим. 39 к наст. статье.
53 Ср.: Альми И. Л. Указ. соч. С. 438.
54 О роли числа «четыре» и функции кватерниорных структур в «Дон Кихоте» см.: Piskunova S. El arquetipo de la «cuaterna» en el «Quijote» // Cervantes y las religiones. Actas del Сoloquio internacional de la Аsociaciуn de cervantistas (Universidad Hebrea de Jerusalйn, Israel, 19–21 del deciembre de 2005). Universidad de Navarra. Iberoamericana. Vervuert, 2008.
55 Об особом интересе культуры позднего модерна к кватерниорным структурам пишет А. С. Степанов, приводя в качестве примера и творчество Достоевского (см.: Степанов А. С. М.: Языки славянских культур, 2004. С. 286 и сл.). О роли числа «четыре» в «Преступлении и наказании» см.: Есаулов И. А. Пасхальный архетип в поэтике Достоевского // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1998. С. 357).
56 «…Правильно построенный любовный треугольник сминается общим тяготением к Мышкину, общим желанием причаститься ему, исповедаться, заставить себя слушать… И все эти линии… разрушают систему… отношений, так красиво сложившуюся в первой части» (Померанц Г. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.: РОССПЭН, 2003. С. 98). Но нельзя не разделить пафос мыслителя, подчеркивающего, что Мышкин занимает в любовных коллизиях не свое, формальное место (тут уж не важно, каким образом эти коллизии обрисовываются – треугольниками или квадратами).
57 «Приглядевшись к отношениям, которые складываются у князя с Настасьей Филипповной и Рогожиным, мы убедимся, что они совершенно особые, не подходящие под категории простой любви, ревности или ненависти, – пишет А. Б. Криницын. – Эти герои притягиваются друг к другу, будто „закованные“ „странной близостью“, общаются на каком-то интуитивном уровне, понимая друг друга без слов…» (Криницын А. Б. Указ. соч. С. 191). Но такое же «понимание» и «странная близость» связывают и князя с Аглаей… Настасья Филипповна, в свой черед, пишет Аглае письма, объясняясь в любви к ней, хотя двух женщин разделяет то же взаимное непонимание, которое отличает отношения князя и Рогожина…
58 Сторона «Аглая – Рогожин» – в нем самое слабое звено, так как тематические взаимоотношения этих героев сведены почти к нулю (их объединяет общая сюжетная функция – привести действие романа к трагической развязке), хотя Аглая и вовлекает Рогожина в свой книжный миф, аттестуя его «благородным человеком».
59Мочульский К. Указ. соч. С. 394.
60 Того, кто ведет повествование в ракурсе несобственно-прямой речи, ориентируясь преимущественно на точку зрения князя, в то время как рассказ о том, как создается роман, ведет его двойник, хроникер, собиратель слухов и фактов, тот, кто в числе других персонажей романа вписан в основание пирамиды.
61Ермилова Г. Трагедия «русского Христа», или о «неожиданности окончания» «Идиота» // Роман Ф. М. Достоевского Идиот»… Указ. изд. С. 452–453.