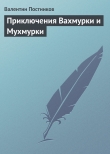Текст книги "Восемнадцать роз Ашуана"
Автор книги: Светлана Дильдина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Женщина в цыганском платке, завязанном узлом на затылке, все тянула руки к носилкам, пытаясь оттолкнуть полицейских; еще одна, растрепанная, светловолосая – сидела на бордюре и тонко выла.
Мужчина в черной рубашке – кого-то искал, мелькая в толпе, ухитрялся раздвигать родственников и любопытных, и лицо его было страшным и неподвижным.
Пахло гарью – в парке университета жгли палые листья…
Ренато на открывал глаз – он видел сквозь сомкнутые веки. Он знал теперь, что если порыться в книжном шкафу, на самом дне, у стены обнаружится альбом с истертой бежевой обложкой, с пятнами от пролитого чая – а в альбоме будут фотографии смеющихся юношей и девушек, почти детей. Однокурсники Марка. Все лица – и вырезки из газет, и фамилии с именами. Никого не забыть…
Этого альбома никогда не было в действительности – однако у старика Ренато он лежал в шкафу, безопасный и страшный, и в сторону шкафа Ренато отныне смотрел осторожно, и боялся просить Денизу снять книгу, чтобы она могла почитать вслух – будто в шкафу был спрятан капкан, готовый вцепиться в руку ледяными острыми зубьями.
Создав себе мир, Ренато случайно принес в него это.
Дни потекли, как раньше, даже лучше – сердце перестало прихватывать, и уверился в здравости собственного рассудка. На улице становилось все холоднее, чахлая трава по утрам покрывалась инеем.
– Отец, если позвонишь президенту их компании, по старой дружбе… он тебе не откажет.
Старший сын Ренато, Виктор, выглядел прекрасно для шестидесяти лет. Его вторая по счету жена, Юлия, хрупкая блондинка с вечно испуганными глазами, много моложе, сидела в глубоком кресле, сложив руки на коленях, как примерная школьница. Она боялась Ренато, считала, тот до сих пор не одобряет развод наследника. Да что там… было, быльем поросло.
Виктор смотрел на отца выжидающе.
– Не считаешь, что я выжил из ума? – спросил Ренато, стараясь, чтобы голос звучал шутливо – но вышло сухо и равнодушно.
– Что ты, – сын даже бровью не повел, настолько нелепым показалось предположение. А ведь наверняка не раз гадал в последние дни – уже все, пора ставить крест или еще подождать?
– Мы не ладим ни с его партнерами, ни с его… подручными, сделка грозит развалиться, а я не могу потерять деньги. Твой звонок все решит.
Ренато вгляделся в сына внимательней – неужто когда-то этот подтянутый самостоятельный человек был малышом? Ползал по дому, тянул в рот игрушки… кажется, да. Впрочем, им занимались няньки и давно умершая жена…
– Нет, сын. Дело давно перешло к тебе. Прежние связи… уже не имеют значения. Ты сам крепко стоишь на ногах, и моя помощь тебе не нужна.
– Но, устроив этот контракт, мы сможем укрепить свое положение! Сейчас оно не столь прочно, как раньше. Ты оставил нам все в отлаженном состоянии, я бы хотел…
– Мне это не интересно. Занимайся делами сам. Или, прожив почти больше полувека, не можешь обойтись без помощи старика?
Юлия из угла смотрела на Ренато глазами маленькой приблудной собаки – темно-рыжими, влажными и растерянными. Она была не в счет, ее не принимали всерьез, говоря о деньгах и сделках. На мгновение старик ощутил досаду – жаль, что она в самом деле никчемна. Может, женившись на умной стерве, старший сын что-то бы понял… а может, и нет.
Ночью пришло желание услышать музыку. Не что-то определенное, а нечто, звучащее фоном, как в детстве радио, нечто старое, легкомысленное, совершенно не модное ныне. Ни одной мелодии, ни одного слова из давних песенок нельзя было вспомнить. Зато предстал перед мысленным взором приемник – черный, с отбитым уголком, наклоненной вбок антенной, пыльный, неутомимо голосящий.
В лицо ударил свежий, пахнущий травой и водорослями ветер. Ренато задохнулся – свет, дневной свет; пустое сизое небо над головой, вместо мягкости любимого кресла – ощущение жесткой земли, высокие стебли костреца и ежи.
Взгляд уперся в лежащие на коленях руки – не старческие, дряблые, покрытые темными пятнами, а золотистые от легкого загара, худые мальчишечьи.
Он вскрикнул от неожиданности, и звонкий голос толкнулся в горле, послушный, чухой – и такой знакомый. Его собственный.
Высоко в блеклом воздухе подрагивали провода, над ними летела ворона, очень маленькая отсюда, с земли.
– Я… умер? – тихо сказал себе мальчик, и понял, что врет. Он не это испытывал, не это хотел произнести, и вообще не успел понять, чего хочет. Он помнил только, что его звали Ренато… кажется, так.
И сидел он на склоне холма, вдалеке поблескивала река, справа и слева простирались поля, в которых, как грибы, то тут, то там стояли небольшие домики. Ближе к реке они сбивались в кучки, понемногу образуя город. Мальчик не смотрел туда – он вдыхал влажный ветер.
Где-то невдалеке был и его собственный дом, место, где мальчика ждали, привыкли видеть именно таким – полотняных светлых штанах, майке с короткими рукавами, не обладающего ни силой, ни связями…
Потом все исчезло – или вернулось. Тяжелые портьеры, не менее тяжкий запах лекарств – после свежего воздуха он показался невыносимым. Бледно-оранжевый огонек ночника, массивное кресло и тишина, не та, которая бывает в безлюдном свободном месте, а тишина замкнутой больничной палаты.
Это мой дом, сказал себе Ренато. Дом… родной, созданный на мои деньги по моему желанию. Тот, который я всегда хотел иметь и который был рад получить.
За окнами стояла поздняя осень; даже не отодвигая штор, не открывая окна он знал, чувствовал – несомненно, только так, не иначе. Лето осталось на склоне. Холодное лето, чистое и безжалостное…
– Как твоя такса, Дениза? Сегодня ты с ней не гуляла.
– Такса? – недоуменные морщинки пересекли лоб женщины. – Простите?
– Такса, – терпеливо повторил Ренато. – Твоя собака.
– У меня никогда не было собаки. С детства аллергия на собачью шерсть…
Виктор пришел к нему еще раз, и еще – теперь без жены, пробовал поговорить и как почтительный сын с отцом, и как деловой человек с другим деловым человеком. Ему был нужен один звонок. Пока Ренато жив и в здравом уме… всего один звонок, и дела пойдут в гору.
Прикосновение старческой руки могло покатить камень вверх по склону, и оба это понимали. Но Ренато не хотел ничего. Апатия овладела всем его существом – порой корил себя за то, что не испытывает желания помогать сыну, родному… но как давно они стали родными только формально?
Хотя все формальности соблюдались на диво, надо отдать Виктору должное. Будто и впрямь любовь и дружба в семье. Но ведь и лицемерием это не было. Данью традициям? Чувством долга?
Какой сейчас смысл разбираться…
* * *
Лейвере – тихий уголок, город в двести тысяч жителей. Сверху он походил на улитку, что ползет себе по травинке. Только травинкой была река Лей. Один большой мост через нее и пара поменьше, а на другой стороне – все больше поля и фермы.
Федеральная трасса, по которой вечно текли машины, выглядела панцирем улитки.
В Лейвере делали елочные игрушки. По крайней мере, остальной мир знал только это. Но местный университет был неплох – в нем трудились педагоги старой закалки, мэрия щедро платила им – больше, чем во многих крупных городах.
И студенты порой выбирали учиться в Лейвере, а не в столице – а потом подтвердить свой диплом.
Если бы человек мог выбирать, где родиться, именно этот уголок привлек бы его, Ренато Станка, несомненно. Не глушь – мирное местечко, где самое яркое событие – показ новой кинокартины или визит какой-нибудь не самой популярной «звезды».
Может, они сами выбрали появиться на свет именно здесь? Тогда некого обвинять.
Их мать звали красиво – Евгения. Уцелевшие фотографии сохранили облик нежной, как незабудка, девушки с гордо поднятой головкой. Годы оставили от прежней красоты только глаза и взгляд – темный, тревожный и ласковый.
Ни Марк, ни Ренато, с их волосами цвета ковыля, на мать не походили – особенно тощий и острый, как цапля, Марк.
Позвать Микаэлу и поведать ей… внучкам и правнучкам положено рассказывать сказки. Жили-были в далекой стране два брата – старший – глупый и злой, и младший – умный и добрый. И вот однажды…
Нет.
Этой сказки Ренато никогда не расскажет.
На столе поблескивали склянки с лекарствами. Если прикрыть глаза, видны только блики, и на мгновение померещится, что перед тобой рассыпаны гладкие камешки. А запах сердечных капель сменится острым запахом йода…
– Это твоя морская сказка? Горсть камней?
Рассыпанные по дорожке, полосатые, округлые, камешки выглядят обычными голышами. И Ренни хочется разреветься, кинуться собирать сокровища, которые отец привез с моря, но он видит себя – ползающего на карачках, перемазанного, в песке и земле, и молчит, только губы подрагивают.
А тот – ухмыляется… и не полезешь в драку, потому что он – сильнее.
Отец привез с моря мешочек, пахнущий солью…
В нем оказалась небольшая раковина, похожая на смятую консервную банку, и камешки… если их намочить, они темнели, становились яркими, с разноцветным рисунком.
Но и сухие, тусклые, хранили в себе радугу и прикосновения моря.
Ренни только слышал о нем. А когда отец уехал на побережье по делам службы, ждал его, просыпался среди ночи, будто отец мог привезти кусочек моря с собой. Сине-серого или голубого, горько-соленого – Ренни пытался понять, какой вкус у морской воды, смешивая соль и йод в чашке.
Отец привез мешочек с подарком – младшему сыну. Старшему купил майку. Марк не носил ее – разве что надел пару раз, когда больше нечего было…
«Погоди, я еще вырасту», – думает Ренни.
* * *
Темно-красные пионы в руках Микаэлы… кто придумал растить их в оранжереях и срезать поздней осенью? Лохматые, расплываются в глазах, будто мазки на картине, спрыснутые дождем. Не пахнут. Мертвые изначально. Неправильные.
Но красивые, боги… в руках Микаэлы – красивые.
Она достает вазу, наливает воду, ставит букет – как делает постоянно. Смеется, щебечет что-то неинтересное, блестят огромные кольца в ушах, смоляные кудряшки облаком.
Трещит, как сорока – кажется, о мальчиках и танцах, и пусть болтает.
Ренато следил за правнучкой, пытаясь понять, кого та напоминает ему. В его юности девушки были другими… походили на ракушки – может, и яркие, но закрытые. Более строгими были наряды, манеры, взгляды… а внутри, наверное, все то же самое…
– Императрица, – говорила Микаэла, раскладывая по столу прямоугольнички карт, изукрашенные причудливыми картинками. Ренато как-то рассмотрел их поближе – и ничего не понял.
– Это не для игры, дедушка, – объяснила тогда Микаэла. – А чтобы гадать.
Старик тогда потерял интерес к колоде. Глупости все… а сейчас, наблюдая за проворно мелькающими руками девчонки, подумал – когда ж вопрошать судьбу, как не в шестнадцать лет?
В эти лета еще не знаешь страха перед неизбежным, и весь мир перед тобой, и если гадание не устроит, можно просто не верить – или разложить карты заново.
Сейчас девчонка раскладывала карты ему, искренне верящая, что у ее прадеда есть будущее.
– Эта карта дает совет… – Микаэла полезла в глянцевую маленькую книжечку, с воодушевлением прочитала: – Совет подойти к делу трезво и объективно, осознавая свою ответственность за принятие решения. Она же предостерегает – избегать предвзятости и веры в непогрешимость собственного суждения.
Ренато молча выслушал трактовку выпавшей карты. Только-то? Он всегда подходил к любому решению взвешенно. Потому и сколотил состояние.
Девчонка вытащила следующую карту и прочла ее значение. Если верить книжке, Ренато полагалось поверить в свои способности, в возможность справиться с предстоящим делом. Однако не стоило забывать, что для достижения цели не все средства хороши.
Какие там цели, подумал старик. К чему это все? Да, гадать хорошо, когда тебе шестнадцать лет… даже в тридцать уже становишься циником. Ну, или по крайней мере веришь, что все происходящее в жизни – дело твоих собственных рук.
– «Никто, кроме тебя, и никогда больше, кроме как прямо сейчас!» – гласит ваш лозунг сегодняшнего дня, – тем временем произнесла правнучка. – Возьмите инициативу в свои руки. Вы обладаете отличным здравым смыслом, вы знаете, чего хотите, и у вас хватит терпения довести задуманное дело до конца. Сегодня самый подходящий для этого день. Покажите, на что вы способны, действуйте свободно и смело во всех переговорах и встречах, и тогда все партнеры будут на вашей стороне, поддержат и помогут".
– У меня давно нет партнеров, – улыбнулся Ренато. – Я отошел от дел.
– Я слышала, к тебе до сих пор обращаются с вопросами! – возразила егоза.
– Обращаются. Но на мою жизнь все это никак не влияет…
– Осталась третья карта. Тащить? – спросила девчонка, исполненная решимости все же проверить на нем свой справочник… или как там зовется эта книжица.
– Тащи. Сейчас мне скажут, что я покорю мир?
Правнучка рассмеялась…
– Верьте, что решение проблемы или избавление не за горами. Но смотрите, чтобы старые проблемы, давно решенные и пройденные, не воскресли вновь.
Это прозвучало будто даже не голосом Микаэлы. Воскресли вновь… все прошлое… воскресает и ломится в тихие комнаты, и можно не открывать окон, все равно оживут голоса, почудятся шаги… а если чудиться перестанут, куда деться от памяти?
– Ты права, внучка, – пробормотал он. – Старое всегда возвращается, даже если думаешь, что все погребено надежно…
Ну и зачем? Охотники за сокровищами вскрывают старые могилы… свои собственные порой.
– Сегодня вы можете решить свою проблему – хоть только что возникшую, хоть застарелую. Просто держите глаза открытыми, чтобы не упустить эту возможность. Возможно, вам и не нужно будет ничего делать – только ждать. Хотя иногда, чтобы найти окончательное решение, бывает нужен небольшой внутренний толчок, – читала девчонка.
– Это сказано в твоей книжице?
– Ну… да, – она протянула ему справочник, раскрытый на нужной странице. Старик отстранил руку правнучки.
– Я не увижу. Верю. Пусть будет так.
– Но это хороший расклад! – робко возразила девчонка.
– Когда прошлое воскресает, хорошего в этом нет…
В этот раз он стал мальчишкой, когда ложился в кровать – стоило опуститься на мягкий матрац, тело изменилось, теперь под ним были речные мостки, а рядом, только протянуть руку – вода, мелководье, и шныряли взад и вперед серебристые шустрые мальки. За рыбками было хорошо наблюдать, считать их – бесполезно, но весело.
Пригревало солнце, а изнутри грела кровь. Ренни смеялся, трогая пальцами воду. Он вернулся, был выброшен обратно в комнату, когда за спиной раздались неторопливые шаги – и жалел, что не успел обернуться.
Потому что шла его мать.
За стенами особняка выл ветер, будто не один он был, а стая ветров собралась разнести дом по кирпичику и злилась, терпя поражение.
– Как привидения, – говорила Дениза, а кухарка, приглашенная Ренато посидеть у очага, дабы Денизе не стало совсем тоскливо, подтверждала – да, в юности слыхала как раз такой вой, а место там было нечистое…
– Порой я слышу, как кто-то плачет за стенами, – шептала кухарка, упитанная женщина средних лет, с красным лицом и всегда несчастными глазами. – Быть может, когда-то на этом месте…
– Бросьте, милые барышни, – чуть раздраженно сказал Ренато. Он не мешал прислуге фантазировать в свое удовольствие, но странностей хватало и так, без глупых бабьих россказней. – Помните, что сказал этот… доктор Челли? Здесь был парк, никаких призраков и на редкость светлое место!
– Кто сказал? – удивленно переспросила кухарка. – Простите?
– Дениза, объясняй ты. Я устал.
– Но… я не понимаю, – смущенно улыбнулась та. – Я знаю только вашего доктора, но его зовут…
– Я знаю, как его зовут.
Ренато закрыл глаза.
– Говоришь, ты никогда не заводила собаки? Пусть так.
В последующие два дня он почти не спал, и есть не хотелось. Думал, по кругу одно и то же, пытаясь решить некую задачу, условия которой не знал. Здесь у него была семья, идеальная, насколько подобное возможно в этом несовершенном мире. Большинство – люди разумные, состоятельные, уважительные… не нарушали устоев общества, умели постоять за себя и своего добиваться. Чтили старших…
Ренато знал, что ему завидовали посторонние, и это было приятно, хоть раздражало порой: зависть – глупое чувство.
Итак, стоя на пороге собственного столетия, пришло время подвести итог удачно построенной жизни.
В ней хватало всего, что принято называть счастьем. Хотя, может быть, там не нашлось места любви – но Ренато в свое время не сумел понять, что, собственно, подразумевают люди под этим словом. Истерику, эмоциональную несдержанность? Одержимость, зависимость?
Упаси Небо.
Он всегда заботился о тех, кого выбрал, давал им то, что они заслуживали… и, кажется, получал в ответ то же самое – заботу, уважение, или хотя бы видимость таковых.
Это устраивало всех…
Хотя, кажется, его любила правнучка. Но она всех любила, каждую приблудную кошку способна была окутать нежностью. Многого ли стоит подобное чувство…
Микаэла бродила по дому и пела, старик слышал ее голос, зная, что из своей комнаты услышать не может – но голосок, напоминающий серебристую капель, нетвердый, прерывистый, чересчур легкий, проходил через стены свободно.
Микаэла бродила по комнатам, не в силах сидеть на месте – в короткой клетчатой юбочке, в майке, обтягивающей худые плечи, в тапочках-балетках – еще нескладная, живая, забавная, только начинавшая сиять женской прелестью.
И там, где она прошла, расцветали розы, лилии, гладиолусы, и другие цветы, названия которым Ренато не знал. Так и не выучил за долгую жизнь.
Цветы были невидимы, неосязаемы, и запах их, невесомый, смешивался с проникающим в дом запахом поздней осени.
Старик слышал голос правнучки – и ждал ее саму, и, когда она возникла на пороге, беспечная, свежая, почувствовал, что можно дышать.
– Почему цветы приносят на могилы? – неожиданно для себя спросил он. И испугался – сейчас Микаэла забеспокоится, все ли в порядке с дедом…
Она не удивилась. Выжидательно посмотрела.
– Мертвым цветы не нужны. Я могу понять памятник, который будет напоминать живущим об умершем, но цветы? Особенно кидать их в яму… Или, раз умер один, надо оборвать как можно больше растений, чтоб те тоже перестали существовать? Такая жертва?
– Что ты, дедушка. Это проводники. Цветы растут в самых разных мирах, они сопровождают душу, показывая ей, что ничего страшного не случилось, что она тоже станет цветком… а может, родится заново…
– Расскажи мне… сказку, – попросил старик. Мысленно улыбнулся – дожил…
– Сказку об этих твоих цветах… о каких-нибудь.
Жила-была принцесса, говорила Микаэла. Ее звали сказочным именем… в той стране всех звали сказочными именами. И вот однажды она полюбила принца, не зная, что под его личиной скрывается камень. И он тоже не знал. Но родители сердцем чуяли – быть беде, и не давали согласие на свадьбу. И тогда влюбленные сговорились бежать.
Поздней ночью, в грозу, принц явился под окна дворца, и раскрыл объятия. Девушка выпрыгнула из башни прямо в протянутые руки любимого, но принц был камнем, и она разбилась.
Кровь ее брызнула во все стороны, ливень смыл алые капли, но расцвела камнеломка…
– А принц?
– Не знаю. Наверное, он просто уехал, когда понял, что неживой, – Микаэла смутилась, сама не ожидала от себя такой сказки.
На стене подрагивала тень от свечей – дрожала, будто волосы принца, не живого, не мертвого – принца, смотрящего в темноту, пока верный конь нес его прочь…
– Ты слишком юна, – говорит Ренато одними губами. – Смерть для тебя – игрушка…
Когда хоронили Марка, не было ни цветов, ни еловых лап, увитых летами и усеянных колокольчиками. Несколько хмурых, избегающих поднимать глаза родственников, соседка Руджерия – и полицейские.
То, что лежало в колыбели из грубо сколоченных, выкрашенных в красное досок, не могло зваться Марком. Изжелта-белое, острое лицо, поблекшие волосы – выброшенная под дождь нескладная кукла.
Ренни стоял у стены, глядя исподлобья на мать, прижимавшую ко рту платок – она давилась рыданиями, боясь издать хоть звук, на одинаковые фигуры в темно-сизой форме.
Похороны прошли быстро – так избавляются от мусора, от фотографий, которые причиняют боль, от ненужных привязанностей.
Матери никто не сказал ни слова утешения.
Ничего не сказал и Ренни.
Аурелия не пришла.
Только один раз, еще до похорон, она столкнулась на улице с матерью Марка, отвернулась и быстро пробежала мимо. Кто бы ее осудил? Уж точно не Ренни.
Неделю спустя он вновь появился на кладбище, с матерью – сам не пошел бы, но ее поддержать считал своим долгом. На холмике лежала огромная желтая хризантема, красивая и одинокая.
– Кто это может быть, ты не знаешь? – беспомощно спрашивала мать, и по дороге обратно, и дома, и мальчику было тошно от этого извиняющегося тона. Он отвечал грубо или просто уходил, но мать то и дело возвращалась мыслями к хризантеме, и снова спрашивала, вертя в руках подол фартука или полотенце:
– Вот же как… Но все же, кто это был?
Только теперь он догадывался, кто… невзрачная девочка, чуть сутулая, чуть косящая – не настолько, чтобы стать изгоем, не настолько, чтобы ее любили. Кажется, именем Альма… да, так и есть.
* * *
Ренато-старик вспоминал Аурелию – и видел юную девушку с крупным смеющимся ртом и влажно блестящими кудряшками, в пестрых платьях, безобидно-легкомысленную и обыкновенную. А глазами Ренни он наблюдал почти взрослую женщину, слишком дерзкую и притягательную, как запретный плод – Ренни чудилось в ней нечто недостойное: и во взглядах, которыми обменивались она и Марк, она и гости, и в мимолетных касаниях – недостойное, пугающее и сладкое.
Ренни нравилось смотреть на Аурелию, хотя порой он испытывал стеснение, почти страх в ее присутствии. Теперь-то, с высоты прожитых лет он понимал сигналы, которые девушка подавала окружающим. В каждом ее жесте звучало – "перед тобой юная самка, прекрасно сознающая свою силу и власть". Вишневая помада, узкие туфли, небрежно сброшенные у порога, запах то ли цветов, то ли конфет, и голос, высокий, в котором скользили порой опасные хрипловатые нотки.
Ренни-мальчик смутно осознавал ее власть, и не понимал, хочет он отгородиться или, напротив, нырнуть в этот омут.
Марк был шестью годами старше, но Ренни никогда видел в нем более опытного, лучше знающего жизнь, тем паче родного, интересного и надежного. Просто в доме постоянно жил еще один человек, по стечению обстоятельств являющийся кровным родственником Ренни.
Кроме цвета и структуры волос, общего в них почти ничего не было.
Да, младшему всегда было наплевать на жизнь старшего брата, только в последний год он завидовал тому, кто родился раньше, кто больше мог и успел, и приникал к двери, чувствуя то жар, то холод, когда за этой самой дверью совершалось пока недоступное взрослое таинство. Но такое случалось редко – Марк был не из тех, от кого девушки сходят с ума.
Хотел бы я вернуться в тот октябрь? – думал старик, покачиваясь в кресле. Я никогда не понимал Марка… и никогда не смог бы его остановить. По чести сказать, я его не любил и не пытался почувствовать что-то родное. Его трудно было любить, как и меня. Но мне, как младшему, как способному и удачливому доставалось больше тепла. Мы сосуществовали в одном пространстве, Марк и я – не слишком раздражая друг друга, ведь наши орбиты пересекались редко.
Но если пересекались…
Странно было вспоминать детские грезы и трудности. Ренато, как только подрос, научился получать то, что хотел – но сейчас сидевшему в качалке старику и это казалось ненужным, давным-давно распавшимся в прах.
Он порой задумывался, живет ли на самом деле.
Когда фирме внука грозил удар, мозг, привыкший просчитывать варианты, заработал как в прежние дни, и несколько советов и телефонных разговоров поправили дело. В том, что Ренато воистину жив, убедились все, кроме него самого.
Он ощущал, как мир просачивается сквозь пальцы – не песком или водой даже, а тенью – и думал: может, потому и удается решать здешние проблемы, не тратя сил?
Потому что в мире вымышленном возможно все, что угодно?
* * *
Марк ревностно оберегал свои секреты, а Рении особо не интересовало, что скрывает старший брат. Хотя к нему в стол Рении несколько раз залезал. Вырезки из порножурналов, постеры невесть каких групп, порой заметки из печатных изданий, смысл которых Ренни до конца не мог уловить. Знал только, что это связано с политикой – некоторые фразы Марк обвел красным карандашом.
Другие заметки касались истории, оружия, партизанского движения и уголовных расследований. Несколько биографий личностей, на взгляд Ренни сомнительных – диктаторы, фанатики-революционеры, головорезы… как еще назвать людей, сколотивших банду в конце прошлого века и терроризировавших округ добрых пять лет? Их потом изрешетили пулями, не осталось целого кусочка…
Когда Ренни устраивал налеты на стол брата, было ему лет десять-одиннадцать. Никакой особой радости от собственного детства мальчик не испытывал. Ему хотелось скорей вырасти, чтобы рамки «можно-нельзя» устанавливать себе самому. Огрызаться, как Марк, отстаивая свое право на самостоятельность, Ренни смысла не видел.
К нему вечно липли всякие двоечники, ныли, чтобы помог с домашним заданием или дал списать. Первых мальчишка чаще всего игнорировал, со вторыми возился время от времени. Лучшим учеником Ренни не был, но в пятерку первых входил неизменно.
А Марк учился порой откровенно плохо, но иногда вдруг брался за ум. Мать ставила ему в пример младшего брата.
"Это лучший способ испортить день, почему она не понимает?" – размышлял Ренни, слыша, как мать в очередной раз шебуршится на кухне, пытаясь успокоить нервы.
Домашняя атмосфера все больше напоминала корабль перед бунтом команды – вроде все идет, как обычно, однако люди бросают друг на друга косые взгляды, отмалчиваются в ответ на прямой вопрос или срываются по любому пустяку – но корабль плывет, и он далеко от земли… и может попросту потонуть, если начнется разлад.
Не только Марка это касалось – родителей в куда большей степени. Но Марк чувствовал это сильней… и тогда, и позже.
– Сами виноваты, что родили урода, – прозвучало в ушах.
Да… потом он хлопнул дверью, едва не выворотив петли, сбежал по крыльцу, едва касаясь ступеней, и не ночевал дома. Кажется, тогда он поссорился с Аурелией… впрочем, память сохранила только обрывки.
Ренато не было нужды смотреть на фотографию старшего брата. Нет, уродом он не был – хотя тогда, в двенадцать лет, Ренни только согласно хмыкнул, услышав такое от Марка.
Смотреть не было нужды – старик помнил.
Парень на старых снимках выглядел дико неуверенным в себе, но лицо ему досталось обыкновенное, по-своему привлекательное. И отталкивающим казалось лишь однажды – тогда, под мелким дождем, восковое на фоне красных досок.
Но даже тогда лицо Марка не было уродливым.
А корабль плыл…
В течение года Ренни видел мать с заплаканными глазами, отец появлялся дома все реже, а потом его позвали и сообщили, что намерены развестись.
В груди больно кольнула льдинка, но мальчик, выслушав мать и отца – оба глядели на него, как на судью, кивнул и вышел из комнаты.
Так и не узнал, какова же была первая реакция Марка на это заявление. С братом поговорили на другой день, и он неделю не ночевал дома.
Время не многое изменило. Марку тяжело давался развод родителей. Он смотрел на мать с глубочайшим презрением и стыдом – та брала деньги у человека, оставившего ее! У отца…
В год, когда они расстались, Марк почти ни с кем не разговаривал – только смотрел фильмы да пропадал невесть где. Вся комната его была завалена кассетами. Разное было там, но чаще – боевики.
Ренни порылся в них, но не заинтересовали краткий пересказ и коробки…
А раз в ванной Ренни заметил капли крови, и запястье Марка перевязано было бинтом, тоже красным с одной стороны.
Несмотря на совсем юный возраст, мальчик понял – и долго еще смотрел на Марка, будто на плешивую уличную собаку – со страхом, легкой жалостью и отвращением.
Марку исполнилось шестнадцать…
* * *
Теперь Ренато Станка желал возвращения в собственное тело – да, только такое, мальчишеское он и мог назвать своим. Любой скажет «это я», показывая фото себя в юности, а вот когда тебе очень много лет, постаревшую оболочку так называть не всегда получается… не считать же себя в самом деле отжившей все сроки развалиной?
Особенно если можно иначе…
На сей раз вокруг был осенний парк, и Ренни шел домой, покачивая сумкой с учебниками. Кричали вороны, плотной стайкой кружась в небе; дворник ворчал – развелось, отстреливать некому.
Слова его вызвали в памяти охоту – сам Ренни никогда на ней не был, и по сему малейшего сожаления не испытывал, но старший брат…
Прошлое, само себе прожектор, подсвечивало ярким лучом то, что давно скрылось в недрах памяти.
Когда по возвращении кто-то из родных обмолвился о неудавшейся личной жизни второго внука, старик даже не удивился – куда подевалась его жена, полноватая верная хохотушка?
Ренато не смог вспомнить, как звали того человека. Но помнил, как к нему привязался Марк. Тогда старшему брату было пятнадцать…
Тот, однокашник отца, приезжал в Лейвере на охоту – в здешних заводях водились дикие утки, в лесах – вальдшнепы и тетерева. Марк приклеился к нему сразу, таскался хвостом. Гость брал его с собой на охоту. Приезжал два года подряд, осенью, на полтора месяца, и это время было самым счастливым для Марка.
Кажется, братец и ночевать порывался у него, домой не казал носу. Родители поначалу были довольны, что сын под присмотром и занят делом – хотя какое там дело охота…
Потом радости у них поубавилось. Мать сердилась, что Марк предпочитает чужого, да еще приятеля отца… у них уже было неладно все. А отец опасался, что подросток надоест другу хуже горькой редьки, и вдобавок страдало его самолюбие – больно уж показательно Марк выбирал общество приезжего. Мол, родители не нужны, никчемными воспитателями оказались.