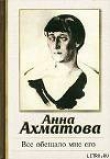Текст книги "Анна Ахматова"
Автор книги: Светлана Коваленко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
О том, что она не невинна, Анна, по—видимому, говорила еще в Царском Селе, чем и объясняется их более чем годовой разрыв и прерванная переписка, когда он узнавал о ее жизни и здоровье только из писем к нему ее брата Андрея Горенко. И даже когда вышел первый поэтический сборник Гумилёва «Путь конквистадоров» (1905) со стихами, обращенными явно к Анне, он послал книгу в Евпаторию с дарственной надписью Андрею Андреевичу, но не ей. У Лук—ницкого, которого в неточности, а тем более в небрежении к фактам заподозрить нельзя, существуют разноречивые записи о пресловутом разговоре и признании Анны. Одна из них, более поздняя, относит этот разговор к лету 1907 года, что, однако, противоречит времени написания цикла «Беатриче» (до осени 1906 года). Сама Анна Андреевна отличалась завидной памятью, она никогда не ошибалась, но иногда сознательно «путала», не желая о чем—то вспоминать.
26 апреля 1925 года в беседе с Лукницким, собиравшим материалы к биографии Гумилёва, Ахматова снова возвращается к этой отнюдь не банальной, но сакральной для Гумилёва теме:
«(АА в течение 4–х лет беспрестанно говорила Николаю Степановичу то что „было“, а потом что „не было“, все время…)
АА: «Это, конечно, самое худшее, что я могла делать!..» В период, когда Николай Степанович думал, что «не было», – были написаны эти строки:
Пусть не запятнано ложе царицы,
Грешные к ней прикасались мечты…
(Одиссей)
АА. «И в 'Гондле' тоже… Это такая обида, которой ни один мужчина не может пережить!»» (Лукницкий П. Н.Acu– miana. Т. 1. С. 157).
Сакральное «тайна» сопровождало Ахматову всю жизнь, встречаясь в ее записках и маргиналиях. И каждый раз эта «тайна» возникает в контекстах, подводящих к каким—то все еще не проясненным моментам творческой биографии, отчего и нуждается в дешифровке, которая, увы, не всегда удается. И едва ли вообще возможна. Ахматова до конца жизни дорожила этой окружающей ее неразгаданностью, создавая свой миф. В марте 1964 года она с явным удовольствием записывает слова сына знаменитого в годы ее молодости Леонида Андреева, Вадима, пришедшего познакомиться и поговорить о секретах «Поэмы без героя»: «Я думал, что здесьесть тайна и я ее разгадаю, если приеду. Нет, здесь нет тайны. Тайна – это вы» (Записные книжки Анны Ахматовой. С. 152).
Иногда она сама подводила к «тайне», то ли приближая читателя или ее будущего биографа к ней, то ли дразня его заведомой невозможностью в нее проникнуть. На обороте одного из листов поздней рабочей тетради с записями о Гумилёве поверх строк: «Но я всё согласна слушать, кроме тишины» появляется закавыченная скоропись, возможно, для неосуществленной биографической прозы: «Когда в 1910 г. люди встречали двадцатилетнюю жену Н. Гумилёва, бледную, темноволосую, очень стройную, с красивыми руками и бурбонским профилем, то едва ли приходило в голову, что у этого существа за плечами уже очень большая и страшная жизнь, что стихи 10–11 г. не начало, а продолжение» (Там же. С. 220).
Из записи очевидно лишь то, что стихи и жизнь, или «биография», слиты в ее сознании. Ахматова как—то сказала, что стихотворение «Песня последней встречи» (1911) было 211–м из ее «детской тетради», которую она сожгла. Возможно, эта тетрадь с несовершенными, с точки зрения их повзрослевшего автора, стихами помогла бы проникнуть в навсегда скрытую тайну. Во всяком случае в одном из самых просветленных любовных стихотворений есть отсылка (а может быть, и сожаление) к той уничтоженной тетради:
Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все—таки тебе я рада.
Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь —
С моими детскими стихами.
Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.
(«Широк и желт вечерний свет…», 1915)
Судя по дате написания – «Весна 1915, Царское Село» и примете «веселые глаза», – стихи обращены к Борису Анре—пу (ср.: «веселый человек, с зелеными глазами»), знакомство с которым случилось весной 1915–го. Уже после смерти Ахматовой дамы из ее окружения говаривали, что она обращала эти стихи к разным адресатам и в разные времена. Последний раз вроде бы к Исайе Берлину. В первой редакции было: «Ты опоздал на десять лет». Эти—то «десять лет» и возвращали к «детской тетради», уничтоженной Ахматовой. Уже на склоне жизни, вспоминая оглушительный успех первой книги стихов «Вечер», она задумывалась о введении в новое издание раздела «Предвечерье».
После трагической гибели Николая Гумилёва Ахматова в предпринятой работе по его жизнеописанию обращала внимание на биографизм его лирики, передающий историю их отношений.
Павел Лукницкий записал со слов Ахматовой:
«…На творчестве Николая Степановича сильно сказались некоторые биографические особенности.
Так, то, что он признавал только девушек и совершенно не мог что—нибудь чувствовать к женщине, – очень определенно сказывается в его творчестве: у него всюду – девушка, чистая девушка. Это его мания. АА была очень упорна – Николай Степанович добивался ее 4, даже 5 лет. И при такой его мании к девушкам – эта любовь становилась еще больше, если принять во внимание, что Николай Степанович добивался АА так, зная, что он для нее будет уже не первым мужчиной, что АА не невинна. Это было так: в 1905 году Николай Степанович сделал АА предложение и получил отказ. Вскоре после того они расстались, не виделись и в течение 1 1/2 лет даже не переписывались. (АА потом, в 1905 году, уехала на год в Крым, а Николай Степанович уехал в Париж. 1 1/2 года не переписывались – АА как—то высчитала этот срок. Осенью 1906 АА почему—то решила написать письмо Николаю Степановичу. Написала и отправила. Это письмо не заключало в себе решительно ничего особенного, а Николай Степанович (так, значит, помнил о ней все время) ответил на это письмо предложением» (Лукницкий П. Н.Acumiana. Т. 1. С. 142).
Эта цитата из «Акумианы» Лукницкого выразительно передает не только интонацию Ахматовой, но и ее манеру недомолвок, за которыми всегда скрывается что—то весьма существенное, иногда более важное, нежели высказанное. В данном случае это неопределенное «почему—то». Осознанно или интуитивно она изначально ощущала свою внутреннюю, неразрывную связь с Гумилёвым, не хотела и не могла от него всерьез отказаться.
Юная Анна то ли понимала, то ли не понимала, что своими полунамеками: «невинна», «не невинна» разрушает не только гармонию чувства, но гармонию любовной лирики Гумилёва, внося в нее трагическое, диссонирующее начало. Впоследствии, осмысляя динамику развития лирического чувства и образного строя, она обратила внимание, что с этого момента лирической героиней, обожествляемой Гумилёвым, становится непорочная девушка.
Трагические переживания рождают удивительные стихи, поднимающиеся до шедевров высокой лирики. Они обращены к женщине—вамп, «отравительнице», едва не «мужеубийце», за которой угадывается облик страстно любимой им реальной женщины. Ахматова говорила, что в лирике Гумилёва получила отражение вся биография их отношений. До венчания – период сомнений и надежд, уныния и мучительной ревности. Его мучит вопрос «блудница» или «святая». О книге «Романтические стихи» (1908), с посвящением Анне Горенко, она пишет: «В этой книге весь ужас этой любви – все ее кошмары, бред и удушье. Призрак самоубийства неотступно идет за Поэтом. …Черная ревность душит, сводит с ума. Измена чудится всюду» (Ахматова А.Собрание сочинений. Т. 5. С. 115).
Ахматова—жена не стала Николаю Гумилёву ближе, чем Аня Горенко. Ахматова признавалась, что особенно страшной и чужой она становится в его стихах в книге «Чужое небо», когда они уже живут вместе, когда она рядом.
В июне 1911 года молодая жена Гумилёва отправляется одна в Париж, где ее ждет Модильяни. Страсть к нему вспыхнула в ее душе год назад, когда она была в Париже с Гумилёвым, в их свадебное путешествие, и впервые увидела еще безвестного художника, поразившего ее необычной внешностью и мгновенно возникшим между ними притяжением. В ее первый приезд в Париж они виделись лишь несколько раз. Однако весь год он забрасывал ее «сумасшедшими» письмами, и она бросилась ему навстречу, скажем прямо, вопреки здравому смыслу и общепринятым правилам поведения в семье. Гордый Гумилёв стерпел, никаких объяснений не последовало, он не унизил ими ни себя, ни свою молодую жену. Вся боль переживаний выплеснулась в стихах. Он был «отравлен» ею, своей юношеской любовью, а теперь наконец женой, и писал в стихотворении «Отравленный» (1911):
«Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна!
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?»
Отвернулась печальной и гибкой…
Что я знаю, то знаю давно,
Но я выпью, и выпью с улыбкой
Всё налитое ею вино.
А потом, когда свечи потушат
И кошмары придут на постель,
Те кошмары, что медленно душат,
Я смертельный почувствую хмель…
Я приду к ней, скажу: «Дорогая,
Видел я удивительный сон,
Ах, мне снилась равнина без края
И совсем золотой небосклон.
Знай, я больше не буду жестоким,
Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним,
Я уеду, далеким, далеким,
Я не буду печальным и злым.
Мне из рая, прохладного рая,
Видны белые отсветы дня…
И мне сладко – не плачь, дорогая, —
Знать, что ты отравила меня».
Ахматова сознавала меру и глубину своей вины, но «ломать» себя и идти наперекор своим чувствам, а тем более страсти не только не могла, но и не хотела. На трагические поэтические сентенции Гумилёва она ответила светлым стихотворением, открывающим суть их отношений, которые позже назовет «братскими»:
Я и плакала и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежилом дому твоем.
Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути…
Страшно, страшно к нелюбимому,
Странно к тихому войти.
А склонюсь к нему, нарядная,
Ожерельями звеня, —
Только спросит: «Ненаглядная!
Где молилась за меня?»
(«Я и плакала и каялась…», 1911)
Уже в последние годы жизни Ахматовой, когда на Западе возник устойчивый интерес к русскому Серебряному веку, Глеб Струве и Борис Филиппов предприняли издание собрания сочинений Николая Гумилёва, писались биографии, подпитываемые мемуарной литературой, нередко фальсифицирующей факты. Ахматова была убеждена, что мемуары препятствуют реабилитации Гумилёва и выходу его книг на родине. Анна Андреевна поставила перед собой цель – доказать, что Гумилёв в любовной лирике идет, отнюдь, не от обожаемых им «проклятых поэтов», не только от Леконта де Лиля и Эредиа, но и от фактов своей биографии. В его экзотических пейзажах присутствуют реалии их с Гумилёвым жизни, реалии Царского Села. Экзотические картины таят в себе памятные обоим факты их юности и молодости. Она прослеживает развитие биографических сюжетов от стихотворения к стихотворению: «Игры», «Укротитель зверей», «У камина», «Беатриче», «Отравленный». «Под рукой уверенной поэта…» и др. Ее работу над незавершенной автобиографической прозой сопровождают заметки на полях. Об этот ужас, «больной кошмар», разбиваются все надежды («Укротитель зверей»):
Зверь мой, он дремлет у вашей кровати,
Смотрит в глаза вам, как преданный дог.
Она детально рассматривает стихи и книги Гумилёва, указывая на реальные связи рождающегося стиха с жизнью:
«I. «Путь конк<вистадоров>".
«Русалка» (от плаванья и морского детства)…
Дева луны (от лунатизма – эта линия идет довольно далеко, и ее легко проследить до «Чуж<ого> неба».
А выйдет Луна, затомится… и т. д.).
II. «Ром<антические> цветы» (парижск<ое> посвящение)…
К этому времени Онастановится для поэта – Лилит,т. е. злым и колдовским началом в женщине. Он начинает прозревать в ней какую—то страшную силу.
III. «Жемчуга» [ «Чужое небо»].
Надписал: «Кесарю – Кесарево», привез, когда приехал венчаться, тогда же (1910) подарил «Балладу»:
Тебе, подруга, эту песнь отдам,
Я веровал всегда твоим стопам,
Когда вела ты, нежа и карая…
IV. И последний цикл стихов в «Чужом небе» (Я имею в виду: «Набегала тень…», «Укротитель зверей», «Ты совсем, ты совсем…»). Сюда же: «Из города Киева», «Она», два акростиха, где двойственность, и парижское «Нет тебя» (1911), где и луна, и «Тебе предался я давно». И, как ни странно, – «Товарищ от Бога» («Маргарита» – просто запись моего сна).
Повесть о том, что случилось с ним и с его любовью, как он с ней борется, какая она все же страшная, но в этих стихах уже и освобождение…»
Завершая перечень, Ахматова иронизирует:
«Прекращаю перечисление, потому что не хочу превратиться в Лепорелло, поющего свое знаменитое ариозо „Каталог побед“» (Записные книжки Анны Ахматовой. С. 288–289).
«На дальнейшее творчество Николая Степановича я не претендую, – продолжает Ахматова. – Он писал и М. Лев—берг (II – ой Цех без меня), и своей „большой любви“ Тане Адамович (познакомился 6 января 1914 г.), и будущей жене А. Н. Энгельгардт (см. их переписку), и Арбениной, и Одоевцевой. Целый сборник посвящен парижской даме („К синей звезде“)» (Там же).
Однако Ахматова еще не раз возвращалась к этой важнейшей для осмысления биографии Гумилёва и его творчества теме. Она обращает внимание на стихотворение «Эзбе—кие», написанное в 1917 году. Эзбекие – таинственный сад в Каире, который возникает как символ освобождения от наваждения 1907 года:
Как странно – ровно десять лет прошло
С тех пор, как я увидел Эзбекие…
……………………………………………..
Я женщиною был тогда измучен,
И ни соленый, свежий ветер моря,
Ни грохот экзотических базаров,
Ничто меня утешить не могло.
О смерти я тогда молился Богу
И сам ее приблизить был готов.
Но этот сад, он был во всем подобен
Священным рощам молодого мира:
Там пальмы тонкие взносили ветви,
Как девушки, к которым Бог нисходит;
На холмах, словно вещие друиды,
Толпились величавые платаны.
……………………………………………..
И помню, я воскликнул: «Выше горя
И глубже смерти – жизнь!..»
Последнее обращение к ней и их общей юности она находит в «Заблудившемся трамвае» (1921). В своем последнем прощании с земным миром герой, или уже отделившаяся от тела душа, пролетает над Безымянным переулком и домом, где жили Горенки:
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!
«Из этого следует, что из той любви вырос поэт. Но из нее же вырос и Дон Жуан и Путешественник. И донжуанством и странствиями он лечил себя от того смертельного недуга, кот<орый> так тяжело поразил его и несколько раз приводил к попыткам самоубийства», – замечает Ахматова (Ахматова А.Собрание сочинений. Т. 5. С. 114).
Признание Анны о том, что ее знал другой мужчина, ведет Гумилёва к другим женщинам, незатухающую любовь к Анне сопровождают другие увлечения, и даже, как можно полагать, вполне серьезные, открывая внушительный «донжуанский список». Наиболее примечательна для этих лет история его отношений с поэтессой Елизаветой Дмитриевой, получившей скандальную известность под именем Че—рубины де Габриак. Анна в достаточной мере спокойно относилась к романам Гумилёва или делала вид, что относится спокойно. Однако Дмитриева, или Черубина де Габриак, – случай особый. У Ахматовой был к ней свой особый счет, и она ее не простила.
После того тяжелого для Гумилёва разговора, в июле 1907 года, когда он заезжал к Горенкам, в Париже он встретился с начинающей поэтессой Елизаветой Ивановной Дмитриевой, а весной 1909 года уже в Петербурге начался их роман. Случилось это после очередного отказа Анны. В Петербурге они встретились, и, по словам Дмитриевой, «оба с беспощадной ясностью поняли, что это „встреча“, и не нам ей противиться».
«Это была молодая, звонкая страсть, – пишет Елизавета Дмитриева в „Исповеди“. – „Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей“, – писал Н. С. <Гумилёв> на альбоме, подаренном мне.
Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо—розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогдане соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. С.
Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всеймоей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство – желание мучить… В мае мы вместе поехали в Коктебель» (Там же. С. 631–632).
В Коктебеле развернулись драматические события, глубоко оскорбившие Гумилёва. Они приехали к общему знакомому еще по Парижу Максимилиану Волошину, в его знаменитый дом на самом берегу моря, своего рода Мекку литературно—художественной богемы. Дмитриева была своим человеком в семье Волошина, дружила с его женой, художницей Маргаритой Сабашниковой. Отношения были свободными, не отягощенными узами супружеской верности, и у Елизаветы, или Лили, как ее называли, начался глубокий роман с обожаемым ею мэтром, Волошиным. Оскорбленный Гумилёв уехал из Коктебеля один. В Петербурге он, по слухам, неуважительно говорил о Елизавете Ивановне, и при встрече с ней на ее вопрос, правда ли это, подтвердил сказанное. Разразился скандал, закончившийся дуэлью Гумилёва с Волошиным, состоявшейся 22 ноября 1909 года. Дуэль завершилась бескровно и почти анекдотически, став, однако, притчей во языцех в литературном мире. О событиях, этому предшествовавших, наиболее достоверными представляются свидетельства Алексея Толстого, бывшего секундантом на пресловутой дуэли:
«Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилёв никогда не желал делать достоянием общества. Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, – в произнесении им некоторых неосторожных слов – было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь. В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки „Орфея“, произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В<олошин>, бросившись к Гумилёву, оскорбил его. К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилёв, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собой. Здесь же он вызвал В<олошина> на дуэль» (Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. С. 41).
Заметим, что, отправляясь с Дмитриевой в Коктебель, Гумилёв не прекращает переписки с Андреем Горенко и Анной. Оттуда он пишет Андрею: «Анна Андреевна написала мне в Коктебель, что вы скоро туда переезжаете, обещала выслать новый адрес и почему—то не сделала этого. Я ответил ей в Киев заказным письмом, но ответа не получаю… Если Анна Андреевна не получила моего письма, не откажите передать ей, что я всегда готов приехать по первому ее приглашению, телеграммой или письмом» (Черных В. А.Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. С. 52).
Поступило ли такое предложение, нам не известно. Однако из Коктебеля он заехал к Анне в Лустдорф и настойчиво звал ее с собой в новое африканское путешествие. От путешествия, как и от очередного предложения руки и сердца, она отказалась. Однако провожала его из Лустдорфа в Одессу. Ахматова рассказывала, что в этой их долгой трамвайной поездке Гумилёв все спрашивал, любит ли она его. Анна ответила: «„Не люблю, но считаю Вас выдающимся человеком“. Н. С. улыбнулся и спросил: „Как Будда или как Магомет?“» (Там же).
Елизавета Ивановна Дмитриева явно обольщалась, уверяя себя и других в роковой любви к ней Гумилёва. В своих фантазиях она пошла так далеко, что приписывала себе и стихотворение «Отказ» («Царица, иль, может быть, только печальный ребенок…»). Написанные ею после смерти Гумилева воспоминания едва ли могли встретить сочувствие Ахматовой. Не вызвало у Ахматовой добрых чувств и, как она его определила, «надрывное письмо» Елизаветы Ивановны, которое та ей прислала вскоре после казни Гумилёва. «Из нашей встречи ничего не вышло», – замечает Ахматова в поздних записках.
Однако, неожиданно для себя самой, малозаметная, чуть прихрамывающая девица сыграла роковую роль в жизни и самого Анненского, приблизив, как была уверена Ахматова, его смерть. Дело в том, что, после отъезда Гумилёва из Коктебеля, великий мистификатор Волошин, на гребне своего чувства к Лиле (как по—домашнему звали Елизавету Дмитриеву), «сочинил» Черубину де Габриак.
С некоторых пор в редакцию журнала «Аполлон» стали поступать изящные конверты с гербом испанской аристократки. На бумаге с траурным обрезом изысканным почерком были написаны элегические стихи юной, как можно было полагать, красавицы, которой строгой католической семьей была уготована едва ли не монастырская келья. Редакция журнала и его главный редактор Сергей Константинович Маковский были всерьез заинтригованы. Дело дошло до того, что из очередного номера журнала были вынуты уже подготовленные к публикации стихи Иннокентия Ан—ненского и вместо них срочно помещены стихи Черубины де Габриак (под именем которой скрывалась Елизавета Дмитриева), заочно пленившей редакцию «Аполлона». Неожиданную смерть Анненского от сердечного приступа на пороге Царскосельского вокзала не без оснований связывали с его обидой на журнал. Для Ахматовой Дмитриева и Волошин навсегда остались связанными с оскорблением двух самых дорогих ей людей – Гумилёва и Анненского. [5]5
В дневниковых набросках Анна Ахматова писала, что стихи И. Ф. Анненского из—за публикации Черубины де Габриак С. Маковский «выбросил из перв<ого> номера, что и ускорило смерть Ин<но—кентия> Феод<оровича>». Эти заметки делались Ахматовой спустя полвека после событий, и неудивительно, что память ей изменила. Объективности ради необходимо уточнить, что три стихотворения Анненского «Ледяной трилистник» вместе с первой частью его статьи «О современном лиризме» все же были опубликованы в первом номере «Аполлона» (вышел 24 октября 1909 года), а на второй была намечена публикация его большого поэтического цикла. Однако неожиданно разразился скандал. Свободный, ироничный тон статьи Анненского, без учета сложившейся поэтической иерархии, вызвал обиду упоминаемых в ней поэтов Вяч. Иванова, Ф. Сологуба (грозившегося даже вызвать издателя и редактора журнала С. Маковского на дуэль), а также яростные нападки в печати. Маковский отложил цикл Анненского, поместив вместо него стихи Черубины, и в этом же номере опубликовал открытое «Письмо в редакцию» Иннокентия Федоровича, где он пытался объяснить задачу своей статьи. Всё вместе усугубило давнюю сердечную болезнь поэта, далекого от амбициозной литературной среды и не привыкшего к скандальным полемикам. Умер Иннокентий Анненский от внезапного сердечного приступа на ступенях Царскосельского вокзала вечером 30 ноября 1909 года, возвращаясь из Петербурга домой в Царское Село. – Прим. ред.
[Закрыть]
Оскорбление, нанесенное Гумилёву Волошиным, и грустная, как считала Ахматова, мистификация, предпринятая Волошиным и Дмитриевой, причинившая боль И. Ф. Ан—ненскому, выявляют ее подлинное отношение к Гумилёву, открыто никогда ею не высказываемое. Инцидент с пощечиной не отделил Анну от Гумилёва, встретив с ее стороны сочувственно—дружеское понимание. Она осознает глубину его уязвленного самолюбия и чувство своей вины. В сложном контексте своих отношений с Анной Гумилёв не ошибся в одном – она была ему «товарищем от Бога» и, как показала его посмертная судьба, никогда его не предавала. Даже ее решение, наконец уже всерьез и окончательно принять предложение Гумилёва выйти за него замуж, совпало с не совсем удачным его выступлением в Киеве.
В конце ноября 1909 года в Киев приехали Гумилёв, Михаил Кузмин, Алексей Толстой, участники вновь организованного ежемесячного журнала современной поэзии «Остров». Денег, выпрошенных Гумилёвым у мецената, хватило на издание первого номера. Второй номер был отпечатан, но на выкуп и вывоз его из типографии не хватило средств. И хотя на его страницах красовались стихи Кузмина, Вяч. Иванова, Гумилёва, Алексея Толстого, успеха издание не имело, как и посвященный ему вечер «Остров искусств». Зал уже знал злую пародию на стихи респектабельного графа Толстого (сочинявшего, как считалось, в стиле рюсс):
Корова ль, бык – мне все равно.
Я – агнец, ты – овца.
Я куриц всех люблю равно
Без меры, без конца.
На вечере «Остров искусств» была и Анна Горенко. После Анна и Гумилёв долго бродили по осеннему, промозглому городу, замерзли и зашли выпить кофе в гостиницу «Европейская», что помещалась сразу за Владимирской горкой. Там Гумилёв снова сделал ей предложение, и она согласилась.
Гумилёв провел в Киеве три дня, нанес визит кузине Анны художнице Марии Змунчилле, был весел, читал стихи, опять собирался в Африку и снова звал с собой Анну. О своей помолвке они никому не сказали, отчасти из суеверия, отчасти из—за того, что все уже привыкли к его предложениям и следовавшим через какое—то время ее отказам. В Киеве Гумилёв и Кузмин жили у художницы Александры Экс—тер. 30 ноября 1909 года Толстой, Кузмин и Потемкин проводили Гумилёва в Одессу, откуда на пароходе он отправился в Африку.
Позже Ахматова не раз говорила, что всерьез согласиться на предложение Гумилёва ее подвигла фраза из его письма: «Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам» (Записные книжки Анны Ахматовой. С. 275).
Венчание Анны Горенко и Николая Гумилёва состоялось 25 апреля 1910 года в предместье Киева, в Николаевской церкви села Никольская Слободка Остерского уезда Черниговской губернии. Выбор маленькой деревенской церкви и отказ от каких бы то ни было торжеств имел ряд причин: в феврале внезапно умер отец Николая Гумилёва – Степан Яковлевич и еще не кончился срок траура, кроме того, суеверный Николай мог выбрать именно эту церквушку в честь своего покровителя Николая Мирликийского, его по—прежнему мучила неопределенность, не сбежит ли невеста из—под венца. Во всяком случае сама Анна тоже не была до конца уверена в серьезности происходившего. Накануне первой годовщины свадьбы она написала исповедальное стихотворение «Рыбак» о том, что рассказывала уже Гумилёву о себе. Сохранилась запись Лукницкого о событии 26 февраля 1910 года со слов Ахматовой:
«…поехала в Царское Село к Гумилёву. Случайно оказалась в одном вагоне с Мейерхольдом, Кузминым, Зноско и др. (ехали к Гумилёву), с которыми еще не была знакома. Гумилёв встретил их на вокзале, предложил всем ехать прямо к нему, а сам отправился на кладбище, на могилу Анненского. По возвращении домой познакомил А. А. со всеми присутствующими (не сказав, однако, что А. А. – его невеста. Он не был уверен, что свадьба не расстроится)» (ЧерныхВ. А.Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. С. 55).
Тогда же, в феврале, на Масленицу, она была первый раз у Гумилёвых в Петербурге. По—видимому, она посетила дом Гумилёвых уже как невеста. Судя по записке Анны Валерии Срезневской, договоренность о скором замужестве, в Киеве, существовала. Записка свидетельствует об отнюдь не радостном настроении: «Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы всё знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать. Аня» (Там же).
И тем не менее для Анны приезд Гумилёва в Киев был почти неожиданным, во всяком случае не согласованным с ней. Судя по тому, что в марте она заполнила очередную «Семестральную карту» Киевских женских курсов, стремительный отъезд из Киева ею не планировался.
Что же касается Гумилёва, он подготовился к этому событию педантично и тщательно, опасаясь упустить шанс, так долго от него ускользавший. 5 апреля Гумилёв подал прошение ректору Санкт—Петербургского университета: «Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить мне вступить в законный брак с дочерью статского советника Анной Андреевной Горенко. <… > Царское Село, Бульварная, дом Георгиевского» (Там же. С. 56).
А 21 апреля он писал Брюсову:
«Пишу Вам, как Вы можете видеть по штемпелю, из Киева, куда я приехал, чтобы жениться. Женюсь я на А. А. Горенко, которой посвящены „Романтические цветы“. Свадьба будет, наверное, в воскресенье, и мы тотчас же уезжаем в Париж. К июлю вернемся и будем жить в Царском по моему старому адресу» (Там же).
Шаферами на свадьбе были поэты Владимир Эльснер и цирковой тяжеловес, автор эротических стихов, ученик Брюсова Иван Аксенов, знакомые Гумилёва по студии Александры Экстер. Владимир Эльснер позже рассказывал, что это было чуть ли не тайное венчание. Анна выехала из дому в своей обычной одежде и где—то уже недалеко от церкви переоделась в подвенечный наряд. В церкви не было родственников Анны Андреевны, отнесшихся весьма скептически к этому бракосочетанию. Она рассказывала своему биографу Аманде Хейт, что родственники «считали брак заведомо обреченным на неудачу, и никто из них не пришел на венчание, что глубоко оскорбило ее» (Хейт А.Анна Ахматова. С. 32).
Анна не простила им этой обиды и с горечью вспоминала свою бесприютность на свадьбе. «Хорони, хорони меня, ветер! / Родные мои не пришли…» – написала она.
2 мая Анна Гумилёва с мужем выехала в свадебное путешествие в Париж, через Варшаву. В Париже они поселились на rue Bonaparte,10. Гумилёв ввел ее в круг своих старых знакомых. Они много бродили по Парижу, съездили в средневековое аббатство Клюни, с удовольствием заходили в Зоологический сад, наблюдая за его обитателями, сиживали в любимых Гумилёвым кафе Латинского квартала, бывали в ночных кабаре. Здесь возобновились отношения Анны с художницей Александрой Экстер, еще в Киеве принявшейся писать ее портрет, угадав за необычной внешностью юной женщины любимую модель художников—модернистов ХХ века. Неизвестно, был ли завершен портрет или затерялся в фондах Экстер и, возможно, еще будет явлен миру (в наши дни наследие художницы переживает «бум»). Результатом продолжившейся дружбы стали стихи, как можно полагать, навеянные ее посещением студии Экстер. Примечательны они и тем, что появились в печати, впервые заявив псевдоним Анна Ахматова:
СТАРЫЙ ПОРТРЕТ
А. А. Экстер
Сжала тебя золотистым овалом
Узкая, старая рама.
Негр за тобой с голубым опахалом,
Стройная белая дама.
Тонки по—девичьи нежные плечи,
Смотришь надменно—упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма,
Возле на бронзовом столике цитра,
Роза в граненом бокале…
В чьих это пальцах дрожала палитра,
В этом торжественном зале?
И для кого эти жуткие губы
Стали смертельной отравой?
Негр за тобою, нарядный и грубый,
Смотрит лукаво.
Здесь они встретились с петербуржцами – супругами Чулковыми и Сергеем Маковским, редактором «Аполлона». Гумилёв возобновил знакомство с Ж. Шюзвилем, А. Мерсе—ро, Р. Аркосом, Н. Деникером. Они нанесли визит французскому критику Танкреду де Визану. Анна впервые увидела Модильяни.
Анна Парижу понравилась. Встречавшаяся там с ней Надежда Григорьевна Чулкова вспоминает:
«Ахматова была тогда очень молода, ей было не больше двадцати лет. Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая. (Она сама мне показывала, что может, перегнувшись назад, коснуться головой своих ног.) На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером – это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж – поэт Н. С. Гумилёв» (Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 36).
Добавим, что, кроме белого страусового пера из Африки, у нее было много «дикарских» браслетов и бус, так восхищавших Модильяни.
Чулкова вспоминает, как уставшая от долгой ходьбы Ахматова как—то сняла туфли в кафе под столиком, а дома нашла в туфельке визитную карточку страшно модного в то время авиатора Блерио.
С Амедео Модильяни Анна познакомилась в мае 1910 года, возможно, в знаменитом кафе «Ротонда». Она пишет: