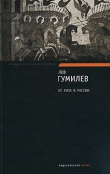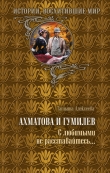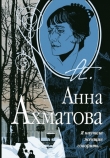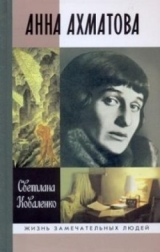
Текст книги "Анна Ахматова"
Автор книги: Светлана Коваленко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Анна просит фон Штейна держать ее в курсе столичной литературной жизни, интересуется для себя и Нанички новыми книгами Блока, строго судит киевские литературные пристрастия, считая их провинциальными, обнаруживая при этом взыскательный вкус и знание доступной ей современной литературы.
Распад семьи и вынужденное скитание по югу России окрашивают все происходящее в мрачные тона, хотя жизнь в Киеве не была столь уж безрадостной. Особенно в последний год, о чем свидетельствуют ее «жалостные» письма фон Штейну. Она посещает юридическое отделение Высших женских курсов. Благодаря дружбе с Наничкой входит в круг художников, и Александра Экстер, с которой ее связала дружба, пишет ее портрет, на что Анна отвечает мадригалом, в котором уже бесспорно присутствует мастерство. Однако память о годе, проведенном в Евпатории, ее угнетает. До конца жизни Ахматова не могла забыть, как Инна Эразмовна часами просиживала в глубокой задумчивости, не замечая, что беспрерывно стучит пальцами по столу. Близкая приятельница Анны Ахматовой – Эмма Герштейн приводит ее слова: «Этот монотонный звук даже навел соседей на мысль о нелегальном типографском станке, на котором студент Андрей Горенко якобы печатал революционные прокламации».
Именно в Киеве Анна Горенко приняла предложение Гумилёва и они обвенчались 25 апреля 1910 года в маленькой сельской церкви Святителя Николая Мирликийского, после чего уехали в свадебное путешествие в Париж.
Годы, проведенные Анной в Киеве, важны и интересны для понимания ее внутреннего мира в его открытости, еще без установки на определенный образ, все же присутствующий в поэзии и прозе уже Анны Ахматовой, а не Ани Горенко. Киевскому периоду мы обязаны уже упомянутыми письмами, которые она посылала в Петербург Сергею Владимировичу фон Штейну, мужу покойной сестры Инны. Наивная и доверчивая Аня Горенко просила Штейна уничтожить письма и была уверена, что он выполнит ее просьбу. Когда же безобидный отрывок из одного письма был опубликован Голлербахом, а все письма проданы в 1934 году в Литературный музей «без права публикации», праведный гнев уже не юной и доверчивой Нюты Горенко, но знаменитой Анны Ахматовой, обрушившийся на публикатора, определил ее резко отрицательное отношение к нему на всю жизнь.
Дело в том, что уезжавший из России фон Штейн оставил письма в своем архиве, а их новый владелец Голлербах, получивший доступ к архиву после женитьбы на бывшей жене фон Штейна Екатерине Владимировне, после ее смерти нашел возможным предать гласности вполне безобидный отрывок, не имеющий отношения к интимному сюжету. По—видимому, Голлербах руководствовался благородной целью – показать незаурядный уровень суждений юной девушки, живущей вдали от столицы, о современной литературе. Однако гордая Ахматова, понимавшая, что ее тайна, которая никому и никогда не доверялась, перестала быть тайной, была глубоко уязвлена.
Впервые письма Анны Ахматовой Сергею фон Штейну, как помним, были опубликованы и откомментированы известным литературоведом и близкой приятельницей Ахматовой Эммой Григорьевной Герштейн в издательстве «Ардис» в 1977 году. Герштейн обратила внимание на фразу, которая могла быть воспринята и воспринималась, как экзальтичес—кое выражение любовного переживания юной девицы, умирающей от неразделенной любви и рассуждающей о своем скором замужестве с другим.
Однако рассмотрение фразы в контекстах любовной лирики Ахматовой позволяет по—новому понять сокровенный смысл ее истоков. «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви», – пишет она в письме от 11 февраля 1907 года фон Штейну. В этой на первый взгляд даже банальной фразе, теряющейся в потоке ее признаний в «безумной любви» к Голенищеву—Кутузову, скрыт ключ, открывающий тайну горестного чувства, таящегося в самой глубине любовной лирики и определяющего ее тональность.
Возможно, что реальный персонаж, Голенищев—Кутузов, ни разу не упомянутый Ахматовой в доверительных разговорах с близкими ей людьми, не удостоенный ни одного посвящения, не запечатленный на страницах записных книжек и дневниковых записей, оказался всего лишь эмоциональным толчком в формировании образа лирической героини с ее горькой и неразделенной любовью.
Герштейн в своем скупом комментарии реалий, связанных с личностью Голенищева—Кутузова, свидетельствует (без каких бы то ни было ссылок на источник), что триптих «Смятение», открывающий вторую книгу Ахматовой «Чётки», относится к нему. Цикл датирован 1913 годом, и при его прочтении, с учетом свидетельства Герштейн, подтверждает ее предположение. При скудных сведениях об этом персонаже представляется существенным соотнесение его портрета в письме к фон Штейну и в стихотворном тексте.
В том же письме от 11 февраля 1907 года, благодаря фон Штейна за наконец присланную фотографию своего кумира, Ахматова пишет: «…я никогда, никогдане забуду того, что Вы сделали для меня. Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно—холодный, он смотрит на меня усталым, спокойным взором близоруких светлых глаз» (Там же. С. 329).
А вот «портрет» поэтический. Из третьего стихотворения триптиха «Смятение» (1913):
Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся —
И загадочных, древних ликов
На меня поглядели очи…
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его – напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто и ясно.
Думается, что в свете ее отношения к Голенищеву—Кутузову и его сюжетного «развития» в ахматовской поэзии может быть понято всегда удивлявшее меня стихотворение:
Углем наметил на левом боку
Место, куда стрелять,
Чтоб выпустить птицу – мою тоску
В пустынную ночь опять.
Милый! не дрогнет твоя рука,
И мне недолго терпеть.
Вылетит птица – моя тоска,
Сядет на ветку и станет петь.
Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,
Раскрывши окно, сказал:
«Голос знакомый, а слов не пойму», —
И опустил глаза.
(«Углем наметил на левом боку…», 1914)
Стихи эти воспринимаются как освобождение от неотпу—скавшего так долго любовного страдания, претворенного в поэзию.
Глава четвертая
ГУМИЛЁВ
С Гумилёвым Анна Горенко впервые встретилась в Сочельник 1903 года, как уже говорилось. Познакомила их Валерия Тюльпанова, ее ближайшая подруга и соседка по царскосельскому дому, учившаяся в той же гимназии, классом старше. В этот день девочки вместе с младшим братом Валерии Сережей отправились в магазин за игрушками для елки, которую каждый год устраивали Тюльпановы в первый день Рождества. У Гостиного двора они встретили братьев Гумилёвых – старшего Митю, учившегося в Петербурге в Морском кадетском корпусе, и младшего Колю, гимназиста седьмого класса Царскосельской Императорской Николаевской гимназии. Валерия, или Валя, как ее тогда называли, была знакома с молодыми людьми через свою учительницу музыки Е. М. Баженову, которая занималась и с Гумилёвыми. Елизавете Михайловне очень нравились «мальчики Гумилёвы», совсем недавно поселившиеся в Царском Селе в собственном доме и, как ей казалось, выгодно отличавшиеся от их царскосельских сверстников. Она привела в дом Тюльпановых своего любимца Митю, а позже познакомила Валерию с Колей.
Немного поговорив, все четверо пошли выбирать игрушки уже вместе – Валерия с Митей, а Аня с Колей, после чего молодые люди проводили их до дому и церемонно распрощались. Надо сказать, что ни тот ни другой не произвели впечатления на девочек. По—другому воспринял встречу и знакомство Коля Гумилёв.
Недавно появившийся в Царском Селе и не признанный за «своего», Николай Гумилёв на самом деле был самым что ни на есть царскоселом, хотя родился в Кронштадте, в семье морского врача Степана Яковлевича Гумилёва и Анны Ивановны, урожденной Львовой. Обряд крещения совершил священник Кронштадтского военного госпиталя на дому, в пятый день от рождения. Крестным отцом был Лев
Иванович Львов (брат А. И. Гумилёвой), крестной матерью – Александра Степановна Сверчкова (сводная сестра будущего поэта). В том же 1886 году, в середине мая, когда мальчику еще не было месяца, семья Гумилёвых переезжает в Царское Село, в только что купленный дом на Московской улице. С 1886 по 1895 год Гумилёвы с перерывами живут в Царском Селе. Родители очень заботились о здоровье детей и в 1890 году приобрели небольшую усадьбу в Поповке по Николаевской железной дороге, где семья проводит значительную часть времени. На шестом году жизни Николай сам учится читать, сочиняет басни, которые еще не в состоянии самостоятельно записывать. В 1893 году он поступает в приготовительный класс Царскосельской гимназии, однако осенью заболевает бронхитом и переходит на домашнее обучение. Много читает: Лермонтова, Пушкина, приключенческую литературу – Жюль Верна и Майн Рида, навсегда влюбляется в сказки Андерсена. Интересуется зоологией и создает у себя в комнате «живой уголок» с морскими свинками и лягушками.
В 1895–1900 годах Коля Гумилёв прилежно учится в Петербургской гимназии Гуревича. Однако у брата Мити обнаруживают туберкулез, Гумилёвы продают Поповку, оставляют петербургскую квартиру и уезжают на Кавказ, где с четвертого по шестой класс Коля учится в 1–й Тифлисской гимназии, которая считалась лучшей. Он уже всерьез интересуется литературой. Тифлис в то время был городом русской культуры, будившим интерес к искусству. 8 сентября 1902 года происходит знаменательное событие – в газете «Тифлисский листок» (№ 211) напечатано стихотворение Николая Гумилёва «Я в лес бежал из городов…». Этой своей первой публикацией он очень гордился. Хотя в среде тифлисских читателей больший интерес вызвало сентиментально—романтическое «Нэт умерла в начале мая, / Ей было девятнадцать лет. Как жаль, веселая такая, / Беспечная такая Нэт…». По—видимому, в определенных кругах знали, кого имел в виду юный поэт. Одновременно с пробуждением творческой энергии приходит явное охлаждение к занятиям в гимназии.
Летом 1903 года Гумилёвы навсегда покидают Тифлис и возвращаются в Царское Село. Юноше явно не хотелось садиться за школьную парту, и он пытается зачислиться в гимназию экстерном. Однако вакансий для экстернов не было, и его принимают интерном, разрешив, однако, жить дома.
Так случилось, что возвращение к «родным пенатам» не принесло радости. Высокий, бледнолицый, с чуть косящими глазами и некоторой картавостью, молодой человек держался нарочито прямо, отличался церемонностью в обращении и, может быть, главное, что раздражало, – писал не нравящиеся сверстникам стихи, был поклонником модернистской поэзии, которую никто из них не знал, но все были уверены, что это плохо. Он не сошелся с одноклассниками и их друзьями, и между ними сложились отношения, которые позже и Гумилёв и Ахматова назвали «травлей». Смеялись и над тем, что высоковозрастный «денди», вскоре обзаведшийся цилиндром, был оставлен в седьмом классе на второй год за двойки по математике и латыни. Недоброжелательность и предвзятость усугублялись тем, что к новенькому явно благоволил директор гимназии Иннокентий Федорович Анненский, человек высочайшей филологической культуры, писавший стихи, прославившие его уже после смерти и оказавшие большое влияние на культуру Серебряного века. Случалось, по понедельникам, Анненский проводил в своей царскосельской квартире литературные собрания, с непременным участием Гумилёва. Через некоторое время на собрания стала приходить, как они считали, «малявка», гимназистка третьего класса Аня Горенко, в которую, это уже все знали, был безответно влюблен Гумилёв.
Еще к тому времени относится возникновение мифа о «некрасивости» Гумилёва, к развитию которого позже невольно приложила руку сама Ахматова, написав недоброе стихотворение:
Под навесом темной риги жарко,
Я смеюсь, а в сердце злобно плачу.
Старый друг бормочет мне: «Не каркай!
Мы ль не встретим на пути удачу!»
Но я другу старому не верю.
Он смешной, незрячий и убогий,
Он всю жизнь свою шагами мерил
Длинные и скучные дороги.
(«Под навесом темной риги жарко…», 1911)
Возможно, стихотворение написано в ответ на знаменитое гумилёвское «Из логова змиева, / Из города Киева, / Я взял не жену, а колдунью…». Шутливые стихи, воспринятые позже как «портреты» (уже знали о страсти Гумилёва, только что возвратившегося из Африки, к путешествиям), перекочевали в некоторые из поздних мемуаров. В. С. Срезневская (Тюльпанова), как можно полагать, отвечала скопом всем мемуаристам, когда описывала внешность Гумилёва, и особенно младшему царскоселу, Николаю Оцупу, записавшему свои детские воспоминания:
«Он так важно и медлительно, как теперь, говорит что—то моему старшему брату Михаилу. Брат и Гумилёв были не то в одном классе, не то Гумилёв был классом младше. Я моложе брата на 10 лет, значит, мне было тогда лет шесть, а Гумилёву лет пятнадцать. И все же я Гумилёва отлично запомнил, потому что более своеобразного лица не видел в Царском Селе ни тогда, ни после. Сильно удлиненная, как будто вытянутая вверх голова, косые глаза, тяжелые медлительные движения и ко всему очень трудный выговор, – как не запомнить!» (Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. М., 1990. С. 174).
Срезневская пишет:
«Он не был красив, – в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри… Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом, – я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности. Так, блондин, каких на севере у нас можно часто встретить.
Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую военную школу, он сделался лихим наездником, обучавшим молодых солдат, храбрым офицером (он имел два Георгия за храбрость), подтянулся и, благодаря своей превосходной длинноногой фигуре и широким плечам, был очень приятен и даже интересен, особенно в мундире. А улыбка и несколько насмешливый, но милый и недерзкий взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз нравились многим и многим. Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая «р» и «л», что придавало его говору совсем не уродливое своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие» (Об Анне Ахматовой. С. 19–20).
Встреча юноши Гумилёва с необыкновенной девочкой (а то, что она необыкновенна и не похожа на других царско—селок, он сразу понял) произвела на него неизгладимое впечатление. Несколько раз после их знакомства он видел Анну на катке, но она не обращала на него внимания. Тогда он познакомился и подружился с ее старшим братом Андреем. Андрей Андреевич Горенко прекрасно разбирался в поэзии, хорошо знал латинские поэтические тексты, увлекался новейшей поэзией – французским символизмом и нарождающимся русским модернизмом. Позже он женился на своей киевской кузине Марии Змунчилле, буквально влюбленной в новейшую поэзию, и они выписывали новейшие литературные журналы.
Андрей с интересом отнесся к поэтическим опытам Николая Гумилёва. Гумилёв стал бывать в их достаточно закрытом доме. Горенки жили замкнуто, и сама девочка Аня не вызывала добрых чувств у царскосельских обывателей, ее называли «лунатичкой». Постепенно между Николаем и Анной все же установились дружеские отношения. Гумилёв дарил ей книги по новейшей французской и русской поэзии. Он много писал и готовил к изданию свою первую книгу «Путь конквистадоров» (1905), полностью забросив занятия в гимназии.
Любимый старший брат Ани Андрей, подружившийся с Гумилёвым, сам был хорошо осведомлен в современной поэзии, и Анна, благодаря ему, еще до знакомства с Николаем была знакома с новейшей поэзией, а с ее прекрасным французским читала и знала наизусть «проклятых поэтов»: Бодлера, Верлена, Малларме.
Гумилёв безоглядно влюбился с первого взгляда, не встретив, однако, не только ответного чувства, но и сколько—нибудь выраженного интереса. Он же был настойчив, встречал ее после гимназии, откуда она обычно выходила вместе с Валей Тюльпановой, сопровождал девочек до дома. Валерия Сергеевна вспоминает: «Мы много гуляли, и в тех прогулках, особенно когда мы не торопясь шли из гимназии домой, нас часто „ловил“ поджидавший где—то за углом Николай Степанович. Сознаюсь… мы обе не радовались этому… и мы его часто принимались изводить. Зная, что Коля терпеть не может немецкий язык, мы начинали вслух вдвоем читать длиннейшие немецкие стихи… А бедный Коля терпеливо, стоически слушал… и все—таки доходил с нами до самого дома!» (Воспоминания об Анне Ахматовой. С. 14).
Но это еще только начало горестных испытаний, преподнесенных ему судьбой после встречи, которую кроме как роковой не назовешь, да и сама Анна оказалась роковой, и не только для него.
Они часто бывали вместе на вечерах в ратуше, на гастролях Айседоры Дункан, искусство которой привлекало Гумилёва, на студенческих вечерах в артиллерийском собрании, участвовали в благотворительном спектакле в клубе на Широкой улице, были на нескольких модных тогда спиритических сеансах у Бернса Майера, хотя и относились к ним весьма иронически.
Юноша Гумилёв был самолюбив, горд, наделен доведенным до крайности чувством мужского достоинства, так легко попираемого девочкой—подростком, а позже женщиной, женой. Однако, сделав свой выбор, он изначально запасся терпением, надеялся, что все образуется, и продолжал настойчивые ухаживания. Он мечтал о будущем с Анной, и эти мечты нашли отражение в его юношеских стихах: «Девушка, игравшая судьбой, / Скоро станет верною женой, / Ласковым товарищем в работе…» Он любил и, значит, надеялся.
На Пасху 1904 года Аня и Валерия были приглашены к Гумилёвым на бал, а чуть раньше, в конце февраля, в царскосельском парке, на скамейке у дуба, памятного для Ахматовой с тех пор, он ей признался в любви. Это мало что изменило в их отношениях, взаимностью она ему не ответила, никаких обещаний не дала, приняв его признание как данность, и все же вселила, по—видимому, какую—то надежду. С этих пор между ними возникла непонятная ей самой странная связь. Уже на склоне лет Ахматова говорила, что еще не пришло время понять и объяснить те удивительные и непонятные отношения, которые их связали в юности и не прекратились после его страдальческой гибели.
Было бы неверно сказать, что юная Анна была совсем равнодушна к своему обожателю. При живом, пытливом уме и прекрасно развитой интуиции она понимала исключительность влюбленного в нее юноши. Ей льстило, что его удивительные стихи были открыто обращены к ней, что она виделась ему в его романтических фантазиях то русалкой, то пленительной и жестокой царицей, но всегда в лунном свете. Первое из посвященных ей стихотворений, «Русалка», отмечено отблесками символистских прозрений. Его русалка хотя и является порождением потустороннего мира, но еще не несет в себе разрушительного, бесовского начала. Она лишь ослепительно хороша, поражая своей нездешнос—тью и греховностью:
На русалке горит ожерелье,
И рубины греховно—красны,
Это странно—печальные сны
Мирового, больного похмелья.
Здесь первое признание в любви ей, Ане Горенко, восторг юного поэта и ощущение своей близости к ее природной, а значит, и духовной стихии.
Я люблю ее, деву—ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины…
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.
В это время влюбленность в Аню Горенко сочетается в его воображении с романтической влюбленностью в мир таинственного и исключительного. Свою комнату в Царском
Селе он оборудовал в виде подводного грота с фонтаном, а его друг художник нарисовал на стене русалку, обнаруживающую явное сходство с Аней Горенко. Они как бы на равных – «дева—ундина» и ее паладин. Однако уже в следующем стихотворении «Баллада» («Сказка о королях») возникает тревога, по мере развития их отношений перерастающая для него в трагическое чувство. Он подарил ей золотое кольцо с крупным рубином, и она приняла подарок, зная, что кольцо связано со стихами, к ней обращенными:
Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спуститься в глубины пещер
И увидел луны молодое лицо.
Кони фыркали, били копытом, маня
Понестись на широком пространстве земном,
И я верил, что солнце зажглось для меня,
Просияв, как рубин на кольце золотом.
Много звездных ночей, много огненных дней
Я скитался, не зная скитанью конца,
Я смеялся порывам могучих коней
И игре моего золотого кольца.
Там, на высях сознанья, – безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичом.
Я на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом.
В тихом голосе слышались звоны струны,
В странном взоре сливался с ответом вопрос,
И я отдал кольцо этой деве луны
За неверный оттенок разбросанных кос.
И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер отворил мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня —
И Отчаянье было названье ему.
Аня, при всем ее своенравии, понимала, что принимать такие подарки, как золотое кольцо, от молодых людей, согласно общеустановленным правилам, если даже не считаться с ними, все же не следует, и скрыла его от домашних. Как—то она уронила кольцо, и оно упало в щель между досками пола. Достать его, не подняв половиц, оказалось невозможным, и кольцо навсегда осталось в подполе шу—хардинского дома. В отличие от «черного кольца» бабушки—татарки, память о кольце с рубином не нашла отклика в ее поэзии, промелькнув, однако, в биографических заметках.
К лету 1906 года, когда Гумилёв получил аттестат об
окончании гимназии, уже более полугода как была напечатана первая книга его стихов «Путь конквистадоров» – о дальних странах, которых он еще не видел, но мечтал увидать, о гордых, бесстрашных мужчинах и жестоких, пленительных женщинах, любовь к которым нередко оплачивается жизнью. Сам он пока готовится к единоборству со своей избранницей. В цикле «Осенняя песня» его лирический герой надеется по—своему выстроить отношения с любимой женщиной, при своей, однако, главенствующей роли.
Обращаясь к тому времени, Ахматова делает запись в рабочей тетради:
«Мой первый портрет в „Пут<и> Конквистадоров“ – „и властно требует мечта, чтоб этой не было улыбки“. Кроме того, очень рано („П<уть> Конквистадоров“) в Ц<арском> С<еле> я стала для Г<умилёва> в стих<ах> (почти Лилит, т. е. злое начало в женщине). Затем (напр<имер>, см. „Сон Адама“ – Ева).
Он говорил мне, что не может слушать музыку, по<тому> что она ему напоминает меня» (Ахматова А.Собрание сочинений. Т. 5. С. 90).
Отношения Анны и Николая не сложились, потому что она уже была тайно влюблена в другого. То было самозабвенное увлечение девочки—подростка мужчиной старше ее, по—видимому, и не догадывавшимся о чувстве, которое ее мучило. В. С. Срезневская, свидетельница тех событий, высказывает банальное и тем не менее убедительное в своей правдоподобности объяснение, почему, как ей кажется, Аня так легко предпочла Гумилёву другого: «…вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом» (Об Анне Ахматовой. С. 18).
Ее тайной страстью стал уже упоминавшийся студент третьего курса арабо—персидско—турецкого разряда факультета восточных языков Санкт—Петербургского университета, с элегантной внешностью, с прекрасными манерами и звучной фамилией Голенищев—Кутузов. Его младшие братья, судя по составленным П. Н. Лукницким «Трудам и дням», учились в одном классе с Гумилёвым и бывали у него дома. Сам же Владимир Викторович Голенищев—Кутузов был, видимо, близко знаком с мужем старшей сестры Анны Инны Андреевны, Сергеем Владимировичем фон Штейном (как помним, отозвавшись на мольбу Ани, он послал ей в Киев, где она кончала гимназию, фотографию ее избранника). По—видимому, Анна встречала его главным образом на «журфиксах» по четвергам в квартирке фон Штейнов. Сергей, судя по письмам Анны к нему из Киева, знал о ее страстном увлечении, однако нет никаких оснований считать, что о пылкости ее чувств было известно самому предмету.
«Роман», как можно полагать, развертывался главным образом в Анином воображении. В 1907 году, когда она закончила гимназию, Голенищев—Кутузов окончил университет. В Центральном государственном архиве Санкт—Петербурга хранится свидетельство об окончании им университета. В ежегоднике МИД за 1908 год он упомянут среди причисленных к 1–му департаменту.
Владимир Викторович Голенищев—Кутузов уехал на дипломатическую работу, вроде бы в Стамбул, и о дальнейшей его судьбе ничего не известно. В пору зенита славы Ахматовой, – после того как в Мюнхене был опубликован «Реквием», а в Соединенных Штатах «Поэма без героя», – когда о знакомстве с ней вспомнило все русское зарубежье и каждый готов был рассказать о своих встречах, голос Голенище—ва—Кутузова никак не прорезался. Возможно, если он был еще жив, в его памяти имя Анны Ахматовой никак не связывалось с той далекой Аней Горенко, сестрой Андрея и свояченицей Сергея фон Штейна, если он ее вообще помнил. В фолиантах «Незабытые могилы», вышедших в Москве в последние годы, среди Голенищевых—Кутузовых он не числится.
В поздних биографических заметках Ахматовой и в ее беседах с биографами фамилия эта не встречается. Равно нет ее и среди адресатов стихов. Едва ли к нему может быть отнесено ее признание Лукницкому:
«В течение своей жизни любилатолько один раз. Только одинраз. «Но как это было!»
В Херсонесе три года ждала от него письма. Три года каждый день, по жаре, за несколько верст ходила на почту, и письма так и не получила».
Однако, по—видимому, это самое никогда не пришедшее письмо встречается и в поздних биографических заметках Ахматовой. Она пишет, что много раз видела письмо во сне, уже вынутым из конверта, но так никогда ею и не прочитанным.
В одном из откровенных разговоров с Павлом Лукниц—ким (январь—март 1925 года) она сказала:
«Закинув голову на подушку и прижав ко лбу ладони, – с мукой в голосе:
«И путешествия, и литература, и война, и подъем, и слава – всё, всё, всё, решительно всё – только не любовь… Как проклятье! …И потом эта, одна—единственная – как огнем сожгла всё, и опять ничего, ничего…»» (Лукницкий П. Н.Acumiana. Т. 1. С. 44).
Скажем прямо, едва ли только мне, но и другим исследователям и биографам Ахматовой вряд ли доведется с достоверностью установить, кто он, кого она любила. Ахматова не захотела раскрыть эту тайну, окрасившую, однако, в трагические тона ее любовную лирику.
Знойным июлем 1907 года, когда мысли Анны все еще были заняты ее неостывшей любовью к Голенищеву—Куту—зову, Гумилёв, державший путь в Париж, заезжает в Севастополь, где она живет с матерью при водолечебнице Шмидта. Как помним, он гостит у них две недели, вернее, селится рядом, зовет ее с собой в Париж, снова просит стать его женой и снова получает отказ. Анна ведет себя неровно, то обнадеживает, то смеется. Она не хочет слушать привезенную ей в дар пьесу «Шут короля Батиньоля», и расстроенный Гумилёв рвет рукопись. Они много разговаривают, он делится планами издания журнала. Допоздна сидя на морском берегу, наблюдают за подплывающими близко дельфинами. Анна признается Гумилёву, что она не невинна, о чем говорила и раньше, но как—то несерьезно. По—видимому, результатом тех разговоров стали тревожные стихи Гумилёва, объединенные в цикл «Беатриче», написанный до 30 октября 1906 года:
Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.
Дальше, докучные фавны,
Музыки нет в вашем кличе!
Знаете ль вы, что недавно
Бросила рай Беатриче,
Странная белая роза
В тихой вечерней прохладе…
Что это? Снова угроза
Или мольба о пощаде?
……………………………
Музы, в сонете—брильянте
Странную тайну отметьте,
Спойте мне песню о Данте
И Габриеле Россетти.
Теперь, через год, подтверждение ранее ею сказанного, сама мысль о возможной реальности того, о чем он пытался не думать, приводит его в состояние, близкое невменяемости, «звездного ужаса», в который он ввергнут женщиной.
Гумилёв был далек от условностей; в то время таким «мелочам», как потеря невинности, в их кругу уже мало кто придавал значение. Однако это могло произойти с кем угодно, но только не с его Беатриче, которую он встретил девочкой и обоготворил. Он уезжает, оставшись в неведении, действительно ли это произошло или она так жестоко шутит, но в любом случае глубоко уязвленный. В Париже его попытка самоубийства, очевидно, связана с мучительной памятью о недавнем разговоре. В пути он пишет стихотворение, за романтическим антуражем, элегической прелестью и музыкой которого проступают живые факты.
Вот как представлен этот сюжет биографом Ахматовой (Хейт А.Анна Ахматова. С. 30):
«Они стояли вдвоем и в молчании смотрели на берег, куда выбросило мертвых дельфинов. Гумилёв описал это мгновение в стихотворении „Отказ“:
Царица, иль, может быть, только печальный ребенок,
Она наклонилась над сонно вздыхающим морем,
И стан ее, стройный и гибкий, казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу сиреневым зорям.
Сбегающий сумрак. Какая—то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины.
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевитые спины.
Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое: «Не надо»…
Царица, иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда».
Кто такой принц, им или самим Гумилёвым было сказано это «роковое: „Не надо“» – непонятно. Было бы наивным пытаться увидеть в зазеркалье стихотворения конкретных персонажей, если бы через несколько лет в поэме Ахматовой «У самого моря» не появился «царевич», возможно, тот самый таинственный принц из стихотворения «Отказ», противопоставленный «сероглазому мальчику», о котором сама Ахматова говорила, что его прототипом был Гумилёв.
В Париж Гумилёв уезжал уязвленным и разочарованным, навстречу новой попытке самоубийства. Он пока еще не знает, кто же она, его прежняя Беатриче, – жестокая царица, открывшая в его поэзии вереницу пленительных и жутковатых женских образов: Клеопатра, Анна Комнена или «капризный ребенок, / Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда». Верх над его обидой берет жалость к «усталому ребенку». Жалость, как синоним проявления любви в русской народной традиции, возникнет позже в одном из самых его известных стихотворений «Из логова змиева…» – «Мне жалко ее, виноватую…». «Бессильная мука взгляда…» угадывается и в образах его коронованных владычиц, посылающих на смерть своих заранее обреченных возлюбленных, сказавших свое «да» на предложение «царицы» «купить ценою жизни ночь одну».