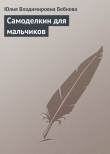Текст книги "Цинковые мальчики"
Автор книги: Светлана Алексиевич
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Был ласковый, мальчики редко бывают такими ласковыми. Всегда поцелует, обнимет: «Мамочка… Мамулечка…». После Афганистана еще нежнее стал. Все ему дома нравилось. Но были минуты, когда сядет и молчит, никого не видит. По ночам вскакивал, ходил по комнате. Один раз просыпаюсь от крика: «Вспышки! Вспышки! Мамочка, стреляют…». Другой раз слышу ночью: кто-то плачет. Кто может у нас плакать? Маленьких детей нет. Открываю его комнату: он обхватил голову двумя руками и плачет…
– Сыночек, что ты плачешь?
– Страшно, мамочка. – И больше ни слова. Ни отцу, ни мне.
Уезжал как обычно. Напекла ему целый чемодан орешков – печенье такое. Его любимое. Целый чемодан, чтобы на всех хватило. Они там скучали по-домашнему. По своему.
Второй раз он тоже приехал на Новый год. Сначала ждали его летом. Писал: «Мамочка, заготавливай побольше компотов, вари варенье, приеду, все поем и выпью». С августа перенес отпуск на сентябрь, хотел в лес пойти, лисички собирать. Не приехал. На ноябрьские праздники его тоже нет. Получаем письмо, мол, как вы думаете, может, мне лучше опять приехать на Новый год: уже елка будет, у папы день рождения в декабре, а у мамы – в январе?
Тридцатое декабря… Целый день дома, никуда не выхожу. Перед этим было письмо: «Мамочка, заказываю тебе заранее вареники с черникой, вареники с вишней и вареники с творогом». Вернулся муж с работы, решили: теперь он ждет, а я в магазин съезжу, гитару куплю. Утром как раз открытку получили, что гитары поступили в продажу. Саша просил: не надо дорогую, купите обычную, дворовую.
Вернулась из магазина, а он дома.
– Ой, сыночек, прокараулила!
Увидел гитару:
– Какая гитара красивая, – и танцует по комнате. – Я дома. Как у нас хорошо! В нашем подъезде даже запах особенный.
Говорил, что у нас самый красивый город, самая красивая улица, самый красивый дом, самые красивые акации во дворе. Он любил этот дом. Теперь нам жить здесь тяжело – все напоминает о Саше, и уехать трудно – он тут все любил.
Приехал он на этот раз другой. Это не только мы, дома, но и все его друзья заметили. Он им говорил:
– Какие вы все счастливые! Вы даже себе не представляете, какие вы все счастливые! У вас праздник каждый день.
Я пришла с новой прической из парикмахерской. Ему понравилось:
– Мамочка, ты всегда делай эту прическу. Ты такая красивая.
– Денег, сыночек, много надо, если каждый день.
– Я привез деньги. Берите все. Деньги мне не нужны.
У друга родился сын. Помню, с каким лицом он попросил: «Дай подержать». Взял на руки – и замер. К концу отпуска у него разболелся зуб, а зубного врача он боялся с детства. За руку потащила в поликлинику. Сидим, ждем, когда вызовут. Смотрю – у него на лице пот от страха.
Если по телевизору шла передача об Афганистане, он уходил в другую комнату. За неделю до отъезда у него тоска в глазах появилась, она из них выплескивалась. Может, это мне сейчас так кажется? А тогда я была счастливая: сын в тридцать лет майор, с орденом Красной Звезды приехал. В аэропорту смотрела на него и не верила: неужели этот красивый молодой офицер – мой сын? Я им гордилась.
Через месяц пришло письмо. Он поздравил отца с Днем Советской Армии, а меня благодарил за пироги с грибами. После этого письма со мной что-то случилось… Не могу спать… Вот лягу… Лежу… До пяти утра лежу с открытыми глазами. Глаз не сомкну.
Четвертого марта вижу сон… Большое поле, и по всему полю белые вспышки. Что-то взрывается… И тянутся длинные белые ленты… Саша мой бежит, бежит… Мечется… Негде ему спрятаться… И там вспыхнуло… И там… Я бегу за ним. Хочу его обогнать. Хочу, чтобы я впереди, а он за мной… Как когда-то с ним маленьким в деревне попали мы в грозу. Я его прикрыла собой, он подо мной тихонько скребется, как мышонок: «Мамочка, спаси меня!» Но я его не догнала… Он такой высокий, и шаги у него длинные-длинные. Бегу из всех сил… Вот-вот сердце разорвется. А догнать его не могу…
…Стукнула входная дверь. Заходит муж. Мы с дочкой сидим на диване. Он идет к нам через всю комнату в ботинках, пальто, шапке. Такого никогда не было, он у меня аккуратный, потому что всю жизнь в армии, везде у него дисциплина. Подошел и опустился перед нами на колени:
– Девочки, у нас беда…
Тут я вижу, что в прихожей еще люди есть. Заходят медсестра, военком, учителя из моей школы, знакомые мужа…
– Сашенька! Сыночек!!!
Уже три года… А мы до сих пор не можем открыть чемодан. Там Сашины вещи… Привезли вместе с гробом… Мне кажется, что они Сашей пахнут.
Его ранило сразу пятнадцатью осколками. Он только успел сказать: «Больно, мамочка».
За что? Почему он? Такой ласковый. Добрый. Как это его нет? Медленно убивают меня эти мысли. Я знаю, что умираю – нет больше смысла жить. Иду к людям, тащу себя к людям. Иду с Сашей, с его именем, рассказываю о нем… Выступала в Политехническом институте, подходит ко мне одна студентка и говорит: «Меньше бы этого патриотизма в него напихали, был бы жив». Мне плохо стало после ее слов. Я там упала.
Я ради Саши ходила. Ради его памяти. Я им гордилась… А теперь говорят: роковая ошибка, никому это не надо было – ни нам, ни афганскому народу. Раньше я ненавидела тех, кто Сашу убил. Теперь ненавижу государство, которое его туда послало. Не называйте имени… Он теперь только наш. Никому его не отдам. Даже память о нем…
(Через несколько лет она мне позвонит.)
Я хочу продолжить свой рассказ… В нем не было концовки. Я тогда не закончила… Еще была не готова… Но… Я, конечно, не молода… Но полгода назад мы взяли из детдома мальчика. Зовут его Саша… Он очень похож на нашего Сашу маленького. Вместо «я сам» говорит «я шам». И с буквами «р» и «с» у него не ладится. Мы вернули себе сына… Вы меня понимаете? Но я поклялась и взяла клятву с мужа, что военным он у нас никогда не будет…
Никогда!
Мать
* * *
– Я стрелял… Стрелял, как все. Не знаю, как это устроено, как устроен этот мир… Я стрелял…
Наша часть стояла в Кабуле… (Вдруг смеется.) У нас была изба-читальня – это огромный туалет, мама не горюй, яма двадцать метров на пять и туда в глубину метров шесть, там эти сорок очков, перегородки из досок и на каждой перегородке на гвозде висели «Правда», «Комсомольская Правда», «Известия». Штаны спускаешь, сигарету в зубы, прикурил и сидишь, читаешь. Находишь про Афган… Правительственные афганские войска вошли туда-то… Взяли то-то… О нас ни слова, бля… А вчера наших пацанов, сорок человек, полностью искромсало, с одним я два дня назад сидел тут на очке и эти газеты читал. Ржали. Ё-моё!!! Взять ствол в рот – и мозги навылет! Депрессуха жесткая. Всюду вранье… Казарма обрыдла… Жратва такая, что блевать хочется, радость одна – на войну поехать. В рейд, на задание. Убьют или не убьют, мы рвались на боевые, не потому что родина… долг… а нам не хватало впечатлений. Месяцами сидели за проволокой. Четыре месяца жрали одну гречку: завтрак, обед, ужин – одна гречка. А на боевых выдают сухпаек, там тушенка, иногда даже шоколад «Аленка». После боя пошманаешь убитых духов, и, глядишь, разжился: банка джема, хорошие консервы и сигареты с фильтром. Боже мой! – «Мальборо», а у нас – «Охотничьи». Наверное, уже слышали? На пачке мужик с палкой идет по болоту, называли их «Смерть на болоте». Еще были сигареты «Памир» – это «Смерть в горах». Я в Афгане впервые попробовал крабов, американскую тушенку… Дорогую сигару выкурил… Можно было по пути и в дуканчик зайти, что-то свистнуть, не от того, что мы такие мародеры, а человек всегда хочет послаще пожрать и побольше поспать. А нас от мамки взяли и сказали, мол, вперед, пацаны, священный долг, вы обязаны, вам по восемнадцать лет. Ё-моё!
Привезли сначала в Ташкент… Вышел замполит, с таким пузом… и, мол, пишите, кто хочет в Афган, пишите рапорт. Пацаны строчили: «Прошу направить…», а я не писал, но на следующий день нам всем выдали паек, финансовое довольствие, погрузили в машины и привезли на пересыльный пункт. Вечером на пересылке старослужащие подходят и говорят: «Так, мужики, давайте деньги советские сюда, там, куда вас посылают, афгани». Что за херня? Везут, как баранов… Кто-то рад, он сам попросился, другой не хочет, у него истерика, плачет, кто-то одеколона нахлебался. Бля… На меня опустошение нашло, мне стало все равно. «Ну, черт, – думаю, – а почему специальную подготовку не прошли? Ё-моё! Везут же на настоящую войну». Стрелять и то не научили. Сколько стрелял на занятиях? Три одиночных и шесть очередью… Мама не горюй! Первые впечатления от Кабула… Песок, полный рот песка… И в день приезда в караулке меня отдубасили дембеля… И пошло с утра: «Бегом сюда! Посуду помыл? Бегом! Стоять! Фамилия?». Били не по лицу, чтобы офицеры не заметили, били в грудь, в солдатскую пуговичку, она, как грибочек, легко вминалась в кожу. Когда попадал на пост, я был счастлив: ни «дедов», ни дембелей, меня два часа никто не трогал. За четыре дня до нашего прибытия «молодой» подошел к палатке дембелей, бросил туда гранату – семь дембелей просто так, чирк! – как не было. А сам потом себе ствол в рот – и мозги навылет. Списали на боевые потери. Война-матушка, она все спишет… Ё-моё! После ужина «деды» подзывают: «Так, Москва (я из Подмосковья), – картошечки. Засекаем время – сорок минут. Пошел!» – И пинка под зад. Вопрос: «А где я ее возьму?». Ответ: «Жить хочешь?». Картошечка должна быть с лучком, перчиком и подсолнечным маслом, называлась она «гражданочка». И еще с лавровым листочком сверху. Я опоздал на двадцать минут, меня отхерачили… Мама не горюй! Нашел я эту картошку у вертолетчиков, там сидели «молодые» и чистили картошку для офицеров, я просто попросил: «Мужики, дайте, а то убьют нахер». Дали полведра. «За маслицем, – подсказали, – подойди к нашему повару. Узбеку. Напой про дружбу народов, он любит». Узбек дал мне масло и лучка с барского стола. В овраге на костре я это дело жарил, а потом бежал, чтобы холодную сковородку не принести… Сейчас, когда читаю про афганское братство, ржать охота. Когда-нибудь снимут про это братство фильм, и все поверят, а я, если пойду на него, то только чтобы увидеть афганские пейзажи. Поднимешь голову – горы! Фиолетовые горы. Небо! А ты – как в тюрьме. Духи не убьют, так свои прибьют. Я зэку в Союзе потом рассказывал, он не верил, чтобы свои так издевались над своими: «Не может быть!!!». А он десять лет отсидел. Навидался! Бля… Чтобы крыша не съехала. Не скурвиться! Одни пили, другие курили… Травку… Пили самогон… Самогон гнали из того, что достанешь: изюм, сахар, шелковица, дрожжи, хлебушка набросаешь. Когда сигарет не хватало, вместо табака пользовались чаем, в газету его заворачивали, вкус – гавно! Но дым есть. Чарс, конечно… Чарс – это пыльца конопли… Один попробует, будет смеяться, ходит и сам себе смеется, другой под стол залезет и сидит там до утра. Без этого… без наркотиков и самогонки чердак бы съехал… Тебя ставят на пост и дают два магазина патронов, если что-то начнется, то шестьдесят патронов это полминуты хорошего боя. Снайперы у духов были такие обученные, что они стреляли на дым сигареты, на вспышку спички.
Я понял… Я вам больше не про войну, а про человека рассказываю. Про того человека, про которого в наших книжках мало пишут. Боятся его. Прячут. Про человека биологического. Без идеи… От слов «героизм» и «духовность» меня мутит. Выворачивает. (Молчит.)
Так… Продолжим… Я больше страдал от своих, «духи» делали из тебя мужчину, а свои делали из тебя говно. Только в армии я понял, что любого человека можно сломать, разница только в средствах и в отпущенном времени. Лежит «дед», он полгода отслужил, пузо вверх, в сапогах лежит и зовет меня: «Оближи сапоги, дочиста оближи языком. Пять минут времени». Я стою… Он: «Рыжего – сюда», а Рыжий – тот пацан, с которым мы вместе приехали, дружим. И вот два козла Рыжего метелят со страшной силой, я вижу – они ему позвонки перебьют. Он смотрит на меня… И начинаешь лизать сапоги, чтобы он жив остался и не искалечили. До армии я не знал, что человеку так можно дать по почкам, что он задохнется. Это когда ты один и за тобой никого нет… тогда тебя хрен сломаешь.
У меня был друг… Кличка – Медведь, амбал под два метра ростом. Он вернулся из Афгана и через год повесился. Я не знаю… И никому он не доверился, никто не знает, от чего он повесился: от войны или от того, что убедился, какая человек скотина. На войне он вопросы эти не задавал себе, а после войны стал думать. Мозги съехали… Другой мой друг спился… Он писал мне, я два письма от него получил… Вроде того, что там, брат, была настоящая жизнь, а здесь полное говно, там мы боролись и выживали, а здесь хрен что поймешь. Я один раз позвонил ему, он был в задницу пьяный… И второй раз пьяный… (Закуривает.) Помню, как приехали мы с Медведем в Москву на Казанский вокзал, четыре дня из Ташкента ехали, день и ночь пили. Телеграммы, чтобы нас встретили, забыли дать. Вышли на перрон в пять часов утра… В глаза ударили краски! Все в разное одеты – в красное, желтое, синее, бабы молодые, красивые. Бля… Совершенно другой мир. Обалдели мы! Я вернулся восьмого ноября… А через месяц пошел учиться в университет, восстановился на второй курс. Мне повезло… Я забил свою голову… У меня не было времени копаться в себе, надо было сессию сдавать от нуля. За два года все забыл, помнил только «Курс молодого бойца» – чистка картошки и бег на восемнадцать километров. Ноги стирались до колен. А он? Медведь приехал, а у него ничего. Ни специальности, ни работы. Мышление вокруг колбасное: главное, чтобы докторская колбаса была два рубля двадцать копеек и бутылка водки три шестьдесят две. Кого волнует, что парни возвращаются – у них мозги набекрень или с культей десять-двенадцать сантиметров, на жопе прыгают в двадцать лет. Не мой сын, ну и ладно. Система у нас такая: тебя в армии ломают и на гражданке. Ты попал в систему, как только тебя захватили зубья, ты будешь распилен, какой бы ты хороший ни был, какие бы у тебя ни грелись в душе мечты. (Замолкает.) У меня мало нужных слов… Очень мало… Хочу донести свою мысль: главное – не попасть в систему. А как мимо нее проскочить? Родине служить надо, комсомольский билет в кармане – это свято. В уставе написано: солдат обязан стойко и мужественно переносить все тяготы военной службы. Стойко и мужественно! Мама не горюй, одним словом. (Замолчал. Потянулся к столу за новой сигаретой, но пачка уже была пустая.) Блин! Уже на день пачки не хватает…
Надо исходить из того, что мы звери, и это звериное прикрыто тоненьким налетом культуры, сюси-пуси. Ах, Рильке! Ах, Пушкин! Скотина из человека выползает мгновенно… Глазом моргнуть не успеешь… Пусть только ему станет страшно за себя, за свою жизнь. Или у него появится власть. Маленькая власть. Малюсенькая! Армейская система рангов: до присяги – дух, после присяги – чижара, через полгода – черпак, от черпака до полутора лет – «дед», а от двух лет – дембель. А в самом начале ты – дух бесплотный и жизнь твоя – полная параша…
Но я стрелял… Стрелял, как все. Все равно это главное… Но думать про это не хочется. Я не умею про это думать.
Героин лежал у нас под ногами… Ночью маленькие пацанята спускались с гор и разбрасывали. А потом их как ветром сдувало. Но мы травкой баловались, героин редко кто брал, там чистейший героин – один-два раза попробуешь и тебе конец. Ты – на игле. Я себя держал. Ну и второе условие выживания – ни о чем не думать! Поел, поспал, сходил на задание. Увидел и тут же забыл, загнал в подполье. На потом… Я видел, как у человека зрачки становятся величиной с глаз, из человека уходит жизнь… Зрачки расширяются… Темнеют… Увидел и тут же забыл. А сейчас с вами вспомнил…
Стрелял! Конечно, я стрелял. Ловил человека в прицел и… нажимал… Теперь я надеюсь, что много я не убил, я хотел бы так думать, потому что они… Они… родину защищали… Одного… я хорошо его помню… Как я выстрелил, и он упал. Руки поднял вверх и упал… Одного запомнил… Боялся в рукопашную попасть, мне только рассказывали, как человека насаживаешь на железо и смотришь ему в глаза… Бля… Мне Медведь по пьянке раскрылся, когда четыре дня из Ташкента в Москву ехали, он говорил: «Ты не представляешь, как человек хрипит, когда у него горлом идет кровь. Убивать надо научиться…». Человека, который никого не убивал, даже на охоту не ходил, надо научить убивать другого человека. Медведь рассказывал… Лежит «дух», тяжело раненый, в живот раненый, но он живой, и командир берет нож десантника и дает ему: бери и добей, причем смотри ему в глаза. А знаете, почему это нужно? Чтобы ты потом убивал, не задумываясь, когда надо будет спасти своих товарищей. И в первый раз тебе нужно все это пережить… Перешагнуть через это… Медведь… Он берет нож, ставит его к горлу… Раненому на грудь… И не может зарезать человека… Как это взять и проткнуть живую грудную клетку? Где сердце бьется… «Дух» водит глазами за ножом… Долго ничего не получается… Убивает долго. Когда Медведь напивался, плакал… Забронировал себе место в аду…
После дембеля учился в университете, жил в общежитии, там много пьют, орут. На гитаре играют. Кто-нибудь постучит в дверь – я, как чумной, вскакиваю и за дверь становлюсь. В защите. Гром грянет или дождь забарабанит по подоконнику, у меня сердце скачет. Бутылку выпьешь, вроде нормально, скоро одной бутылки стало не хватать. Печень скрутило, печень начала вываливаться. Попал в больницу, там сказали: «Хочешь, парень, дожить хотя бы до сорока лет, бросай пить». Я подумал: я женщину еще не знал, столько красивых девчонок ходит, а я тут возьму и загнусь. Так бросил пить. У меня появилась девушка…
Любовь… Категория неземная… Я не могу сказать, что я люблю. Сейчас я уже женат, у меня есть маленькая дочь, но я не знаю, что это – любовь или что-то другое, хотя я за них горло перегрызу, в асфальт вкопаю. Жизнь отдам! Но что такое любовь? Люди признаются, что они любят, так они себе это представляют, но любовь – это дикая, кровавая и ежедневная работа. Любил ли я? Я честно скажу, не понял. Какие-то чувства я испытывал, внутренний подъем у меня был, какую-то работу, чисто духовную, не связанную с этой говеной жизнью я проделывал, но любовь ли это или хрен знает что? На войне нас учили: «Надо любить родину». Родина приняла нас с широко распростертыми объятиями, и в каждом кулаке у нее было по нокауту. Лучше задайте мне вопрос: был ли я счастлив? И я отвечу, что я был счастлив, когда шел по родной улице к дому после Афгана… Был ноябрь… Это был ноябрь, и мне в нос, в череп ударял и отдавался в пятках запах земли, которую я два года не видел, у меня ком в горле стоял, я не мог идти, потому что хотел плакать. После этого могу сказать: я в этой жизни был счастлив. Но любил ли я? Что это такое – когда ты видел смерть? А смерть всегда некрасивая… Что это такое – любовь? Я присутствовал при родах, когда моя жена рожала. В такие минуты необходим рядом близкий человек, и чтобы он держал руку. Теперь я каждую скотину мужского пола заставил бы стоять у бабы в голове, когда она рожает, когда у нее ноги рогаткой, и она вся в кровище, в дерьме. Поглядите, сукины дети, как ребенок на свет появляется. А вы так просто убиваете. Убить легко. Просто. Я думал, что сам в обморок упаду. Люди с войны приходят, а там в обморок падают. Женщина – не дверь, в которую можно войти и выйти. Два мира мою жизнь перевернули – война и женщина. Заставили задуматься, зачем я, сраный кусок мяса, пришел на эту землю.
Человек меняется не на войне, человек меняется после войны. Меняется он, когда смотрит теми же глазами, которыми видел то, что было там, на то, что есть здесь. В первые месяцы зрение двойное – ты и там, и здесь. Ломка происходит здесь. Теперь я готов подумать, что со мной там происходило… Охранники в банках, телохранители у богатых бизнесменов, киллеры – это все наши ребята. Встречал, разговаривал и понял: они не захотели возвращаться с войны. Сюда возвращаться. Там им понравилось больше. Оттуда… после той жизни… Остаются непередаваемые ощущения… Самое первое – презрение к смерти, что-то выше смерти… «Духи» не боялись смерти, они, к примеру, знали что их завтра расстреляют – смеялись, как ни в чем не бывало, разговаривали между собой. Даже, казалось, были рады. Веселы и спокойны. Смерть – это великий переход, ее, как невесту, надо ждать. Так написано у них в Коране…
Лучше анекдот… А то застращал писательницу. (Смеется.) Ну, так… Мужик умирает и попадает в ад, оглядывается: людей в котле варят, пилят на столе… Идет дальше. А дальше стоит столик, за столиком сидят мужики и пиво пьют, в карты играют, в домино лупятся. Подходит к ним:
– Что это у вас – пиво?
– Пиво.
– Можно попробовать. – Пробует. И вправду пиво. Холодное. – А это что – сигареты?
– Сигареты. Хочешь закурить? Закуривает.
– Так что здесь у вас – ад или не ад?
– Конечно, ад. Расслабься. – Смеются. – Там, где варят и пилят – это ад для тех, кто его таким представляет.
По вере вашей воздастся. По вере… И внутренним молитвам… Если ждешь смерть как невесту, она и придет к тебе невестою.
Один раз искал среди убитых знакомого парня… В морге солдаты принимали убитых, их звали мародерками… Они из карманов все вытаскивали. Лежит парень с дыркой в груди или у него все кишки наружу, а они по карманам у него шарят. Все подбирали: зажигалку, красивую авторучку, ножницы для ногтей, потом в Союзе девушке своей подарит. Мама не горюй!
Я столько видел разрушенных кишлаков, но ни одного детского сада, ни одной построенной школы или посаженного дерева, о которых писали в наших газетах. (Молчит.)
Ждешь, ждешь письма из дома… Подруга прислала фото – по пояс в цветах стоит – лучше бы в купальнике! В бикини. Или хотя бы во весь рост, чтобы на ноги посмотреть… В юбке короткой… А политнасосы, это наши замполиты, нам про родину, про солдатский долг плели. На политзанятиях… А мы ночью лежим, и тема номер один – про баб… У кого какая и что у кого было… Наслушаешься! У всех руки в одном месте… Мама не горюй! Там это… У афганцев… У них мужеложство – это нормально. Зайдешь один в дукан: «Товарищ, иди… Иди сюда… Я тебя трахну в задницу, а за это – что хочешь возьми. Платок матери возьми…». Фильмов мало привозили, единственное, что регулярно доставляли – газету «Фрунзенец» в большом количестве. Гарнизонная газета. Мы ее сразу несли в избу-читальню… Ну… туда… Иногда удавалось поймать музыкальную программу, и когда мы слушали Людмилу Зыкину «Издалека долго течет река Волга», все плакали. Сидели и плакали.
Дома не мог построить нормальную фразу, тут же – бля! Мат-перемат… Мать первое время: «Сыночек, что же ты ничего не рассказываешь?». Что-то вспомнил… Мать меня перебивает: «А соседи наши устроили своего сына на альтернативную службу в больницу. Я бы от стыда сгорела, если бы мой сын за старухами горшки таскал. Разве это мужик?» – «Знаешь, мать, – ответил я, – когда у меня будут дети, я сделаю все, чтобы они не служили в нашей армии». Отец и мать посмотрели на меня, как на контуженного, и уже разговоров о войне со мной не заводили, особенно при знакомых. Я быстро сбежал из дома… Поехал учиться… Девушка меня ждала. Ну, думаю – завалю в первый день… В первый день трахну. А она руку мою убирает с плеча: «Она вся у тебя в крови». Так либидо мне и отрезала на три года, три года я боялся к женщине подойти. Ё-моё! Нас же воспитывали: ты должен родину защищать, девушку свою защищать… Ты – мужчина… Мне нравилась скандинавская мифология, я любил читать про викингов. У них позором считалось, если мужчина умирал в постели. Умирали в бою. С пяти лет мальчика приучали к оружию. К смерти. Война не время для вопросов: человек ты или тварь дрожащая? Назначение солдата – убивать, ты – инструмент для убийства. У тебя такое же предназначение, как у снаряда или у автомата. Это я сейчас философствую… Хочу понять себя…
Один раз пошел в афганский клуб на встречу… Больше не хожу. Всего один раз… Встреча была с американцами, с ветеранами вьетнамской войны. Сидели в кафе, за каждым столиком – один американец и трое русских. Тому, кто с нами сидел, один из наших пацанов выдает: «Я злой на американцев, потому что подорвался на американкой мине. У меня одной ноги нет». А тот ему отвечает: «А в меня в Сайгоне попал осколок советского снаряда». Нормально! Мама не горюй! Выпили – обнялись, типа братья по оружию. И дальше пошло… Бухали по-русски: на брудершафт, на посошок… До меня там дошла одна простая вещь: солдат – он везде солдат, одинаковый, мясо – оно и есть мясо. Мясной отдел. С одной только разницей: у них на завтрак – два вида мороженого, а у нас завтрак, обед, ужин – одна гречка. Фруктов вообще не видели, мечтали о яйцах и свежей рыбе. Луковую головку ели, как яблоко. Вернулся я из армии без зубов. Был декабрь, тридцатиградусный мороз. Парень этот из Калифорнии… Пошли мы его провожать в гостиницу. На нем пуховик, дутые перчатки, идет весь такой закутанный по Москве, а навстречу нам Ваня русский – тулуп расстегнут, тельняшка задралась до пупа, он без шапки и без варежек. «Привет, ребята!» – «Привет!» – «А это кто?» – «Американец». О, американец! Пожал ему руку, по плечу похлопал. И пошел дальше. Поднялись мы в номер, американец молчит. «Шеф! Ты чего?» – спрашиваем. – «Я в пуховике, в перчатках, а он голый. И рука у него теплая. С этой страной воевать нельзя». Я отвечаю: «Конечно, нельзя. Трупами забросаем!». Мама не горюй! Пьем все, что горит, трахаем все, что шевелится, а не шевелится – расшевелим и все равно трахнем.
Я уже давно не говорю об Афгане… Эти разговоры мне неинтересны… Но если бы мне дали выбрать: ты узнаешь на войне вот это и вот это переживешь, но есть и другие варианты – можешь остаться мальчиком и не попасть туда – твой выбор? Все равно захотел бы пройти все заново и стать тем, кем я стал сейчас. Заново пережить, заново испытать. Благодаря Афгану я нашел друзей… Встретился с женой, и у меня такая великолепная маленькая дочь. Там я узнал, какое дерьмо во мне сидит и как оно глубоко запрятано. Вернулся и Библию прочел с карандашом. И все время перечитываю. Хорошо поет Галич, что бойся того, который скажет: я знаю – как. Я не знаю – как. Я сам ищу. Мне снятся фиолетовые горы. И столбы колючего песка…
Тут я родился… Родину, как любимую женщину, не выбирают, она дается, если ты родился в этой стране, то сумей в ней и умереть. Подохнуть можно и погибнуть можно, но ты сумей умереть. Я хочу жить в этой стране, пусть она нищая, несчастная, но тут живет Левша, способный блоху подковать, и мужики возле пивларька решают мировые проблемы. Она нас обманула… Но я ее люблю.
Я видел… Я теперь знаю, что дети рождаются светлыми. Они – ангелы.
Рядовой, стрелок
* * *
– Вспышка… Фонтан света… И все…
Дальше ночь… Мрак… Открыл один глаз и ползаю по стене: где я? В госпитале… Дальше проверяю: руки на месте? На месте. Ниже… Трогаю себя руками… А где ноги? Мои ноги!!!
(Отворачивается к стенке и долго не хочет говорить.)
Я забыл все, что было раньше. Тяжелейшая контузия… Всю свою жизнь забыл… Открыл паспорт и прочитал свою фамилию. Где родился? В Воронеже. Тридцать лет… Женат… Двое детей… мальчики…
Ни одного лица не помнил…
(Еще раз надолго замолчал. Смотрит в потолок.)
Первая приехала мама… Говорит: «Я – твоя мама». Я рассматривал ее… Я не мог ее вспомнить, но в то же время эта женщина была мне не чужая. Я понимал – она не чужая… Она рассказала про мое детство… школу… Даже такие мелочи: какое у меня было хорошее пальто в восьмом классе, и как я его на заборе порвал. Какие получал оценки… Четверки, были и пятерки, но тройка по поведению. Хулиганил. Что больше всего любил гороховый суп… Я ее слушал и как будто сам себя видел со стороны…
Дежурная в столовой зовет:
– Садись в коляску. Повезу. К тебе жена приехала.
Стоит возле палаты красивая женщина… Глянул: стоит, пусть себе стоит. Где жена? А это была моя жена… Вроде знакомое лицо – но я его не узнаю…
Она рассказала про нашу любовь… Как познакомились… Как первый раз ее поцеловал… Привезла фотографии с нашей свадьбы. Как мальчики у нас родились. Двое мальчиков… Я слушал и не вспоминал, а запоминал… От напряжения… Начинались сильные головные боли… А кольцо… Где обручальное кольцо? Я вспомнил про кольцо… Посмотрел на левую руку – а пальцев нет…
Сынишек вспомнил по фотографии… Приехали – другие. Мои и не мои. Беленький стал темненьким, маленький стал большим. Глянул на себя в зеркало: похожи!
Врачи обещают, что память может вернуться… Тогда у меня будет две жизни: та, что мне рассказали, и та, что была. Тогда приезжайте, расскажу про войну…
Капитан, вертолетчик
* * *
– Огонь перемещался… Долго бродил по склону горы…
К вечеру к нам навстречу выскочило стадо овец. Ур-р-ра!! Подарок Аллаха. Аллах акбар! Мы голодные и уставшие после двух дней перехода, сухпаек давно съели. Остались одни сухари. А тут – потерянное стадо. Без хозяина. Не надо покупать или менять на чай и мыло (одна овца – килограмм чая или десять кусков мыла), не надо мародерствовать. Первым мы схватили большого барана, привязали его к дереву, тогда овцы никуда не уйдут. Этому мы уже научились. Запомнили… Под бомбежкой овцы разбегаются, а потом прибиваются назад. К вожаку. Дальше… Дальше мы выбрали самую жирную овцу… Повели…
Я много раз наблюдал, как безропотно это животное принимает смерть. Когда убивают свинью, теленка… Там другое… Они не хотят умирать. Вырываются, визжат. А овца не убегает, не кричит, не бьется в истерике, а молча идет. С открытыми глазами. Идет за человеком с ножом.
Это никогда не было похоже на убийство, а всегда напоминало ритуал. Жертвенный ритуал.
Рядовой, разведчик