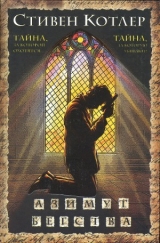
Текст книги "Азимут бегства"
Автор книги: Стивен Котлер
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Пленка заканчивается, кассета выскакивает из магнитолы, Джек вставляет кассету со старыми танго, полновесными и печальными.
– Под такую музыку сходят с ума.
Анхель с сомнением качает головой.
– Я, кажется, не знаю, как сходят с ума.
– Это не имеет значения. Не важно. – Джек всасывает воздух и медленно выпускает его, чтобы не потерять нить. – На третий день я начинаю рассуждать. Я же знаю, что парк небольшой, поэтому начинаю идти в одном направлении – на запад, на закат солнца. Но я все равно не мог найти дорогу. Мне казалось, что я просто спятил. Понимаешь, я провел в каньонах больше десяти лет и ни разу не терялся, я даже гордился этим. Вытаскиваю компас. Два дня я смотрел на него и понял, что он безнадежно сломался. В этот раз стрелка вращалась как полоумная, не останавливаясь. Я сижу и жду. Проходит пять минут, а она все крутится. Потом она вдруг останавливается. Показывает на северо-восток. Я не знаю, что делать, но я почему-то точно знаю, что мне надо идти в этом направлении. Не спрашивай почему, я и сам этого толком не могу объяснить, но я знаю. Я иду и все время сверяюсь с компасом. Через пару часов стрелка снова начинает крутиться. Останавливается и на этот раз показывает на запад. Так проходит весь день. Ближе к вечеру я набредаю на ручей, чистый, как стекло. Пью воду и замечаю, что на самой середине ручья между двумя камнями застряли игральные карты. Карты какие-то странные, на вид очень потрепанные, увидел я пару червей. Они показались мне какими-то слишком толстыми. Я вытащил их, и представляешь, они оказались совершенно сухими. Пробыли в воде неизвестно сколько времени и остались сухими. Странно, да? После этого мой компас перестал чудить, и я вышел из каньона до заката. Вот откуда мое отношение к картам.
– Вернувшись на стоянку, ты поцеловал грузовичок.
– Да, – отвечает Джек, и у него отвисает челюсть. – Да, именно так я и сделал.
Анхель машинально тянется за сигаретой.
– А откуда ты знаешь?
Анхель молчит, прикуривая, возле носа пляшут тени от огонька зажигалки.
– Сам не понимаю, – отвечает Анхель. – Может быть, я и сам бы это сделал.
Тихо и неспешно наступает ночь. Заснувший Анхель просыпается от головокружения в полной темноте. Такое чувство, что упал с неба в реальную жизнь. Джек останавливает машину на заправке, они пьют кофе, и Анхель садится за руль. Утром на горизонте в мареве они видят колышущийся силуэт Лас-Вегаса. Рассвет неостановим. Теперь Анхелю понятно, почему атомные бомбы испытывали в пустыне, только здесь свет может быть таким устрашающим, и они хотели, чтобы было страшно – для доказательства их правоты.
Они останавливаются, чтобы позавтракать. Джек пьет черный кофе. Анхель никогда не думал, что человек в состоянии выпить столько чашек. Они снимают комнату в дешевом отеле на окраине города, и Анхель падает на массивную кровать, натягивая на себя розовую, как мясо форели, простыню. Джек готовится к походу за богатством. Говорит, что посетит четыре казино, на это уйдет весь день. Если Анхель хочет поехать в Солт-Лейк, то пусть подождет, если нет, то он, Джек, был рад с ним познакомиться. Анхель говорит, что подождет. Он вручает Джеку стольник, просит поставить. Пусть возьмет себе процент, а остальное отдаст Анхелю.
– Чувствуешь, что тебе повезет? – спрашивает Джек.
– Что-то я чувствую, это точно.
Джек выходит на улицу в белой шелковой рубашке и дорогих брюках, каблуки его победно стучат по мостовой. Это последнее, что слышит Анхель, прежде чем провалиться в сон.
Он просыпается от трех тысяч долларов, падающих на его голову сотенными купюрами. Только потом до него доносится голос Джека:
– Чувствовать что-то – это, черт возьми, нечто. Представляешь, очко, на стол пятьдесят долларов. Думал поиграть на твои деньги часок и отвалить. Каждый раз, как я ставил твои бабки, деньги сыпались на меня лопатами. Я не преувеличиваю. Я взял двадцать пять процентов сверху, как мы договаривались, по-честному. Если ты не согласен, можешь меня пристрелить, дай только я сначала поем.
Они умываются и идут в город, едят стейк, который заказывает Анхель. В девять они уже снова на дороге. Анхель за рулем, а Джек похрапывает на заднем сиденье. Оба счастливы. Счастливы оттого, что уехали, счастливы от темноты, от дороги и от того, что Лас-Вегас остался позади и постепенно исчезает, превращаясь сначала в уличный фонарь, потом в ночник, а в конце в едва заметного светляка.
Утро застает их у входа в каньон Колоб. Джек просыпается, шляпа висит на левом ухе. Он ошалело смотрит на песчаниковые скалы Харрикейна, обрамляющие западный вход, Анхель знает, что в глубине этого каньона узкие расселины. Каменные стены вздымаются на высоту под две тысячи футов, а на дне ширина не больше восемнадцати. Камни давят на грудь, не дают дышать. По дну протекает белый от пены поток, узкий и ревущий и сметающий все на своем пути. Здесь утонуло много праздных искателей приключений. Деревья растут в сотнях футов над землей, корни зажаты между камнями, ветви опираются на воздух.
Поздней ночью Анхель останавливается, покупает свежие фрукты, кофе и ассорти оладий. Они идут пешком несколько миль до скалы, выступающей над каньоном изломанным уступом. С земли скала напоминает перебитый нос. Вдали видны заросли бузины и сушеницы. Примус шипит и трещит на весь каньон, пока готовится завтрак.
– Отличные оладьи, – говорит Джек.
– Спасибо.
– Особенно со свежей клубникой.
Еще не поздно, когда они въезжают в Солт-Лейк-Сити. Вместительный старый дом с белыми занавесками на открытых окнах. Сестре Джека под шестьдесят, она слепая и все время сидит в кресле-качалке на широком белом крыльце. Над головой ее светит неяркий свет, в котором, как нимб, крутятся мириады комаров. Ее скрюченные пальцы намертво вцепились в подлокотники, словно она боится, что кресло сейчас весело рванется вперед и ускачет вдаль. На левом безымянном пальце обручальное кольцо, бриллиант сдвинут вперед и врезается в дерево подлокотника, оставляя в нем зазубрину. Видимо, день ото дня она становится все больше и глубже. Если бы в запасе у женщины был десяток миллионов лет, она бы, пожалуй, продолбила в кресле настоящий каньон. Сестру зовут Матильдой, она ласково улыбается Джеку, но немногословна. Пальцы ее все время судорожно сжимают кресло. Джек уходит в дом готовить чай, а Анхель смотрит, как ночь спускается на мир.
Он сидит рядом с Матильдой в другой качалке, прислушиваясь к вечерним звукам улицы.
– Какой у вас красивый дом, – произносит он наконец.
Возвращается Джек с чаем, но у Анхеля уже нет сил бодрствовать, он просит извинения и падает спать между двумя чистейшими простынями, пахнущими детской присыпкой и сиренью. Просыпается он около пяти, в самую темную пору ночи, и спускается вниз, раздвигая плотный непроницаемый мрак. Сидя за низким дубовым столом, он ждет восхода и при первых лучах солнца отправляется на кухню в поисках кофе. Он находит полный кофейник стоящим на плите. Чашки, серые и вместительные, аккуратным рядком висят на маленьких медных крючках. Они очень подходят для кофе. Анхель видит, что Джек не спит. Сидит в качалке на крыльце, закутав ноги одеялом.
– Привет.
– С добрым утром.
Шляпа Джека лежит тульей вниз в десяти футах от Джека на белых половицах крыльца. Шляпа наполовину заполнена игральными картами, вторая половина колоды в руках Джека. Он вертит кистью, перебрасывая пятерку треф то в начало, то в конец колоды, а потом бросает ее в шляпу.
– Матильда спит большую часть дня, а нам уже надо идти, поэтому я попрощался с ней от твоего имени еще вечером.
– Спасибо. – Как жаль, что он не сделал этого сам…
Они едут в город, завтракают, а потом Джек подвозит Анхеля на автостанцию «Грейхаунда» и покупает билет в один конец до Ред-Лоджа. Они садятся на скамью в зале ожидания, делят две сигареты и пятно желтоватого света, который падает сквозь оконное стекло им на колени.
Наконец Джек подмигивает Анхелю и говорит:
– Пошли, тебе пора выбираться отсюда, иначе ты опоздаешь на всю жизнь.
Автобус резко трогается с места. Джек стоит спиной к солнцу – высокий худощавый силуэт, – рука его описывает в воздухе широкую дугу. Окна автобуса отлично смазаны, гладкие и скользкие на ощупь. Анхель изо всех сил машет рукой, пока автобус отъезжает. Холодный ветер морозит пальцы. Он держит руку за стеклом, пока автобус набирает скорость. Они быстро проезжают улицы, потом выскакивают на шоссе. Он принимается за кроссворд. Битюг – слово из пяти букв, обозначающее сильного коня. За тонированными стеклами исчезает Юта, дорога пуста, облака над головой приобретают стальной оттенок. Проходит ночь, наступает новый день. Во сне ему явилась Пена, она выглядит моложе и подвижнее, быстро скользит по лесной тропинке, вырывая на ходу листы из какой-то старой книги. Автобус тем временем взбирается на высоту десять тысяч футов, а потом начинает падать в пустоту Чертова перевала. Картина напоминает конец света. Гнетущие мрачные скалы и небо, автобус полон людей, и никто из них не знает, что сказать соседу. Земля проваливается за заграждением дороги. На семи тысячах начинается дождь. На пяти они сворачивают с главной магистрали в Ред-Лодж. Добро пожаловать в дом рыбака. Воздух прохладен и сладок. Анхель потягивается и чувствует, как крупная капля падает ему за ворот. На чистом асфальте появляются лужицы. Однажды Пена сказала, что может провидеть будущее в лужице дождевой воды. Анхель даже не пытается этого делать.
15
Смертельно усталое солнце медленно тащится за горизонт. Начинают проступать оспины ночи, но вязкий, блеклый туман послеполуденного дождя задерживает уходящий свет, ломая его под странным углом. Анхель носится по городу в изношенных фланелевых брюках, измятый разочарованием, тупиками. В изможденных глазах плещутся отчаяние и усталость. На коленях грязь – след столкновения с единственным пьяницей в Ред-Лодже.
Прошло два дня, и в городке не осталось места, где бы он не побывал. Он прошел все улицы, читая надписи на почтовых ящиках. Он не нашел ничего ни на почте, ни в регистрационном бюро графства. Впервые он почувствовал, как неумолимы часы, отсчитывающие время жизни.
Он идет в отель, собирает грязную одежду и отправляется в прачечную самообслуживания. По дороге, в «Уол-Марте», он покупает тяжелый махровый банный халат, в который заворачивается, пока сохнут его вещи. В «Лондромате» малолюдно, но те, кто есть, нехорошо косятся на Анхеля и неприязненно качают головами. Наплевать. Когда он был маленький, то мама, затевая стирку, всегда завертывала его в свой халат. Иногда прошлое вползает в душу, и он сдается под его неудержимым натиском.
В этом было мало приятного. Но… халат уже в гостиничном чулане, чистая одежда на Анхеле, солнце за горизонтом, а сам он на скрипучем шатком стуле, пьет «Джордж Диккель» номер восемь – лучшее средство готовиться к неожиданностям.
Бар средней руки, из джук-бокса доносится рваная музыка, редкие посетители сидят за столиками, похожие на охотничьи трофеи. Бильярдным столом распоряжается женщина, играющая в восьмерку с желающими – всеми вместе и с каждым по отдельности. Шары падают в лузы с сочным протяжным стуком. На женщине кливлендская шапочка, в ушах неброские серьги. Самое замечательное – это ее комбинированный удар от трех бортов – шестой шар бьет восьмерку, отскакивает в двойку и мягко вкатывается в угловую лузу. Сидящие в баре мужчины, которые за много лет привыкли ей проигрывать, воспринимают ее как часть обстановки.
Стойка деревянная и тусклая, изъеденная временем и долгими зимними выпивками. Над стойкой висит пуласки – полутопор-полумотыга, – такими штуками пользуются при тушении лесных пожаров. Этот топор принадлежал Бобу Сэли – одному из троих уцелевших после пожара в Манн-Галче в 1949 году. Топор – настоящий музейный экспонат, обожженный лесным пожаром и закопченный вечным сигаретным дымом. На противоположной стене другая достопримечательность – голова зебры, застреленной на сафари в Африке и привезенная в Монтану за счет охотника. За стойкой бессменно находится Сэм – обладатель заведения, стопки футболок, запаса одежды для лесорубов – клетчатых красно-черных рубашек, трех пар джинсов, ботинок, куртки, до блеска начищенной винтовки, фотографии жены, сбежавшей от него в Толедо (он никак не может припомнить – в Испанию или в Огайо) и черного лабрадора с больными лапами. Сэму семьдесят один год, он подает двенадцать сортов бурбона и два сорта пива. По субботним вечерам он разрешает людям приносить с собой «колу», чтобы сэкономить на виски, но молчаливо не поощряет такую практику. Анхель пробыл в баре три часа, и все это время Сэм увлеченно читал учебник алгебры. Очевидно, от числовых выражений он лучше себя чувствует. Однажды он напился и сообщил трем разным посетителям, что в прошлой жизни был счетчиком на абаке, и было это в Древнем Египте. Его отнесли в кровать и уложили, не сняв с него ботинок. Но об абаке и Египте он больше не упоминал. Когда Анхель заказывает четвертый виски, Сэм внимательно смотрит на него.
– Если ты вырубишься, я оставлю тебя лежать здесь.
Сэм – злобный старик, но он прав. Анхель пьян в стельку.
Он вдруг обнаруживает, что вместо крови по его жилам потекла густая вязкая жидкость. Табуретка стала весьма шаткой штукой. И из каждой щели, из каждой тени, из каждого глотка янтарной жидкости выглядывает теперь его безумный священник. В горле стоит жгучая горькая желчь, как напоминание о падре. Джук-бокс играет «Слепого Вилли Джонсона».
– С тебя не хватит их любезности? – тихо, почти шепотом спрашивает женский голос.
Анхель поднимает глаза, и только теперь до него доходит, что все это время он смотрел вниз, разглядывая водовороты и глубоководные течения в стакане виски. Перед глазами повисает августовский пейзаж. Волосы – как только что скошенная пшеница. Скорее солнечного, чем желтого оттенка. Он переводит взгляд ниже и видит округлость бедер. Она берет его за подбородок и поднимает голову, заставляя смотреть себе в глаза. Он смотрит, но не узнает эту женщину. Нет, он никогда раньше ее не видел. Щекой Анхель чувствует ее дыхание и всматривается в зеленые глаза.
– Тебя подослал Исосселес? – спрашивает он.
– Давай пройдемся, – отвечает она и берет его за руку.
В небе круглая полная луна, светят огромные звезды, но все равно не видно ни зги. Он останавливает женщину, делает несколько неуверенных шагов вперед, оборачивается и внимательно ее разглядывает. Очень внимательно, во всех подробностях. Гибкая, маленькая, и есть в ней что-то такое, от чего у Анхеля начинает неистово колотиться сердце. Эти губы могут остановить время. Он ловит этот чарующий облик, стараясь запечатлеть его навсегда, как и эту мимолетную улыбку. Он наклоняет голову, это всегда помогало. Потом он падает задом в грязь.
Она улыбается ему с тем, свойственным некоторым женщинам терпением, какое не измерить ни одним инструментом, ни одним самым чувствительным прибором.
– Ночь еще не совсем кончилась, – говорит он.
Над водохранилищем разносится аромат горящего дерева.
16
Падре Исосселес научился пить ром в полуразвалившейся бамбуковой хижине на каком-то из островов Карибского моря, куда он удалился после встречи с Иисусом. Крышу почти снесло, а дверей не было вовсе. Пустой четырехугольник сорока футов в длину и десяти в ширину с тремя крысиными норками и несколькими высокими стульями, приставленными к самодельной стойке. Запах протухшей капусты и сырой конопли пропитывал стены и пол. Исосселес, прямой как палка, сидел в углу. На стену над его головой падал свет сквозь щель между стропилами, но угол падения света был слишком мал, и сам он сидел в густой тени.
Он был привычен к темноте, отчуждению, эти вещи были для него чем-то вроде силы всемирного тяготения. Еще ребенком он любил забираться в шкаф и засовывать голову в щель между висящими старыми пальто и одеялами, сложенными на полу. Он сидел там, разговаривая сам с собой на разных языках, разыгрывая сцены в лицах. У него был дар. К шести годам он выучил латинский, английский и португальский. Когда-то его мать была многообещающим антропологом, но бросила академическую карьеру ради пьяного поэта, который, в свою очередь, бросил ее, обобранную и беременную. Она родила сына на холодной соломенной подстилке в старой мансарде, где было полно клещей и мышей, а для полного счастья снизу доносился храп и ржание лошадей. Она никогда не рассказывала этого сыну, но ей не раз приходило в голову назвать ребенка Щенком.
Однажды весной, сидя в парке, он встретился с отцом, высоким человеком в длинном пальто. Человек дал ему пластиковые счеты, сказал, что был за морем и привез этот подарок с Дальнего Востока. Тогда Исосселесу было пять лет. На нижней части рамки счетов было написано «Сделано в Корее». Он помнил рукопожатие отца – жесткая ладонь и пальцы, гладко зачесанные назад волосы и легкая хромота, которую он заметил, когда отец ушел, да так и не вернулся. Даже Исосселесу была ясна ирония этого положения. Потом отец появился в их доме однажды вечером, прожил две недели, напился, а потом принялся избивать сначала мать, а потом ребенка. Никто из них не кричал и не плакал. Исосселес выжил только потому, что сначала считал, потом складывал, а потом вычитал. Последнее, что он помнил о своем отце, – это то, что двенадцать на двенадцать – сто сорок четыре. У него было сломано одиннадцать ребер. Одиннадцать на одиннадцать – сто двадцать один. Он пролежал в госпитале три месяца, а потом его взяли в школу с полным пансионом и очень строгими правилами. Управляли школой католические монахини. Там он и узнал, что Бог и его отец – родом из одной и той же страны.
Наука, математика и языки стали миром Исосселеса. К пятнадцати годам он знал наизусть все великие имена, имена всех великих седовласых старцев: Чандрасекар, Бор, Оппенгеймер, Пенроуз, Шама, Шварцшильд, Зельдович, Уилер и Эйнштейн. Эти слова звучали для него как литания. Он произносил слова, втайне надеясь, что настанет день, когда и его имя сорвется с чьих-нибудь уст при перечислении этого списка. Он завоевал право на бесплатную учебу в колледже. Он провел в колледже четыре года, прослыв даровитым бразильцем, будущим физиком, долговязым, худым и со странной походкой. Его манерность выражалась только густыми усами и темными горящими глазами. Он закончил класс лучшим, выиграл частично бесплатное обучение в Принстоне, получив редкий шанс заниматься общей теорией относительности под руководством самого Джона Уилера. Исосселес был занесен в каталог Уилера, законченный за десять лет до этого, список холодных, умерших звезд. Ему понравилась идея ухватить время за волосы, остановить его.
Стоял жаркий август, когда он приехал в Принстон. Он не выходил на улицу до тех пор, пока листья не окрасились в багрянец. Часто он и ночевал на холодном каменном полу лаборатории. От этих ночевок болели и скрипели кости, но ум стал более острым. Он работал над представлениями о преломлении времени, о гравитации, бесконечных числах и задумывался над тем, что мог бы почерпнуть что-то из учения Георга Кантора о трансфинитных числах. Возможно, он смог бы найти способ соединить эту идею с уравнением Эйнштейна для общего поля. Эти два уравнения позволят объяснить поведение времени в черной дыре.
Пришла зима. Уилер купил Исосселесу пальто, заметив, как тот дрожит над стопкой статей в библиотеке. К Рождеству он уже был одержим этой идеей, озадачен, как они это называли, и начал воспринимать ее как нечто сугубо личное. Время от времени он ловил себя на том, что говорит сам с собой вслух, причем иногда по-латыни, что он заметил не сразу. Он пристрастился к чаю, просыпаясь в любой, самый поздний час ночи, чтобы выпить чашку свежезаваренного чая, и внимательно при этом наблюдая за поведением листочков на дне. Однажды, в конце февраля, он вдруг увидел, что земля покрыта снегом, решил, что это настоящее чудо и что прогулка не принесет ему ничего, кроме пользы. Он тепло оделся и вышел в мир. Позади здания красный кирпич уступил место пологому склону и лесу. Над головой длинными извилистыми арками повисали голые ветки деревьев. В воздухе – запах сосновой смолы. Исосселес медленно шел по тропинке. С неба падал мелкий снежок. Это была вполне объяснимая ошибка – он решил, что не может заблудиться на задворках университета. Но падающие снежинки припорошили его следы, и через час все деревья выглядели совершенно одинаково.
Он вышел к замерзшему ручью, прозрачная вода медленно текла под хрустально чистым льдом. Деревья склонялись с вышины, прислушиваясь к едва слышному журчанию воды. Головоломка из веток заслонила свет. Исосселес стоял внизу, на трещавшем льду, без света, слушая, как его вес ломает мироздание. Именно тогда он полностью осознал свою правоту относительно полевых уравнений и множеств Кантора, но понял он и то, что никогда не приблизится к решению, что навсегда останется за пределами великой тайны. Он снял ботинки, носки и отправился вниз по ручью. Под босыми ступнями ломался лед, холод его прикосновений проникал до самого сердца, кровь стыла в жилах. Пальцы побелели, покраснели, а потом приняли синюшный оттенок. Он, не обращая внимания на боль, продолжал идти по льду. Ветер пронизывал насквозь его спину. Поток огибал извилистую дорожку, описывая опрокинутый на склон холма вопросительный знак, который внезапно кончился, нырнув под землю, Исосселес поднял глаза и увидел, что стоит у задней стены здания физического факультета.
В швейцарской он отыскал ведро и наполнил его горячей водой из-под умывального крана. Поднявшись к себе на четвертый этаж, он взял книгу. В здании он не встретил ни одной живой души. Ведро и книгу он принес в старую лабораторию и остановился возле стула. Эти лаборатории были пусты, если не считать больших дубовых столов и брошенного оборудования – микроскопов восемнадцатого века, осциллографов с разбитыми экранами, линз устаревших телескопов, ожидающих мусорщика, и старых, никому не нужных учебников, которые громоздились в углах горами докембрийской эпохи, покрытые толстым слоем пыли. Исосселес извлек из кучи старого хлама бунзеновскую горелку, все еще полную керосина, и зажег ее. Поставив перед стулом горелку, а на пол ведро с водой, он снял штаны и повесил их на колено перевернутой лабораторной раковины. Оставшись в тесных белых трусах, он уселся на стул, поставил ноги в ведро с теплой водой, протянул руки к пламени горелки и начал читать о Ньютоне. Ноги побелели, колени заострились и стали похожи на локти. Боль в пальцах была настолько невыносимой, что он уже подумывал, не позвать ли на помощь или не пойти ли в больницу, хотя у него не было уверенности, что он сможет самостоятельно надеть штаны. Именно в этот миг в помещение вошел Иисус.
Может быть, Исосселес уснул, может быть, сошел с ума или все еще продолжал бродить по замерзшему ручью. Может быть, было и то, и другое, и третье. Он так и не узнал этого наверняка.
Иисус был одет в набедренную повязку и сандалии, в правой руке он нес ботинки Исосселеса и аккуратно заправленные под шнурки носки, а в левой держал шишковатый обожженный посох. Длинные каштановые волосы свисали на плечи, заканчиваясь тугими завивающимися косицами. Он остановился, всмотрелся в лицо Исосселеса и заговорил на грубой архаичной латыни. Исосселес слушал, с трудом понимая произнесенные Иисусом слова.
– Две тысячи лет назад, когда я висел на кресте, мне было видение. Я нахожусь в зимнем лесу. Утро, такое же, как сегодня. По замерзшему ручью навстречу мне идет босой молодой человек. Я видел, как он подходит ко мне. Я никогда прежде не видел этого человека, но сразу понял, что это тот, кому я передам свою тайну. С тех пор я каждую зиму являлся в тот лес и ждал, когда ко мне по льду подойдет босой человек. Сегодня я был уверен, что ты и есть тот самый человек, но теперь я вижу, что это не он, я ошибся. Как бы то ни было, вот твои ботинки. Может быть, я попал не в тот лес, кто знает.
С этими словами Иисус вышел из лаборатории.
Наступила тишина, а потом раздался звук – словно огромным канделябр рухнул с большой высоты на мраморный пол. Время стало пустым, Исосселес очнулся в груде стекла и луже воды. Боль в ногах утихла, пальцы обрели нормальную окраску. Он надел штаны, вышел из лаборатории, вышел из здания и поспешил на вокзал, охваченный страшной горечью. Через три дня он уже в Ки-Уэсте, откуда в полной растерянности и умопомрачении отправляется на Карибские острова.
У него с собой триста долларов и Библия. Три недели он беспробудно пьет и не прикасается к Святому Писанию. Зубы его сжаты, он не может их разжать и время от времени только скрежещет молярами, выплевывая осколки зубов на каменный пол бара. Проходит месяц, прежде чем люди начинают интересоваться, как его зовут, чем он занимается и зачем он туда попал. Эти вопросы первым и единственным задает ему шестифутовый колумбиец, профессиональный аквалангист. Он работает на нефтяной платформе и пьет текилу. Жизнь, состоящая из воды, узких гамаков и чеков. Его доподлинные слова: «Какого хрена ты тут делаешь?» Исосселес в ответ ломает ему нос, вывихивает колено и пытается выцарапать глаза, но еще семеро дюжих ныряльщиков прижимают его к полу, ломают ему пальцы, ребра, потом тащат к морю, грузят на лодку и выбрасывают в море. Деньги они забирают себе, а Исосселесу бросают в виде утешения старый оранжевый спасательный жилет. Детская игрушка. Как он может за него ухватиться, если у него сломаны пальцы, и как он может на него лечь, если у него треснули все ребра? Однако он держится на воде четверо суток. Его преследуют ужасные видения. Позже он обнаружит на спине шрам, по форме напоминающий косу, длиной около фута. Он так и не вспомнит, где и как получил эту рану. Отныне его всегда будет преследовать отвращение к соли.
Его находит Пена, она же доставляет его в госпиталь и оплачивает счета за лечение из собственного кармана. Врачам потребовалось тридцать семь часов, чтобы после упорного массажа разжать ему ноги и убрать зажатый между ними жилет. Говорят, что им даже пришлось прибегнуть к домкрату. Исосселес в неглубокой коме. В беспамятстве он говорит на языке древних шумеров, на языке, который никто на земле не слышал уже почти три тысячи лет. Никто не понимает, что он говорит. Спустя десять дней Пена слышит его историю, единственный человек, с которым он может говорить; она вытаскивает его из госпиталя и сажает на самолет, следующий в Мексику. Дальше он идет один. Пешком пересекает Соноранскую пустыню и вступает в монастырь, где проводит в служении, молчании и размышлениях десять лет. Оттуда он уезжает в Баию. Он не добивается священнического сана, он всего лишь хочет найти место, откуда сможет смотреть в лицо Богу. Он снова начинает заниматься физикой, заказывает в Америке книги. Когда они приходят, почтмейстер доставляет их в монастырь на муле. Время от времени Исосселес, как флагеллянт, подвергает себя самоистязаниям.
Со временем он раскаивается, смиряется и посвящает все свое время трудам и молитве. В его церкви читаются странные проповеди. В результате тяжкого труда братии голый песок начинает рождать тонкие чахлые растения. Маис, мелкие томаты и фасоль. Через два года он начинает лично выпекать маисовые лепешки. Возникает дело. В других монастырях братья делают вино, в его монастыре – пекут хлеб. Он внушает преданность. Говорили, что он печет свои облатки из песка, а за слабость в вере наказывает длительными блужданиями по пустыне без глотка воды. В округе ходят слухи, что он лично видел Иисуса. Но никто не спрашивает его об этом.
Через два месяца после смерти Пены, когда Исосселес приезжает в Америку, его сопровождают трое из его братии. Ради своего падре они готовы жевать стекло, настолько глубоко они в него верят. Стоит ему только попросить. Но он просит их всего лишь разыскать ему ангела.








