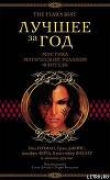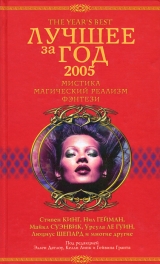
Текст книги "Лучшее за год 2005: Мистика, магический реализм, фэнтези"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Нил Гейман,Урсула Кребер Ле Гуин,Майкл Суэнвик,Келли Линк,Стив Тем,Паоло Бачигалупи,Нина Кирики Хоффман,Брайан Ходж,Дейл Бейли,Томас Лиготти
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 53 страниц)
Отличительной чертой климактерического периода у женщин являются приливы, которые, наравне с прочими симптомами, выявляют изменения в физиологии и поведении.
«Особенности менопаузы» (Бутс Кемист)
Отличительной чертой унитаза с двухрежимным механизмом является наличие бесшумного слива.
«Справочник сантехника» (Касселз, 1989)
Отличительной чертой гаршнепа является бесшумный полет.
«Птицы Великобритании» (Коллинз, 1996)
На серебряную свадьбу муж подарил мне сад. Это был сад с хорошей землей, на южной стороне. Когда-то давно за ним ухаживали заботливые руки, и сейчас кусты разрослись, яблони и сливы плодоносили, а в центре раскинула ветви белая шелковица. Но за садом давно не следили, и мне предстояло потрудиться, чтобы придать ему задуманный облик. А еще – иначе и быть не могло – в саду стоял дом. Это был прелестный дом из доброго старого кирпича, который за день так пропитывался светом и солнцем, что и после заката, ближе к ночи, щедро делился теплом.
Что за дивный подарок! О таком подарке можно только мечтать. Мы с мужем, когда он отойдет от дел, будем жить здесь до самой старости, думала я. И это отчасти сбылось. Только я не учла, что отойти от дел предстоит мне. Что после двадцати пяти лет, в течение которых я была женой, меня взяли да и уволили с выходным пособием. И дом, и сад были не подарком, а компенсацией. На мою должность нашлась новая сотрудница, молодая и подающая большие надежды. И ладно бы она была обычной вертихвосткой! Может, тогда мне было бы легче. Я решила бы, что роман мужа – простое ребячество, детское безволие перед соблазном. Увы, все было не так. Девушка оказалась точной копией меня пятнадцать лет назад. Она полюбила и очень переживала, что причиняет мне боль. Не удивлюсь, если именно она настояла на прощальном подарке. Широкий жест.
Но то, как именно сказать мне правду, явно придумала не она. Это сделал муж.
Мы переехали в новый дом и в первую ночь занимались любовью. Он был страстным и необузданным, словно пытался компенсировать равнодушие последних месяцев, и после, когда мы лежали рядом и мои ребра еще ныли от тяжести его тела, он сказал, что мы вместе в последний раз. Я искренне полагаю, он думал, что, если хорошенько отметелить меня напоследок, мне этого надолго хватит и ему не придется чувствовать себя виноватым. Все мужчины, как вы и сами, бесспорно, замечали, в глубине души уверены, что они великолепные любовники и равных им нет. Большинство из них заблуждается, но даже если предположить, что на этот раз муж превзошел самого себя, – что двигало им, желание порадовать меня на прощание или самоутвердиться, причинив мне боль? Итак, меня сбросили со счетов, избавились за ненадобностью, меня просто вышвырнули вон. Может, логично, что надо было еще и изнасиловать меня напоследок?
Потом он съехал, несомненно довольный тем, что и волки сыты, и овцы целы, – я ведь всегда хотела, чтобы у меня был сад, так что теперь все хорошо. Но мне было плохо. Я не могла опомниться. Месяца три я приходила в себя.
Потом у меня случился выкидыш.
Последняя менструация была у меня полтора года назад, и я не очень-то задумывалась на этот счет, но выкидыш я определяю безошибочно. Разбираюсь в этом, так сказать. Я лежала, свернувшись комком под одеялом, меня трясло от боли, я молилась, чтоб этот ужас скорее кончился. Потом позвонила в «скорую», и меня увезли в больницу выскребать мою несчастную матку – какая утомительная, отвратительная процедура!
– Хотите, мы вообще удалим ее? – спросил меня врач.
– Нет, спасибо.
– Знаете, сейчас можно провести замечательный курс гормонотерапии.
– Нет, спасибо.
Я не стала звонить мужу. Что мне его соболезнования? Ну почувствует он себя виноватым, мне от этого не легче.
Вскоре меня выписали.
Потом, недели через две-три, я услышала пение.
Сначала чистый голос взял несколько нот, словно пробуя свою силу. Понимаете, я подумала: мальчик из хора прошел под окнами дома, напевая себе под нос, – талантливый мальчик.
Потом я стала часто слышать его. Голос окреп, мелодия стала ясной. Да и бог бы с ней, музыка была прекрасна, она брала за душу. Но поставьте себя на мое место. Женщине в возрасте, которая едва оправилась от чисто женской травмы, которая пытается смириться с тем, что ее бросил муж, музыка немного действует на нервы, даже если она прекрасна, льется невесть откуда и наполняет дом радостью. Радостью, которую не можешь разделить. И тем более неприятно было обнаружить – скорее даже, осознать, – что музыка льется из туалета. Мальчик, бродящий вокруг дома, – с этим еще можно смириться, но невидимый мальчик, поющий в уборной на первом этаже, – это уж, извините, слишком.
Итак, это пение, оно просачивалось даже не из-под двери, оно определенно поднималось непосредственно из унитаза. И резко обрывалось, если я входила вовнутрь, я успевала заметить только легкое колебание воды, как если бы я бросила маленький камушек. Но музыка шла оттуда, это было бесспорно.
«Может, то плачет мой мертвый малыш», – подумала я. В чистых, прекрасных звуках сквозила грусть, мольба и жажда быть любимым. Ребенку, я знала, не хватает меня так же сильно, как мне его. Я пыталась поймать певца. Я влетала в туалет, едва прозвучит первая нота, и одним прыжком долетала до унитаза. Я оставляла дверь открытой и пыталась подкрасться на цыпочках. Я даже смастерила маленькую сеть и прикрепила ее к стульчаку. Все это ни к чему не привело, но я поняла: кроме всего прочего, меня распирает не только от любопытства – у меня запор.
Сад, о котором я так мечтала, был забыт. Письма от друзей с предложением погостить у них или самим проведать меня, чтобы полюбоваться новым домом, лежали без ответа. Я выдернула телефон из розетки, чтобы не отвлекаться. Я целиком и полностью посвятила себя дежурству возле туалета. Столько усилий я не прилагала с тех самых пор, как поняла, что суфле есть и останется навсегда за гранью моих кулинарных способностей.
Наконец я решила сменить тактику. Я вошла в туалет, когда там было тихо. Я легла под унитаз, чтобы изнутри, с поверхности воды, меня не было видно. Я ждала. Было неудобно, потом затекли ноги, онемела рука, потом стало скучно, потом захотелось спать. И вот наконец, когда утренний луч скользнул по комнате, подсвечивая танцующие в свете пылинки, и коснулся поверхности воды в унитазе, я была вознаграждена. Внутри зажурчало, булькнуло, раздался тихий смех, и полилась песня.
Я распрямилась, как пружина, молниеносно вскинула руки и яростно вцепилась в то, что было в воде. Оно забилось, задергалось, потом выгнулось в отчаянной попытке вырваться и вдруг затихло, безжизненно обмякнув в моих ладонях.
Что случилось? Я вынула руки из воды и осторожно посмотрела на выловленное. Между мизинцем и безымянным пальцем левой руки торчал кончик хвоста, зеленый, как мох, и покрытый серебристыми чешуйками. Поверх большого пальца прилипли тончайшие нити, такие же ярко-зеленые, как хвост. Не отрывая взгляда, я поднялась с пола и перенесла добычу в раковину. Там наконец я медленно разомкнула пальцы. В моих ладонях лежала маленькая русалочка.
Она не дышала, крохотные полупрозрачные веки были сомкнуты, они казались дымчатыми тенями на мраморно-белом лице, огромные зеленые ресницы тихо лежали на щеках. Не знаю, что обычно делают с мертвыми русалочками. Я не могла оказать ей первую помощь, нагибая ей голову к коленям, потому что, как вы понимаете, коленей у нее не было. На душе стало скверно. Я положила ее в бледно-желтую раковину. Неужели я убила ее? Я приоткрыла кран с холодной водой и чуть-чуть побрызгала. Маленькая, но прекрасно очерченная грудка затрепетала, под нею забилось сердце. Значит, она не умерла! Я потянулась к одеколону, помахала флакончиком над ее носом – или, с учетом масштаба, над лицом.
Вдруг она чихнула, села одним рывком и проговорила:
– Что за гадость этот ваш бесшумный слив!
Сейчас уже трудно сказать, что, собственно, я ожидала услышать от русалочки, которая потеряла сознание, пришла в себя в дурацкой раковине и увидела склоненное над ней озабоченное лицо размером с луну. Но точно не это.
У меня от удивления открылся рот, я переспросила:
– Что?
– У вас унитаз с бесшумным сливом, с двухрежимным механизмом, вот что. Это он во всем виноват. – Тут она улыбнулась, как ребенок, и сказала: – Извините за грубость. Понимаете, я раньше никогда не видела вас с этой стороны. – Я уставилась на нее, не моргая, а она хихикнула и добавила: – Да ладно, не переживайте, попка у вас что надо.
У нее были прозрачные зеленые глаза, и потом, эти странные зеленые волосы, и хвост, и красивая фигура – не скажешь, что природа обделила малышку.
– Тебе больно, когда я к тебе прикасаюсь? – спросила я.
– Нет, – ответила она, – я потеряла сознание от страха, а не от боли.
Тогда я очень осторожно, одним пальцем, погладила ее по голове.
– Приятно. – Она прикрыла глаза и улыбнулась. – А вы не могли бы налить водички в этот бассейн?
Я включила холодную воду и набрала полраковины. Она радостно нырнула и запрыгала, пританцовывая, на маленьких волнах.
Я подумала: «Я сошла с ума». А потом подумала: «Ну и что с того? Зато весело».
Нарезвившись, она уселась ко мне лицом, и мы посмотрели друг на друга с нескрываемым любопытством.
– Почему ты так схватила меня? – спросила она немного обиженно.
– Просто хотела понять, что происходит, кто поет, – объяснила я.
Потом вспомнила, как я надеялась, что это мой ребеночек, и разрыдалась. Это были уже не те злые слезы, которыми я оплакивала свой брак, это были грустные сладкие слезы. Я оплакивала ребенка, которого я потеряла, тело, которое меня предало. Слезы закапали в раковину. Русалочка поймала одну и поднесла к губам.
– Соленая! – воскликнула она, – Ах, соль, родная соль! Я думала, что уже никогда не попробую ее.
Я посмотрела на нее, всхлипнула еще разок, высморкалась и спросила:
– А как ты попала сюда? Что ты делала в моем туалете?
– Я застряла, – сказала она, потупившись. Ей словно было неловко. – Все эта новомодная сантехника.
Я невольно посмотрела на унитаз: один из низеньких современных унитазов. Никогда не задумывалась, как он устроен. Раньше, стыдно сказать, я вообще не задумывалась над устройством унитазов. Когда что-то ломалось, муж звонил водопроводчику, тот приходил и ныл, что я бросаю туда предметы гигиены, и они с мужем обменивались многозначительными взглядами. При одном только воспоминании об этом меня бросило в жар, по спине потекли струйки холодного пота, накатило гнетущее чувство полустыда, полузлости, и мне снова захотелось плакать. Приливы всегда случаются неожиданно.
– Какой красивый цвет! – воскликнула русалочка. – Я обожаю все оттенки розового.
От журчанья ее голоса стало легче. Я решила продолжить беседу.
– Так что плохого в моем унитазе?
– Бесшумный слив, двухрежнмный механизм, – буркнула русалочка сердито. – Я же уже говорила.
– Но я не поняла, что это значит.
– Тогда незачем было и устанавливать. С точки зрения людей, удобная штуковина; занимает больше места, чем старые модели, зато бесшумно спускается. К тому же экономит воду, что прекрасно для экологии, но ужасно для меня. Это значит, что я не могу выбраться обратно в водопроводную систему – как молодой лосось из-за плотины.
(Я не стала спрашивать, что она вообще делала в водопроводной системе; возможно, у нее были на то причины личного характера, а я сама терпеть не могу, когда меня допрашивают.)
– Ты не проголодалась? – спросила я. Вряд ли водопроводная вода достаточно питательна.
– Спасибо, я не ем, – сказала она вежливо. – А можно мне зеркало и расческу? Мы, русалки, питаемся своей красотой.
Я заметила, что, когда она это сказала, ее щеки налились нежно-зеленым, как молодое яблочко, и я поняла, что так они «краснеют».
Зеркальце я нашла, а вот с маленькой расческой оказалось сложнее. В конце концов я поехала в город и купила набор для Барби.
– Это внучке? – спросила меня продавщица с улыбкой.
– Нет, русалочке, – брякнула я.
Она посмотрела на меня с подозрением. Еще вчера я бы сквозь землю провалилась, а сегодня только прыснула от смеха. Кажется, ее это разозлило.
Итак, неожиданно пришла весна, самая зеленая из всех, что мне доводилось видеть, полная надежд и очарования. Зеленью – свежей утренней – переливался рассвет; мягкой и ласковой – обволакивал полдень; прозрачной и темной – наливался вечер; в матово-густую погружали сны. Но эта зелень не могла сравниться свежестью, мягкостью, прозрачностью и разнообразием оттенков с цветом ее хвоста и глаз. С ее смехом.
Я купила ей ванночку, не могла же я все время торчать в туалете на первом этаже. Первая ванночка не подошла, она была круглая, и это мешало нам любоваться друг другом. Ее пришлось поменять на прямоугольную, побольше; когда я принесла ее домой, я заметила вдруг, что она в точности такой же формы, что и медицинский поддон, в котором остался мой нерожденный ребенок. И я плакала и плакала.
Чтобы утешить меня, русалочка пела – под это пение я выплакала все слезы, которые у меня накопились за долгие годы, так что, когда пришел муж по поводу развода, я была искренне рада его видеть. Кажется, это его разозлило.
Русалочка разговаривала со мной, и я стала говорить так же, как она; я раскрепостилась, научилась журчать, как горный ручей. Я позвонила друзьям, поболтала с ними о том о сем, пошутила и посмеялась. Кажется, это их разозлило.
А еще, будучи специалистом в области сантехники, она научила меня водопроводному делу.
В конце июня я вежливо объяснила человеку из «Управления водоснабжением», что мне хорошо известна разница между поступлением воды в бачок и сливом, так что не надо учить меня. Кажется, это его разозлило.
В середине июля я сама установила душ у себя в ванной (Ура!)
А к началу августа я вдруг осознала, сколько женщин не разводятся с мужьями только потому, что боятся водопроводчиков. Я решила, что зимой пойду на курсы, вспомню, как водят машину, и уж тогда вообще ничего не буду бояться.
Русалочка спросила, нет ли в машинах опасных пропеллеров, и, узнав, что нет, взяла такую чистую и высокую ноту, поздравляя меня с принятым решением, что в серванте, подпевая ей, зазвенели стаканы. Чтобы отблагодарить ее за этот прекрасный номер, я отнесла обручальное кольцо к ювелиру, попросила вынуть из него один изумруд и повесить на тоненькую золотую цепочку.
– Зачем это вам? – удивился молодой ювелир, разглядывая крошечный изумруд (мы с мужем были бедны, когда решили пожениться).
– Для русалочки, – сказала я.
Кажется, его это совсем не удивило. Он просто улыбнулся. Когда я пришла за заказом, оказалось, что с обеих сторон от камня он добавил по жемчужине размером с зернышко, и получилось ожерелье. А он даже не поднял цену. Я от души рассмеялась. Должно быть, я сошла с ума, но я не одинока. В любом случае так веселее.
Как же я была счастлива тем летом!
Я ни о чем не догадывалась до самого сентября. Уже темно-зеленые каштаны сбрасывали плоды, и те лежали на земле, укрытые шелком в своих скорлупках. Томно-зеленые сумерки спускались все раньше, на голых полях то тут, то там мелькал зеленым отсветом фазан.
И только тогда, осенью, я поняла, что русалочка не так счастлива, как я.
Сперва я не замечала.
Потом пыталась не замечать.
Потом делала вид, что не замечаю.
Однажды вечером началась гроза, огромные ярко-зеленые молнии пронизывали темно-зеленое вечернее небо. А после грозы воздух стал чист, свеж и прохладен, и она запела. В тот вечер она пела так прекрасно, что две лисицы забежали прямо в сад, чтобы послушать; и ночная бабочка бросилась на огонек, решив, что смерть – небольшая цена за то, чтобы услышать такую музыку. А в музыке была непереносимая грусть, мольба о любви, обращенная ко мне.
И я спросила:
– Ты хочешь вернуться в море?
В глубине зеленых глаз вспыхнула искра, она блеснула и погасла, как блик луны в брызгах водопада. Я вновь заплакала, так, как не плакала с весны.
– Да нет, не очень, – сказала она, но зеленоватый румянец выдал ее.
Она отдавалась мне на милость. А я хотела быть жестокой, я хотела быть жадной и эгоистичной. Я имела на нее право. Я не могла представить, как буду жить без нее. Все, что нужно было сделать, – это притвориться, что я ей верю.
– Ты не умеешь лгать, – сказала я.
Потом взяла ее медицинский поддончик и отнесла в машину. Воздух был еще пропитан грозой, но небо очистилось. Из-за серебристого облака показалась луна в серебристом сиянии.
До ближайшего побережья было сорок восемь миль, а я даже не могла разогнаться, потому что боялась расплескать воду в ванночке. Мы медленно ехали – долгая миля за каждый год моей долгой жизни. Да что уж там, я все равно не смогла бы ехать быстрее, я все время плакала, слезы застили глаза.
Когда мы добрались до берега, было так поздно, что правильнее было бы сказать «рано». Мрак отступал, и вместе с ним отступала глубоко в море линия горизонта. Волны тихо шуршали галькой, набегая на берег. Я остановила машину в выгоревшей за лето траве, как можно ближе к пляжу. Я вышла и опустилась на землю, я долго сидела так. Она смотрела на меня и молчала. Проснулись первые птицы, они летели куда-то в конец бухты – утки, должно быть, а высоко в небе, почти невидимые, парили чайки. Одна из них пронзительно крикнула, и я наконец встала. Я подошла к машине, открыла дверцу и потянулась. Потянувшись, я чихнула и вспугнула птицу, которая, оказывается, спала за кочкой прямо у моих йог. Было еще слишком темно, чтобы рассмотреть змеиный узор на спинке, но я узнала гаршнепа по бесшумному взмаху крыльев, по молчаливому зигзагообразному полету. Я вскрикнула от неожиданности, проводила его взглядом, потом полезла в машину и достала прозрачную ванночку с пассажирского сиденья.
Русалочка молча смотрела на меня. Я отнесла ее к кромке воды. Был прилив, так что идти пришлось недолго. Я взяла ее на руки и замерла. Она потянулась, я не сразу поняла, что она пытается сделать, а она хотела снять ожерелье.
– Нет, оставь себе, – сказала я.
– Каждый раз, спуская воду в своем бесшумном туалете, – сказала она, – ты будешь слышать мой голос в его тишине.
Из ее глаз покатились зеленые слезы. Она подняла маленький пальчик и коснулась моего лица.
Я опустила руки в почти неподвижную воду, такую холодную, что у меня свело пальцы. Я могу этого не делать. Она не может меня заставить. Я больше, я сильнее ее.
В пальцах повернулось, затрепыхалось и вдруг опустело. Вот и все…
Я внезапно почувствовала, как я замерзла. Холодный утренний воздух пробирал до костей, меня колотило. Ничего не видя от слез и спотыкаясь о голыши, я пошла прочь, тщетно пытаясь найти носовой платок, которого вечно нет, когда он нужен. Что-то заставило меня обернуться. Там, в открытом море, уже далеко от берега, я увидела ее. Она танцевала в волнах, и волны танцевали вместе с ней, радостно подпрыгивали вокруг нее, резвились, подсвеченные зеленоватым светом, который лился с глубины в честь ее возвращения. Она весело била хвостом по воде. Она пела! Ее голос долетел до меня: это была новая песня – песня свободы и радости. В чистых, прекрасных звуках не было ни печали, ни мольбы. Она пела для меня, пела с любовью.
Потом она повернулась лицом к берегу и вскинула вверх белоснежные руки – нет, она не тонула, она просто прощалась со мной.
Вот так я и стала водопроводчиком.
Мэри Рикерт
Хлеб и бомбы
Мэри Рикерт в течение десяти лет работала учителем начальных классов в небольшой частной школе для одаренных детей в Калифорнии. Она оставила школу, чтобы посвятить себя литературной деятельности, сменив за это время несколько случайных работ: продавца в книжном магазине, секретаря в Христианском союзе молодых людей, продавца в кафе и помощника по работе с кадрами в Национальном парке Секвойя, в котором ей довелось прожить два года. («Красивое место, где я узнала о черных медведях, полнолунии и о том, сколько людей работает в условиях дикой природы и при этом боится ее. Много».)
В настоящее время Рикерт – няня двоих детей, учащихся начальной школы, и поэтому по утрам у нее есть время писать. Она замужем и воспитывает двоих детей-подростков своего мужа, имеет двух кошек и собаку. Ее муж всячески поддерживает ее стремление писать и стая первым читателем рассказа «Хлеб и бомбы» («Bread and Bombs»).
Проза и поэзия Рикерт опубликованы в «The Magazine of Fantasy & Science Fiction», «Indigenous Fiction» и в «The Ontario Review». Сейчас она работает над романом.
«Хлеб и бомбы» впервые увидел свет в апрельском номере «The Magazine of Fantasy & Science Fiction».
Странные дети из семейства Манменсвитцендер в школу не ходили, и мы узнали о том, что они въехали в старый дом на холме, только благодаря Бобби, который видел, как они заселились со всем своим необычным скарбом, состоявшим из кресел-качалок и коз. Мы и представить себе не могли, как можно жить в этом доме, где все окна выбиты и весь двор порос колючей ежевикой. Мы все ждали, когда же их дети – две девочки, у которых, по словам Бобби, волосы похожи на дым, а глаза – на черные маслины, появятся в школе. Но они так и не пришли.
Мы учились тогда в четвертом классе, были в том самом возрасте, когда кажется, что ты очнулся после долгого сна и оказался в мире, навязанном взрослыми, где есть улицы, через которые нельзя переходить, и есть слова, которые нельзя произносить, но мы и переходили, и произносили. Таинственные дети Манменсвитцендер просто стали очередным открытием того года, наряду со всеми изменениями в наших организмах, что очень даже волновали (а иногда и тревожили) нас. Наши родители, все без исключения, воспитывали нас, уделяя большое внимание этой теме, так что Лиза Биттен научилась произносить слово «влагалище» еще до того, как узнала свой адрес, а Ральф Линстер принял своего младшего братика Пети, когда его мать начала рожать, – той ночью внезапно пошел снег, а отец так и не успел добраться до дома. Но настоящий смысл всей этой информации стал доходить до нас только в том году. Мы открывали для себя чудеса, что таились в окружающем мире и в наших собственных телах: необычно было вдруг осознать, что кто-то из твоих друзей симпатичный, а кто-то – неряха, или задавака, или толстушка, или у кого-то были грязные трусы, или кто-то смотрел на тебя, приблизив глаза, не мигая, и неожиданно ты чувствовала, что краснеешь.
Когда дикие яблони цвели ярким розовым цветом, окруженные жужжащими пчелами, а миссис Грэймур смотрела в окно и вздыхала, мы передавали по рядам записочки и строили дикие планы для школьного пикника, о том, как мы нападем на нее из засады со своими шариками с водой и как закидаем пирогами нашего директора. Конечно же, ничего такого не случилось. И только Трина Нидлз была разочарована, потому что в самом деле поверила, что все так и будет, но она все еще носила бантики в волосах, и по секрету от всех сосала большой палец, и вообще была всего лишь большим младенцем.
Освобожденные на лето от занятий, мы мчались по домам – кто бегом, кто на велосипедах, – крича от радости избавления, и затем принялись делать все что угодно, о чем только можно было мечтать, все то, что мы уже предвкушали делать, пока миссис Грэймур вздыхала, глядя на дикие яблони, которые уже утратили свою яркую розовость и опять выглядели обыкновенно. Мы играли в мяч, гоняли на велосипедах, носились на скейтах по дороге, рвали цветочки, дрались, мирились, и до ужина оставалась еще куча времени. Мы смотрели телевизор и не думали скучать, но потом свешивались вниз головой и смотрели на экран уже вверх тормашками, или переключали туда-сюда каналы, или находили повод, чтобы подраться с кем-нибудь в доме. (Впрочем, я была дома одна и не могла позволить себе такого удовольствия.) И вот тогда мы услышали этот странный звук – стук копыт и звон колокольчиков. Мы отодвинули шторы на окнах и из душного сумрака телевизионных комнат выглянули наружу, где светило желтое солнце.
Две девочки Манменсвитцендер в ярких, цветастых, как у циркачей, одеждах с прозрачными шарфиками, переливающимися блестками, – один сиреневый, другой красный – ехали по улице в деревянной повозке, которую тянули две козочки, у каждой на шее висели колокольчики. Вот так и начались все неприятности. В информационных сообщениях об этом нет ни слова: ни о ярком цветении диких яблонь, ни о нашей наивности, ни о звоне колокольчиков. Вместо этого все только и твердят о печальных последствиях. Говорят, мы были дикими. Запущенными. Странными. Говорят, мы были опасными. Как если бы жизнь была окаменелой смолой, а мы сформировались и застыли в mm форме, но не превратились в те неуклюжие существа, что вызывали отвращение, а развились в тех, кто из нас получился в итоге, – учительница, балерина, сварщик, адвокат, несколько солдат, два врача и я, писательница.
В такие времена, как те, что наступили сразу же после трагедии, все только и говорят о том, что жизнь рухнула, будущее уничтожено, но только Трина Нидлз попалась на эту удочку и впоследствии покончила с собой. Все же остальные из нас сносили осуждение окружающих в разных проявлениях, но затем мы просто продолжили жить. Да, вы правы, с темным прошлым, но, как это ни странно, с ним можно было жить. Рука, что держит нынче ручку (или мел, или стетоскоп, или ружье, или гладит кожу возлюбленного), совсем не та, что зажигала спичку, и до такой степени не способна на подобное действие, что дело тут вовсе даже не в прощении или выздоровлении. Как странно оглянуться назад и поверить в то, что все это – я или мы. Неужели это ты была тогда? Тебе одиннадцать лет, и ты видишь, как пылинки, лениво кружа, опускаются в луче солнца, который отсвечивает на экран и мешает изображению, слышится позвякивание колокольчиков, блеяние козочек и доносится смех – такой чистый, что мы все выбегаем взглянуть на этих девочек в цветастых одеждах с яркими шарфиками, сидящих в повозке, запряженной козами, которая останавливается – смолкает стук копыт и скрип деревянных колес, – когда мы обступаем повозку, чтобы разглядеть эти темные глаза и хорошенькие лица. Младшая из девочек, если, конечно, можно судить по росту, улыбается, а у второй – она младше нас, но ей по меньшей мере лет восемь или девять – по смуглым щекам катятся огромные слезы.
Мы стоим так недолго, уставившись, а потом Бобби говорит:
– Что это с ней?
Девочка помладше смотрит на свою сестру, которая, видно, старается улыбнуться сквозь слезы.
– Просто плачет все время без остановки.
Бобби кивает и украдкой смотрит на девочку, продолжающую плакать, тем не менее она ухитряется спросить:
– Откуда вы, ребята?
Он обводит взглядом всю группу с таким видом, будто хочет сказать: «Ты что, шутишь?» – но всем ясно, ему нравится плачущая девочка, чьи темные глаза и ресницы блестят от слез, которые сверкают на солнце.
– У нас летние каникулы.
Трина, все это время украдкой сосавшая большой палец, спрашивает:
– А можно мне прокатиться?
Девочки говорят, что конечно. Трина проталкивается через небольшую толпу и залезает в тележку. Младшая девочка улыбается ей. Другая девочка тоже силится улыбнуться, но вместо этого плачет еще громче. У Трины такой вид, будто она тоже вот-вот заплачет, но младшая из сестер говорит:
– Не волнуйся. Она всегда так.
Льющая слезы девочка встряхивает поводьями, звенят бубенчики с колокольчиками, и тележка, влекомая козочками, со скрипом катится вниз под горку. Слышно, как пронзительно визжит Трина, но мы знаем, что ей хорошо. Когда они возвращаются, мы по очереди катаемся, пока наши родители не зовут нас к ужину свистом, криками, хлопаньем ставен. Мы расходимся по домам ужинать, а две девочки отправляются к себе домой, одна из них по-прежнему плача, а другая – напевая под аккомпанемент колокольчиков.
– Я видела, вы играли с беженками, – говорит моя мать. – Ты поосторожней с этими девчонками. Не хочу, чтобы ты ходила к ним в дом.
– А я и не ходила к ним в дом. Мы просто играли с козочками и повозкой.
– Тогда ладно, но держись от них подальше. И как они тебе?
– Одна из них много смеется. А другая все время плачет.
– Не ешь ничего, если они что предложат.
– Почему?
– Потому.
– Неужели нельзя просто объяснить почему?
– Я не обязана тебе ничего объяснять, юная леди, я – твоя мать.
Мы не видели девочек на следующий день, на другой день – тоже. На третий день Бобби, который начал носить расческу в заднем кармане и зачесывать волосы набок, сказал:
– Какого черта, давайте просто пойдем туда, и все.
Он пошел вверх по холму, но никто из нас за ним не последовал.
Когда он вернулся назад тем вечером, мы кинулись к нему узнать подробности о его визите, выкрикивая вопросы, словно журналисты.
– Ты ел что-нибудь? – спросила я. – Моя мать говорит, что у них ничего нельзя есть.
Он повернулся и посмотрел на меня с таким видом, что на мгновение я забыла о том, что он – мой ровесник, такой же ребенок, как и я, несмотря на новый способ причесывать волосы и уверенный пристальный взгляд его голубых глаз.
– Твоя мать склонна к предрассудкам, – сказал он. Отвернулся от меня и, сунув руку в карман, достал что-то в кулаке, а когда разжал пальцы, мы увидели горсть конфеток в ярких фантиках. Трина протянула свои коротенькие, толстенькие пальчики к ладони Бобби и выхватила оранжевую конфетку. Следуя ее примеру, налетел шквал рук, и через миг ладонь Бобби снова опустела.
Родители начали звать детей домой. Моя мать стояла в дверях, но мы были слишком далеко, и она не видела, что мы делаем. Конфетные фантики – голубые, зеленые, красные, желтые и оранжевые – разлетелись в воздухе, закружились над тротуаром.
Мы с матерью обычно ели раздельно. Когда я бывала у папы, мы ели с ним вместе, сидя перед телевизором, что она считала дикостью.
– Он пил? – обычно спрашивала она меня. Мать была убеждена, что отец – алкоголик, и думала, что я не помню тех времен, когда ему приходилось пораньше приходить с работы, потому что я звонила ему и рассказывала, как она спит на диване, все еще в пижаме. Кофейный столик был весь завален пустыми банками и бутылками, отец выносил их на свалку с мрачным видом, почти ничего не говоря.
Моя мать стоит, прислонившись к рабочему кухонному столу, и смотрит на меня.
– Ты играла сегодня с теми девчонками?
– Нет. Хотя Бобби играл.
– Ну вот, теперь понятно – никому нет дела до этого мальчишки. Помню, как его папаша учился со мной в школе. Я тебе когда-нибудь рассказывала об этом?
– Угу.
– Он был очень привлекательный. Бобби тоже симпатичный мальчик, но ты все же держись от него подальше. Я считаю, ты слишком подолгу с ним играешь.
– Да я вообще с ним почти не играю. Он играет с теми девочками весь день.