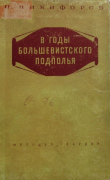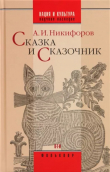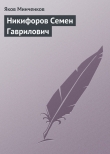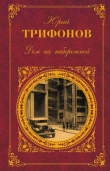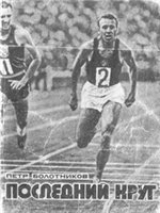
Текст книги "Последний круг"
Автор книги: Стив Шенкман
Соавторы: Петр Болотников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Он и в цивильной жизни таким же настойчивым парнем оказался. Стал кандидатом наук, физиологом.
– Вот ты, Петр Григорьевич, обмолвился, что Артынюк вырос в далеком селе. И не один он: Феодосий Ванин, Ардальон Игнатьев, Александр Ануфриев, Иван Чернявский, да и Куц, и ты – смотри, сколько знаменитых бегунов родом из больших и малых сел. А вот среди известных прыгунов или барьеристов едва ли не все горожане. Вероятно, здесь есть какая-то закономерность. Как ты считаешь?
– Есть, конечно. Нелегкий сельский труд, простор, чистый воздух помогли выработать выносливость.
– Не вижу логики. Что же, ты считаешь, что привычка к труду или чистый воздух нужны прыгуну в меньшей степени, чем марафонцу? Нет, причина, видимо, иная.
– Какая же?
– Не знаю. Но закономерность существует. Социологи высчитали, что подавляющее большинство наших сильнейших бегунов, лыжников и велосипедистов родом из деревни. Заметь: это представители видов спорта, где прежде всего требуется незаурядная выносливость.
Есть и еще любопытное исследование. Московский тренер А. Кочарян изготовил прибор, на котором измеряется выносливость спортсменов. Многочисленные пробы, проведенные на сотнях никогда не тренировавшихся подростков, показали, что у сельских ребят и девушек выносливость гораздо выше, чем у их городских сверстников.
– И в чем же дело? Наверное, все-таки в чистом воздухе. В городе ведь дышать нечем. Это не может не влиять на способность к поглощению кислорода.
– Возможно. Мы с тобой предполагаем, строим умозаключения, а серьезный, обоснованный ответ могут дать только учёные на основе эксперимента.
– Не беспокойся, они обоснуют.
– Тоже правильно. А пока что и без обоснований ясно, что на селе нужно культивировать не технически сложные виды легкой атлетики – прыжки с шестом, барьерный бег, метание копья, которые требуют дефицитного оборудования и хороших стадионов, а бег на средние и длинные дистанции. Для кроссов хватит места в лесах и рощах.
– Стадионы, положим, тоже нужны в деревне.
– Конечно, нужны, Петр Григорьевич. Кто же спорит! Но их нет. Имеются футбольные поля, иногда вокруг поля расчищена дорожка. О качестве говорить не приходится. Кое-где и с шестом прыгают, и диск метают – очень хорошо. Но основное внимание надо все же уделять бегу, поскольку это позволит с меньшими затратами охватить максимальное число людей, способных именно к бегу, а не к прыжкам.
– Интересно, есть статистика занимающихся легкой атлетикой на селе?
– Да, есть. 1 миллион 400 тысяч сельских легкоатлетов.
– Что-то многовато. Даже не верится.
– По той же статистике, в штатах сельских спортобществ работает лишь 700 тренеров. Один тренер на 2 тысячи человек! А квалифицированный тренер добивается успехов, если работает с 10–20 учениками. Так что в полтора миллиона поверить трудно.
Учти еще, что в число 700 входят преподаватели сельскохозяйственных вузов и техникумов, работники аппарата сельских спортобществ. Вообще, в сельской легкой атлетике много напущено тумана. Работают там не очень здорово, а видимость создавать научились.
Был я однажды на чемпионате сельских легкоатлетов России, в Краснодаре он проходил. О результатах я не говорю, ниже среднего результаты. Я просмотрел анкеты всех участников соревнований. И не поверил своим глазам. Среди участников не было ни одного (!) тракториста, комбайнера или доярки. Ни одного представителя самых массовых сельскохозяйственных профессий на всероссийском чемпионате легкоатлетов! В каждой команде выступали в основном инструкторы физкультуры, тренеры, преподаватели, студенты. Я так и не понял, что же было в Краснодаре – чемпионат колхозников или инструкторов?
Мало того, на этом сельском чемпионате городских жителей оказалось больше, чем сельских. В команде Кемеровском области все 13 человек из города Кемерова. А вот такой была команда Курской области: три студента, два тренера, бухгалтер госстраха, товаровед. Все из Курска. Лишь одна девушка из села, работает лесником.
Не думай, что чемпионат в Краснодаре – явление исключительное. К сожалению, вполне типичное. Вот что писал журнал «Легкая атлетика» после Всесоюзной спартакиады сельских спортсменов:
«Результаты спартакиады довольно высокие. Однако радовать нас они не могут, так как судить по ним о развитии легкой атлетики на селе было бы грубой ошибкой. Дело в том, что большинство призеров – это пришлый, городской народ, приехавший в сельскую местность уже зрелыми спортсменами. Мастер спорта Т. Ковалевская, завоевавшая три золотые медали, окончила факультет физического воспитания Ставропольского педагогического института и работает в подмосковном совхозе тренером по легкой атлетике. Рекордсмен в метании молота А. Бондарчук числится инструктором Ровенского районного совета общества «Колгоспник». В. Сидоренко – учитель, И. Кабанов – художник. Были среди участников и такие спортсмены, которые, приобретают принадлежность к сельским спортивным обществам только в периоды крупных соревнований».
Я не думаю, что есть какие-то объективные причины, закрывающие сельской молодежи дорогу в большой спорт. Скорее всего дело в плохой организации. В том же Краснодаре я познакомился с преподавателем зооветеринарного техникума села Дубовка Волгоградской области Геннадием Карпенко. Он создал в своем селе клуб бега, на занятия которого съезжались ребята из сел, расположенных на 60–70 километров до Дубовки. Но сельский спорт не должен держаться только на энтузиазме. Для того чтобы в колхозах росли молодые мастера спорта, требуется большая организаторская работа. Прежде всего нужны тренерские кадры для села, очень много тренеров.
– Но только не надо представлять дело так, будто, дав селу какое-то количество тренеров, мы через несколько лет сможем сказать в какой деревне живет и трудится тракторист Вася, который, между прочим, рекордсмен мира по бегу. Все гораздо сложнее. Мы говорим о Ванине, Куце, Артынюке. Но они ведь бывшие селяне. Спортом всерьез они начали заниматься, только когда уехали из своих сел. Мастерами спорта стали, поселившись в Москве или Ленинграде. Мне кажется, что олимпийский чемпион из какой-нибудь Дубовки – это пока утопия. Слишком сложна подготовка бегуна, мирового класса, чтобы ее можно было обеспечить в далеком селе. Хватило бы с сельских тренеров и начальной подготовки бегунов, поисков талантов, доведения их до первого спортивного разряда или даже до мастера спорта.
Не могу сказать, что в сельских спортобществах не осознают своих задач. Сейчас, я знаю, используют такую форму работы. На различных сельских соревнованиях подбирают наиболее способных молодых бегунов и проводят для них кратковременные сборы в Москве под наблюдением лучших специалистов. Некоторые столичные тренеры взяли шефство над наиболее способными бегунами, консультируют их, порой вызывают на соревнования и тренировки. Дунаю, что даже одна эта мера может выявить немало отличных бегунов. Надо только расширять поиск и работать систематически.
– Не пора ли от глобальных вопросов вернуться к твоей спортивной биографии? Мы остановились на травме, закрывшей тебе дорогу на чемпионат Европы. Ты так и не выступал до конца 1958 года?
– Отчего же? Выступал. Розыгрыш золотой медали на «десятке» перенесли на осень и проводили одновременно с командным чемпионатом страны в Тбилиси. Я долго и усердно лечил свою ногу, потом понемногу начал тренироваться. Бегать было еще рано, я ходил. Ходил по 60 километров в день. Так, что спина болела. Потом начал и бегать. Когда пробежал на прикидке «пятерку» за 14.22, меня включили в сборную Москвы.
Мы жили в Сочи, а ленинградцы в Пицунде. Ребята рассказывали, что Женя Жуков твердо решил наконец стать чемпионом страны. Он готовился серьезно, как никогда. Взял напрокат велосипед с мотором и каждый день гонял из Пицунды на птицеферму. Там покупал курицу пожирнее, привязывал ее к седлу и громыхал на своем веломоторе до Пицунды. Потом собственноручно отрубал курице голову и варил себе бульончик.
Ну думаю, сейчас бороться с Женей будет трудно. Однако, хорошо зная впечатлительность Жукова, я раз и навсегда внушил себе, что выиграю у Жени всегда, при любых обстоятельствах. Утром нам бежать, а вечером говорю я Жене: «Если поведешь меня завтра, покажем хороший результат. И серебро будет твоим, это точно!» Он возражает: «Тебя поведешь, а на финише ты у меня выиграешь. Нет, уж лучше я сам по себе, я тоже хочу быть чемпионом!» – «Ну, Жуков, – говорю, – берегись. Так был бы вторым, а теперь и в тройку не попадешь!»
Ушел он бледный, весь в сомнениях. Думаю, полночи ворочался.
– Разве это этично? Надо на дорожке выигрывать, а не в гостинице. Ногами, а не языком.
– Ничего плохого не вижу. Правил я не нарушал, поделился с человеком мыслями о предстоящем забеге. Ну а если говорить серьезно, то у чемпиона нервы должны быть покрепче. Пять минут поговорили – у него уже коленки дрожат.
– Все равно не нравится мне такой разговор.
– Тем не менее он состоялся. Что было, то было. На следующий день был сильный ветер, бежать тяжело. Но я оторвался от всех. Бежал один в хорошем темпе. 29.06,8 – приличный результат.
– А Жуков?
– Третьим пришел.
…Зимой и весной нога давала о себе знать. Лечился я аккуратно, а тренировался очень осторожно. В начале сезона пропустил несколько соревнований. Но потом выступал успешно. Выиграл обе дистанции на весеннем матче, позднее установил всесоюзный рекорд на короткой для меня дистанции – 3 тысячи метров – 8.00,8. Это было в Варшаве на Мемориале Кусочинского. В интересной тактической борьбе с Артынюком и Гансом Гродоцки из ГДР прошел забег на Мемориале Знаменских. Мне удалось победить.
Очень большую ответственность чувствовал за свое выступление в матче СССР – США. На этот раз он проходил в Филадельфии. Мы с Артынюком выступали на 5 тысяч метров во второй день. А в первый бежали Десятчиков и Пярнакиви.
Этот забег стал уже легендой. Но расскажу о нем так, как он представлялся мне. Ребята стартовали в самую жару – 33 градуса в тени. Воздух был как в парной. Такая влажность, что выстиранная майка сутки висела и не просыхала. От металлических трибун жар шел, будто от печки. Бежать, конечно, очень тяжело. Но все было нормально до седьмого километра. Наши понемногу уходили американцы – Труэкс и Сот отставали.
Надо сказать, что «десятка» была последним видом первого дня соревнований. А счет уже был 75:73 не в нашу пользу.
И вот на седьмом километре происходит странное. Сот, уже порядком измотанный, вдруг делает невероятный рывок, обходит Хуберта, а потом и Леню. На что он рассчитывал, сказать трудно. Потому что при жаре и влажности, которая была тогда в Филадельфии, один, даже короткий, рывок моментально приводил организм в нерабочее состояние. Видно, этот Сот от жары совсем обезумел. Хорошо рассуждать сейчас, а тогда этот рывок мог показаться опасным. Все-таки на первом матче американцы отняли у нас очки. Вот Пярнакиви и решил не отпускать Сота. Он бросился за американцем, догнал его. А тот покачался немного и упал. Тут же носилки – в госпиталь. Вообще, в тот день на стадионе носилки были самым популярным транспортом. С трибун то и дело уносили зрителей, получивших тепловой удар.
Десятчиков помучился немного и финишировал первым. А Пярнакиви оказался в тяжелом положении. Рывок доконал Хуберта, но он не позволил себе сойти. Особенно тяжело ему было на последней прямой. Он пробежал ее за минуту! Сто метров за минуту! Его бросало из стороны в сторону, он высоко поднимал колени и молотил ногами дорожку, не продвигаясь вперед. Трибуны были в ужасе. Такой нечеловеческий борьбы никому еще не приходилось видеть на беговой дорожке. Хуберт все же финишировал. Судьи тут же в клочья разодрали его майку – на сувениры. Труэкс был третьим тоже потерял сознание после финиша.
Надо признаться, на нас с Артынюком этот бег произвел тяжелое впечатление. Мы понимали, что на следующий день могли оказаться в положении Пярнакиви.
Нас пугали Деллинджером. Говорили, что он в отличной форме. Но мы с Артынюком легко убежали от него, выиграли у американца полминуты. Темп был ровный и мучиться не пришлось. На финише мы с Саней даже ускорились, и я у него выиграл грудь.
Не стану рассказывать подробно, но концовка сезона прошла хорошо. Я выиграл на матче с Польшей, потом на матчах с ФРГ и Великобританией. Две победы одержал в финале II Спартакиады народов СССР.
В ту осень еще одна важная победа была. В Осло встретился с Гордоном Пири.
Конечно, вершиной для Пири был 1956 год, когда он установил мировой рекорд и соперничал с Куцем. Но и перед Римом этот англичанин был очень опасен. На Британских играх Пири стал чемпионом на 1500 метров, это говорило о многом. Он усердно тренировался на стайерских дистанциях и, помню, заявил: «Результаты 13.30 и 28.20 вполне возможны. Это услуга, которую я собираюсь оказать легкой атлетике». Напомню, что оба результата были выше мировых рекордов.
Разумеется, здесь не обошлось без звона, который обожал этот Пири, но и основания для таких заявлений у англичанина были. Не назову точных цифр, но помню, что перед Римом Пири показывал очень высокие результаты. Да и возраст его был в ту пору вполне подходящим для стайера. Пири на год моложе меня.
О его спортивном пути в свое время много писали, потому что этот путь был необычным. Бегать Гордон начал лет с шести, а в десять участвовал в кроссе на 6 миль. Даже сейчас так не бегают, хотя и известно, что ребенок – это потенциальный стайер. А в те времена даже сторонники ранней специализации в спорте упрекали родителей Гордона в бесчеловечном отношении к ребенку. Говорили о возможном инфаркте, сердечной недостаточности, нервном и физическом истощении. Но ничего этого не было. Пири рос здоровым парнем, тренировался регулярно. Вообще, надо отдать ему должное – трудолюбивым бегуном был Пири. В возрасте, когда я еще не думал, не гадал, что стану бегуном, Пири ежедневно тренировался по 3–4 часа, мировой рекорд на 6 миль установил.
К Олимпиаде в Мельбурне у него был стаж беговой работы почти двадцать лет. Представляешь, какая это база выносливости! Не помню случая, чтобы у Пири были травмы – тоже результат многолетних тренировок. И скорость у него отличная: перед Мельбурном повторил мировой рекорд на 3 тысячи метров, перед Римом стал чемпионом Британских игр на «полуторке». Единственное плохо – «звонил» много. И по делу, а чаще всего без дела. Дошло до того, что он даже на Куца наговаривать начал. Этого ему не простили. Испортил он память о себе.
В Осло он легко проиграл, без борьбы. Не знаю, в чем дело. Отпустил меня с самого начала и даже не пытался догнать. Я не огорчился. Мне нужно было еще раз доказать себе, что способен выиграть у любого.
Это было последнее выступление в предолимпийском сезоне. Потом после небольшого отдыха уехал я в Карпаты. Там готовились к 60-му году все наши бегуны.
Глава VIII. Время раздавать автографы
Я понимал, что этот сезон самый важный из всех прожитых мной. Я прекрасно понимал, что смогу бороться за олимпийские награды, что не слабее других стайеров. Но опыт Мельбурнской олимпиады предостерегал от излишней самоуверенности: я достаточно насмотрелся на катастрофы верных претендентов в олимпийские чемпионы. 60-й год, год Римской олимпиады, я встретил в боевом настроении, в стремлении предельно много работать на тренировках и отчаянно бороться на соревнованиях. Боялся лишь одного – травм.
Слава богу, травм не было. Иначе все усилия могли бы пойти насмарку. Как много в жизни спортсмена зависит от случайностей. Подверни я ногу на одной из последних тренировок – и все. Никакой медали.
В марте Никифоров вывез группу стайеров в Карпаты на альпийские луга. Помимо основной нашей компании был там и новичок – Борис Ефимов из Ангарска, было также несколько средневиков, в том числе Николай Голубенков и Борис Алексюк. Они помогли нам тренироваться на скоростных отрезках. Вот одна тренировка, марафонская тренировка. Всей компанией бежали от Берегова до Мукачева вдоль железнодорожного полотна. Это 18 километров. И обратно столько же. По ходу делали длинные трехкилометровые ускорения. Всего примерно два с половиной часа беговой работы. Но работа эта была приятной, грунт там мягкий, пружинистый. Весеннее горячее солнышко светило вовсю. Во время ускорений прошибал пот, но мы снимали на бегу тренировочные костюмы и загорали, совмещая приятное с полезным.
Такая тренировка была через день. А в промежутках скоростная работа – 15 по 1000 метров, 10 по 600, 10 по 400. Здесь мы держались за средневиками. Бывали и дни отдыха. В такие дни мы ходили в горы по глубокому снегу. Помню, как-то восемь часов так ходили. Потом возвратились и метрах в трехстах от столовой повалились на землю. Сил больше не было. Вот такой день отдыха.
Кстати, должен оговориться: я всегда с опаской рассказываю о том, какую работу выполнял на тренировках, потому что боюсь, как бы кто-то из молодых спортсменов не решил повторить ее. К таким нагрузкам я шел много лет, постепенно готовил свой организм к тому, чтобы большая нагрузка несла ему пользу, а не вред. Для новичков есть специальная литература, где даны подробные тренировочные планы с постепенным возрастанием нагрузки.
Завершилась тренировка в Карпатах поездкой на кросс «Юманите». Я обычно побаивался кроссов. На неровной почве легко повредить голеностопный сустав. Но все обошлось нормально. Мы с Артынюком легко убежали от поляка Ожуга и разыграли финиш.
Потом подряд были два соревнования в Туле. Сперва весенний матч Москва – Ленинград – РСФСР – Украина. Потом матч с поляками. На весеннем матче я опять убежал на финише от Артынюка. У меня – 13.53,8, у Сани – 13.55,8, это был рекорд Ленинграда. Третье место занял Ефимов. И сразу стали поговаривать о возможном его выступлении на Олимпиаде. На высокие места в Риме Борис, естественно, рассчитывать не мог, но опыта он там поднабрался бы. Ефимов был необычайно трудолюбив. Тренировался он, пожалуй, больше любого из нас. И скоростишка у него оказалась неплохой – в том же тульском матче он вошел в финал на «полуторке», где опять, между прочим, победил Артынюк. Саня спокойно выигрывал у средневиков.
А на «десятке» победил Алексей Десятчиков. Он всегда здорово выступал, если меня не было на дорожке. Если я бегу одну дистанцию, то Леня на другой чаще всего выигрывает. А если мы вместе на дорожке, то он в лучшем случае второй. Дважды он меня выручал здорово, было такое дело. Один раз на Мемориале Знаменских, когда венгр Ковач чуть не убежал от нас, Леня его достал, притормозил, а потом мы с Жуковым их обошли. А второй раз в Риме. Об этом речь впереди.
Между прочим, Десятчиков один на немногих сильных стайеров, родившихся и выросших в большом городе. Леня – коренной москвич. Насколько я знаю, в его спортивной судьбе два обстоятельства сыграли решающую роль. Его отец, Степан Иванович Десятчиков, был в свое время известным марафонцем, мастером спорта. Второе обстоятельство – жил Леня в Покровско-Стрешневе, очень спортивном районе. Сразу же за его домом начинался сосновый бор, а рядом Москва-река. Он в детстве многое перепробовал – лыжи, коньки, плавание, футбол. Класса, по-моему, с седьмого увлекся бегом. Здесь уж, наверное, отец повлиял.
Мальчику, выросшему в спортивной семье, чаще удается стать большим спортсменом. Родители в таких семьях оказывают большую моральную поддержку детям, помогают им и советом, и добрым словом. Ребята живут в атмосфере спорта, в разговорах о тренировках, соревнованиях, победах. Естественно, они тянутся ко всему этому, а в более зрелые годы стремятся превзойти своих отцов: появляется здоровое честолюбие. Примеры? Пожалуйста…
Тер-Ованесяны. Отец – Арам Аветисович Тер-Ованесян в тридцатых годах был рекордсменом страны в метании диска. Сын Игорь – трехкратный чемпион Европы и экс-рекордсмен мира по прыжкам в длину.
Десятиборец Юрий Дьячков был чемпионом СССР. Его мать – Нина Думбадзе, чемпионка Европы и многократная рекордсменка мира в метании диска. Отец – Борис Дьячков, чемпион страны двадцатых годов в прыжках и беге.
Володя Ляхов, один из сильнейших наших дискоболов, – сын знаменитого Сергея Ляхова, которому в предвоенные годы принадлежало 22 рекорда страны в метании молота, диска и толкании ядра.
Отец олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Юрия Тармака был чемпионом СССР по метанию диска.
Семь раз был чемпионом страны в барьерном беге киевлянин Иван Анисимов, а его сын тоже барьерист, Василий Анисимов имеет 11 медалей чемпиона СССР.
Ирина Турова, дочь знаменитых легкоатлетов предвоенных лет Галины Туровой и Роберта Люлько, была чемпионкой Европы в беге на 100 метров.
Сын многократного чемпиона СССР по метаниям А. Шехтеля был вратарем в «Зените».
Мать шестовика Геннадия Близнецова – в прошлом известная пловчиха.
У экс-чемпионки страны по бегу Александры Пареевой и известного метателя предвоенных лет Александра Шурепова пять детей. Четверо из них – мастера спорта, причем Ольга, Сергей и Андрей входили в сборную команду страны.
Если хорошенько поискать, я думаю, можно было бы добавить еще немало фамилий. Но и так список внушительный. Так что у Лени Десятчикова были основания стать известным бегуном. Всем он был хорош: трудолюбивый, боевой, приветливый парень. Один недостаток – не мог рубиться на финише. И не из-за того, что скорости не было. У Куца финишная скорость хуже, но Володя всегда сражался до последнего. А Леню обгонишь на прямой – сразу бросает борьбу. Вот это и не дало ему возможности пробиться в чемпионы. Пустяк ведь, столько терпишь на дистанции, потерпи еще несколько секунд, стисни зубы, выжми из себя скорость, еще чуть-чуть выжми… Нет, не мог. Сколько раз ругал я его. Понимал он все, но так и не сумел переломить себя. Вот я на него один раз здорово обиделся.
Перед самой поездкой в Рим проводились соревнования в Лужниках. Команда была уже отобрана. Но соревнования зачем-то решили провести. Забег был назначен на семь вечера. Я спокойно пообедал часа в четыре. Времени до старта как раз хватало. Я раньше чем через три часа после еды бежать не могу. Это все у нас знали. Но неожиданно забег перенесли на пять. Исаич попросил Леню предупредить меня заранее. Только я выхожу из-за стола, приходит ко мне домой Юра Захаров. «Скорее, – говорит, – собирайся в Лужники». Я разозлился ужасно. На стадионе спрашиваю у Десятчикова, почему не предупредил: «Такси, – отвечает, – не мог поймать». – «Все равно, – говорю, – не выиграешь. И еще лидировать тебе придется. А я уж с полным желудком посижу за тобой». Так и вышло, опять победил я Десятчикова. После весеннего матча был матч с поляками, тоже в Туле. Там мне предстояло встретиться с одним из сильнейших стайеров мира, Здиславом Кшишковяком. У меня были основания опасаться этого бегуна. Дважды был он впереди на Мемориалах Кусочинского, правда, на слишком короткой для меня дистанции – 3 тысячи метров. Кроме того, Кшишковяк выиграл «пятерку» и «десятку» на чемпионате Европы в Стокгольме. На обеих дистанциях он победил очень уверенно, уйдя от соперников за три круга до финиша.
Кшишковяк на год старше меня. Но беговой стаж у него был значительно большим, чем у меня. Он уже в Мельбурн приехал опытным мастером и занял там четвертое место с результатом 29.00. А я впервые вышел из 29 минут только в 60-м году. У Здислава был очень широкий диапазон дистанций – 7.58,2 на 3 тысячи метров, чемпион Европы на 5 тысяч и 10 тысяч метров, мировой рекордсмен в стипль-чейзе. Он умел очень быстро финишировать и терпел самые яростные рывки.
Мне было очень важно посмотреть на него в настоящем деле, проверить его финиш, его выдержку. Все говорили, что Кшишковяк один из самых верных претендентов на золото в Риме.
Мы с Артынюком дали хороший темп, а за три круга до финиша приготовились поймать рывок Здислава. Но поляк не спешил. За два круга рванул Казимир Зимны. Однако этот рывок мы с Саней проигнорировали: уж больно плохо выглядел Зимны, чтобы считать такой рывок опасным. Впрочем, ждали мы слишком долго, протащили Кшишковяка до финиша, а там он выиграл у нас на скорости. Когда он рванул, у меня мелькнула мысль – упереться и не отпустить его на финишной прямой. Но вторая мысль была более трезвой и правильной: пусть убегает, он достаточно настрадался в этом забеге, к тому же наши стипльчезисты заставили Кшишковяка здорово помучиться на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями. Нелегко ему будет восстановиться, а через два месяца – Олимпиада. Кшишковяк показал очень высокий результат 13.51,6, я отстал на две секунды. На этом же матче поляк установил с помощью Коли Соколова мировой рекорд в стипль-чейзе.
Все ахали: Кшишковяк будет олимпийским чемпионом, он в блестящей форме и тактически обыграл Болотникова.
А у меня после проигрыша настроение поднялось. Я точно знал, что на моей дистанции Кшишковяку чемпионом не быть. Почему? Сейчас объясню. Поляк уже достиг пика спортивной формы. Продержать ее в течение двух месяцев, да еще на «десятке» и в «стипле», он не сможет: возраст не тот. К тому же «стипль» в Риме раньше «десятки», так что ко мне Кшишковяк попадет порядком измотанным. Нелегко далась ему и победа надо мной в Туле, упирался он на финише из последних сил. А накануне они в смерть сражались с немцем Гродоцким на Мемориале Кусочинского в Варшаве, я видел этот забег. Сколько можно так сражаться на финише? Четыре-пять раз за сезон – это максимум. Нет, я прекрасно понимал, что Кшишковяк поспешил набрать форму и зря старается выиграть все, что можно. Это был стратегический просчет.
Мой же пик формы был в Риме. Он пришелся не просто на дни Олимпиады, а точно на 8 сентября. Вот так все рассчитал Исаич. 6 или 7 сентября я еще не был в таком состоянии, как 8-го. Аптекарская точность.
На Мемориале Знаменских – это было через неделю после Тулы – я проиграл Артынюку. Такому бегуну, как Артынюк и проиграть не грех. Кстати, в тот раз он выиграл у меня впервые. Мы очень здорово разогнались, на финише началась рубка. Уже на последних метрах, в клетках, мне показалось, что Сани не видно, что он отстал. И вдруг он откуда-то высунулся и как будто клюнул на ленточку. Прозевал я его. А результаты были отличные – 28.58,0 и 28.58,2. Второй и третий результаты в стране за все время.
Обе дистанции на чемпионате Союза я выиграл довольно легко – рывком на финише. Оба раза вторым был Десятчиков. На «пятерке» третье место занял Артынюк, а на «десятке» – Захаров.
Такое распределение сил было воспринято как само собой разумеющееся. И бегуны, и тренеры уже успели привыкнуть к моим победам. Всем было ясно, что Десятчиков сейчас – второй стайер страны. Все-таки бесконечные травмы Артынюка сделали его не очень-то надежным стайером.
– Значит, ты был абсолютно уверен, что на Олимпиаде выиграешь у любого бегуна?
– Разумеется.
– Кого же считали основными соперниками из других стран?
– Кшишковяка и Гродоцкого.
– И все? Я смотрю предолимпийские результаты и вижу, что на олимпийские золотые медали должны были рассчитывать и Пири, и Халберг, и Эллиот. В случае удачи могли отличиться также поляк Зимны, австралиец Томас, венгры Ихарош и Ковач.
– Все, кого ты перечислил, могли быть претендентами в глазах журналистов и просто любителей спорта. А у нас сейчас разговор о том, кого я считал основными соперниками.
Начну с конца списка. Шандор Ихарош и Йожеф Ковач ни на что рассчитывать не могли. Их лучшие результаты были показаны года за три до Рима. Обоих я проверил в очных встречах и убедится, что мне они не страшны. Они хорошие бегуны, сильные бегуны, но я знал, что выиграю у них при любой погоде.
Кто так дальше? Томас, Альберт Томас. Извини, но до Рима я о таком даже не слышал. Он тоже, конечно, сильный бегун, но я не подозревал о его существовании, а значит, и не мог считать его своим соперником.
Казимир Зимны. Сильный бегун и очень хитрый. У него был второй результат сезона на «пятерку». Как тебе сказать? Зимны всегда был тенью Кшишковяка, всегда ему проигрывал. По-моему, даже смирился с этой мыслью. А ведь я твердо рассчитывал выиграть именно у Кшишковяка, поэтому было бы странно с моей стороны побаиваться еще и Зимны. Казимир стал опасен позднее. Ушел Кшишковяк, он стал первым номером в Польше, обрел самостоятельность, уверенность в себе. Вот позднее с ним и пришлось нам рубиться всерьез.
О Пири мы уже говорили. Скажу честно, всерьез я его не принимал, несмотря на все его заявления и даже результаты. Знал я, как ломается Пири, если на него плотно насесть.
Эллиот отличный и разносторонний бегун. Он бил мировые рекорды на средних дистанциях. Трудно было представить, что он вдруг решится выступать и в беге на 10 тысяч метров. Да, даже если и выступил бы, то напряжение предыдущих забегов на двух дистанциях неизбежно снизило бы его шансы. А я находился в такой форме, в таком состоянии, что к борьбе со мной за золото на «десятке» нужно было специально и очень серьезно готовиться, забыв о всяких совмещениях. Что же касается Эллиота, то он в конце концов ограничил свое олимпийские выступление только «лолуторкой». И, думаю, правильно сделал.
Остается Халберг. Да, пожалуй, Халберга можно было считать серьезным соперником. Не менее серьезным, чем Кшишковяк и Гродоцкий. Он был единственным стайером, несколько раз выбегавшим из 29 минут. Кроме того, Халберг умел бороться, очень был упорным парнем. И к тому же я ни разу с ним не встречался, не знал его характера, манеры бега.
– А почему ты опасался Гродоцкого?
– Гродоцкий – боец. Я видел, как он рубился с Кшишковяком. Это о многом говорило. Перед самым отъездом в Рим он пробежал 3 тысячи метров за 7.54,2, чуть хуже мирового рекорда.
– Интересно, как пресса оценивала шансы претендентов?
– Чаще всего упоминала Кшишковяка и Халберга. Об остальных тоже говорили, о тех, кого ты здесь назвал.
– А что писали о тебе?
– Тоже называли претендентом. В основном из-за высокого результата, показанного вместе с Артынюком на Мемориале Знаменских. Но Кшишковяка и Халберга все-таки ставили выше. Упрекали меня в тактической незрелости, это из-за проигрыша на матче с поляками. Между прочим, многие зарубежные обозреватели считали меня неважным бойцом. И я действительно нигде не успел отличиться. Рос только в собственных глазах. Логика у тех, кто не верил в меня, несомненно была. Вот смотри: на первенстве Европы я не выступал, на матчах с англичанами, американцами и поляками проиграл, рекордов не устанавливал, ни разу не выиграл ни у Кшишковяка, ни у Халберга, ни у Гродоцкого. Единственное мое достижение – победа над Куцем. Да и то, как выяснялось позднее, он уже прощался со спортом. Но наши в меня верили. Знали, что я умею бороться, и видели, как удачно я вхожу в форму.