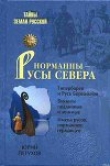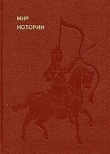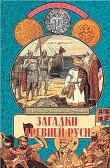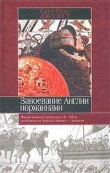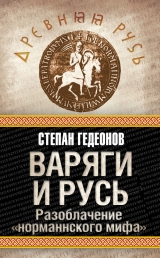
Текст книги "Варяги и Русь. Разоблачение норманнского мифа "
Автор книги: Степан Гедеонов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Остается рассмотреть, на чем основана теория о русском происхождении варангского корпуса.
В приводимых г. Васильевским из истории Афона преосв. Порфирия, из греческой вивлиофики г. Сафы, из византийской истории г. Гопфа и пр. грамотах 060, 075, 079 и 088 гг. варанги и русь стоят рядом и притом без разделительной частицы «или», которой отделяются остальные члены предложения. Отсюда г. Васильевский заключает о равнозначимости в греческом словоупотреблении выражений βάραγγοι и ‘ρώς и о первоначально русском составе варангской дружины, допуская однако же, что скандинавы, которые ушли в Византию в 980 году от князя киевского Владимира, могли поступить в состав корпуса, организованного через восемь лет .И здесь, насколько мне кажется, приметы товарищества двух друг от друга различных народностей произвольно обращены в приметы родства. Судя по воззрениям норманистов на деятельность скандинавов в Руси IX—XI веков, едва ли не придется допустить, что не только норманны, призванные в 862 году, и потомство их, но еще и все вообще скандинавы (шведы в особенности) хозяйничали по произволу в земле восточных славян, приходили на Русь когда и куда им хотелось то малыми партиями, то сотнями и тысячами, отправлялись через Новгород и Киев в Грецию без зова и дозволения русского князя и греческого императора; одним словом, видели в обреченных «на свое любезное земледелие славянах» своих поставщиков дарового провианта, в греках – своих природных банкиров. Этого не было и быть не могло, даже если бы призванные варяги и были норманнами. Из дошедших до нас постановлений договоров: «Приходящей русь да витають у святаго Мамы, и послеть царство наше, да испишють имена ихъ… и да входять въ городъ одиными вороты, съ царевымъ мужемъ, безъ оружья, мужь 50» ,видно, во-первых, что наймом руси у греков распоряжался великий князь киевский; во-вторых, что греки не допускали к себе иноземцев-наемников иначе, как при известных мерах предосторожности. От варягов-норманнов требовалось, разумеется, то же, что от руси. Без дозволения новгородских посадников шведы не могли прибыть в Новгород; без дозволения и посредничества русского князя (конечно, взимавшего с них установленную пошлину) – в Константинополь. Уже при Игоре водились писаные паспорты: «Нынь же уведелъ князь вашь посылати грамоту ко царству нашему: иже посылаеми бывають отъ нихъ сли и гостье, да приносять грамоту, пишюче сице: яко послахъ корабль селько» .На писаную грамоту или паспорта указывают прямо слова варягов Владимиру: «Да покажи нам путь въ греки». Отправленное перед ними посольство имеет характер извинительного (по случаю многочисленности варягов 980 года) объяснения. При этих условиях, то есть, с одной стороны, при выходе варягов из Руси с русской грамотой; с другой, при естественном, почти обязательном товариществе руси и варангов неудивительно, что греки соединяли как бы в один оба корпуса; почти то же делают они и в отношении хазар и фарганов .Иные из византийских и армянских писателей XI века считали, кажется, варангов видом руси; Пселл в рассказе о возмущении Варды Фоки в 988 году указывает, по всем вероятностям, на новоучрежденный в 980 году варангский и Василием к русскому присоединенный отряд. Ни одно из приводимых г. Васильевским свидетельств не оправдывает его предположения, будто бы «сами русские, служившие в Византии, называли себя варягами, принеся с собою этот термин из Киева» .На Руси под именем варягов (будь оно принято в смысле народа или воинов-наемников) постоянно разумеются иноземцы. Никакого особого повода прилагать себе это иноземное, варяжское прозвище не могли иметь те шесть тысяч русов, которые в 988 году состояли на службе у греческого императора. Византийские писатели знают о руси-наемниках в 902, 935, 949, 962, 963 годах; о «работающихъ въ Грецехъ руси у хрестьяньского царя» упоминается в договорах Олега и Игоря; почему же и эти русь не называют себя варягами?
Противно мнению г. Васильевского г. Куник полагает на основании известного места Льва Остийского о гуаланах, что имя «варанг» раздавалось в Византии по крайней мере уже около 950 года. Я думаю, действительно, что под названиями Gualani, Guarani, Guarain южноитальянские летописи понимают варангов; но отсюда еще не следует учреждение постоянного варангского корпуса в Греции до 980 года. Константин Багрянородный, исчисляющий (преимущественно по поводу лангобардского похода в 935 и критского в 949 году) все наемные войска, служившие в его время у греков, знает между ними русов, далматов, мардаитов, фарганов, хазар, мослемов, палермитанцев, турок, армян; но о варягах не упоминает, чего, при его точности, нельзя объяснить ни небрежностью, ни умышленным включением варангов в состав русской дружины .По всей вероятности, Guarani Льва Остийского были варягами-наемниками, посланными с русским отрядом и под именем которым их отличала русь, великой княгиней Ольгой на помощь греческому императору по случаю одного из лангобардских походов, между 950 и 964 годами. По отбывке своей службы, эти варяги возвратились через Русь восвояси. Это явление уединенное, не записанное и забытое византийцами.
Что касается до другого мнения г. Куника, будто бы из русской формы варягне могло, в лингвистическом отношении, образоваться греческое βάραγγος, я замечу, что гг. норманисты вольны не признавать западнославянского происхождения Рюрика и варягов его; для нас слово варягеще долго после призвания произносилось по законам вендской фонетики, varаg, как Святослав Svętosłâv; да и в самом русском наречии IX—XI веков, вероятно, еще господствовал (по крайней мере, отчасти) ринизм общеславянского «я».
От греков приняли скандинавы имя варангов под формой vaeringi – vaeringjar, заменяя греческое – angсвоим северным – ing,а начальное ав слоге βάρ, скандинавским ае. Названию vaeringjar прилагался, кажется, смысл наемников; что этим названием отличались исключительнослужившие в греческой варангской дружине, показано выше. Как в лингвистическом, так и в историческом отношении скандинавские βάραγγοι – vaeringjar представляют разительную аналогию с другой греко-германской дружиной, с так называемыми немицами. И те и другие отличаются в Греции специальным, от славям греками занятым именем; и те, и другие знают это имя только в Греции; ни норманны-варанги, ни германцы-немицы не именуют себя варангами и немицами вне пределов своей византийской дружины. Отыскивать первородную форму варяжского имени у шведов VIII века то же самое, что указывать на греческое ηεμίτζοι как на туземное германское прозвище герулов времен Одоакра.
VI. Вопрос об именах
А) Рюрик, Синеус, Трувор, Олег, Ольга, Игорь, Владимир
Увлекаясь легкостью, с которой всевозможные в мире имена могут быть (хотя бы только и приблизительно) объяснены из богатой до невероятности германо-скандинавской ономатологии, норманнская школа выводит из скандинавского источника все варяжские и все русские имена нашей истории, от Рюрика до Ярослава .Что некоторые из встречающихся в ней неславянских имен, преимущественно в договорах, действительно принадлежат германо-скандинавскому миру (как другие остальным, в ее развитии участвовавшим народностям: литве, угре и т. д.) уже следует из сказанного прежде о тесной связи, бывшей между вендскими славянами и германскими племенами с одной, норманнскими с другой стороны; о составе Рюриковой дружины; о сношениях варяжских князей с норманнами; наконец, из географического положения самой Руси. Но выводить все варяго-русские имена и личности, или хотя большую часть из них из норманнского начала; относить к этому началу имена Святослава, Передславы, Володислава и пр.; видеть одних норманнов в дружинниках и мужах князей Святослава, Владимира, Ярослава; производить от норманнов, по имени, князей явно славянского происхождения по своим действиям и историческому значению, Рюрика, Олега, Игоря, Рогволода; это значит основывать русскую историю не на фактах, не на исторической логике, а на этимологических случайностях и созвучиях. Ни здесь, ни при исследовании других явлений народных историй лингвистический вопрос не может быть отделен от исторического; филолог от историка. А в состоянии ли кто уяснить себе начальный характер нашей истории, когда, с одной стороны, на основании одних ономастических подобозвучий норманнская школа требует от нас безусловного верования в скандинавское происхождение князей и пришедших с ними варягов-дружинников; а с другой, не может указать ни на одну норманнскую особенность в русском праве, язычестве, образе правления, обычаях; ни на одно норманнское слово в русском языке; ни на один намек самих скандинавов на существование у них под рукой громадной свео-славянской колонии? При отсутствии иных, положительных следов норманнского влияния на внутренний быт Руси норманнство до XI столетия всех исторических русских имен уже само по себе дело несбыточное.
Тем не менее, основанные на созвучиях некоторых варяго-русских имен со скандинавскими, этимологические выводы о мнимонорманнском происхождении призванных варягов не могут быть оставлены без ответа. До сих пор исследователи славянской школы не обращали должного внимания на эту сторону занимающего нас вопроса. Одни объясняли норманнский (по их мнению) склад имен варяжских князей и их сподвижников сношениями вендов с германцами, русских славян со скандинавами; но такое изъяснение идет к одним только исключениям в русской истории; распространенное на всю массу варяго-русских имен, оно теряет свое значение и силу. Другие признавали исключительное славянство спорных имен; но, к сожалению, без достаточных доказательств. Или эти доказательства действительно невозможны?
В противность германо-скандинавской, славянская ономатология в том виде, в котором дошла до нас, не отличается числительным богатством имен. С одной стороны, по самому свойству внутреннего организма славянских народов отдельные личности редко являются двигателями народной жизни в славянских племенах; славянские истории знают одних князей и народ. Ни Нестору, ни Козьме Пражскому, ни Мартину Галлу не известна так называемая анекдотическая история; отсюда соответствующая малочисленности исторических деятелей малочисленность в их сказаниях личных славянских имен. С другой стороны, за немногими исключениями истории славянских народов писаны иноземцами, на иноземном языке; они не обращали и не могли обращать внимания на частности .Невыгодность этих условий, с точки зрения ономастических разысканий, очевидна. Сверх того, и в сделанных в последнее время опытах систематической разработки древнеславянской ономатологии, при всей неоспоримой ценности этих трудов, нас все-таки преследует неправильная, а нередко и фантастическая транскрипция выписанных из германо-латинских источников славянских имен.
Напрасно требуют ревнители норманнского мнения от всех славянских имен как определенного смысла, так и непременных славянских окончаний на слав, мир, гость, влади т. д. «Довольно есть древнеславянских имен, – говорит г. Куник ,– у полабов, ляхов, чехов и сербов; у них находим многочисленные примеры древнерусским Ярослав, Яромир (?), Святослав, Святополк, Владимир, Людмила (?) и пр.; у них же должно указать и на соименников князьям Рюрику, Трувору, Аскольду, Диру, Олегу, Рогволоду, Свенке, Игорю, Ивору и т.д.; на имена русских княгинь Ольги, Рогнеди и Малфреди; варяжских воинов и сановников, если кто и впредь еще вздумает отыскивать родину варягов-руси вне Швеции». На основании этих ономастических правил мы должны выключить из славянских историй более половины их деятелей, как представляющих все требуемые условия к подозрению в германо-скандинавском происхождении. Если бы исследователи норманнской школы не состояли под влиянием известных предубеждений, они вероятно бы заметили, что, во-первых, кроме составных прозвищ с окончанием на слав, мир, гость,обыкновенно повторяющихся в известной мере у отдельных славянских родов (как у древних римлян их praenomina), славянская ономатология знает немалое количество простыхимен ,которые, по смыслу,для нас уже непонятны; по форме —нередко удаляются от принятого славянского первообраза; по употреблению,являются и исчезают в славянских историях без повторения (за исключением переходящих в родовые).
Таковы у чехов Čech, Klen, Bech, Heriman, Tetwa, Mun, Tepta, Weš, Chyna, Keien, Česta, Tyra, Porej, Bezprem, Tas, Prkoš, Olen, Čač, Tista, Preda, Chren, Ben, Čuch, Syndal, Nas и пр.; у сербов Жунь, Жань, Бальде, Гатальд, Бранен, Бунь, Мик, Бучь, Мильц, Тольчь, Грдань, Плень, Тусь, Грипонь, Гуня и пр. Или эти имена (я беру только чешские и сербские, засвидетельствованные туземными документами, следовательно, не искаженные) звучать по-славянски более наших Рюрик, Трувор, Игорь, Олег, Дир, Лют, Блуд, Рогволод? Или норманнская школа знает многим из них примеры вне чешской и сербской письменности? Во-вторых, как наша история не Святославами, Всеволодами, Ярополками, так и прочие славянские истории начинаются не Болеславами, Бранимирами, Спитигневами, а являют имена, у ляхов Popiel, Piast, Krak, Leško, Wanda; у чехов Čech, Samo, Krok, Kasi, Teta; у хорутан Валух, Борут, Карат; у хорватов Клюкас, Лобель, Козенец, Мухло, Хрват, Туга, Буга, Порга, Борна, Порин. Почему же и их не считать германо-норманнами? И впоследствии, как у нас, так и у прочих славянских народов имена составные (praenomina, cognomina) редко являются принадлежностью личностей не княжеского происхождения; особенность, как увидим, основанная на известных ономастических требованиях. В-третьих, отозвавшаяся в русской истории вендская ономатология удаляется, более прочих, от обычного склада общеславянских имен; само племя полабских славян состоит по языку, вере, обычаям под влиянием, с одной стороны, литовского начала; с другой, германской (преимущественно сакской) и скандинавской народностей. При сравнительно малом количестве составных имен, обнаруживающих с первого взгляда славянское происхождение, каковы: Sclaomir, Meligastus, Gotzomuizl, Miseco, Praebislavus и т.п., вендская история знает много простых славянских имен, являющих отпечаток, иные – по-видимому, другие – действительно иноземный, преимущественно германский. Таковы у Эйнгарда: Thrasico, Godolaibus, Ceadrag, Borna, Tunglo; у Дитмара: Naccon, Zolunta, Flopan, Connildis, Procui, Deiux; у Адама Бременского: Estred, Gneus, Anatrog, Sederich; у Гельмольда: Billug, Grin, Race, Mike, Rochel. В колбяжском монастыре хранилась следующая надпись с именами шести славян, гонителей св. Оттона: «Nomina eorum qui percusserunt d. Ottonem episcopum Bambergensem cum doceret et baptizaret in Wollino anno 24: Cistemil, Tredegras,Boydan, Knips, Jesse, Golias.Hi sex dant plagas о Otto dive tibi» .
У Саксона Грамматика славяно-вендскими и русскими именами являются: Dagus, Dal, Due, Floccus, Tranno, Rotho, Regnaldus, Scalcus и пр. Если бы вместо Рюрика, Синеуса и Трувора варяжские князья назывались западнославянскими именами: Grin, Borna и Skalk, без сомнения, норманнская школа привела бы в доказательство их скандинавизма своих Grim’oв, Bjorn’oв и Skalk’oв. И наш древлянский Мал попал бы, вероятно, в норманны (от северного Amal), не будь его славянство положительно засвидетельствовано летописью.
Отсюда еще не следует ни невозможность рационального объяснения значительной части варяго-русских имен, ни право для славянской школы оставить вопрос об именах без должного рассмотрения. Разумеется, это исследование может быть основано на законах только славянской, а не скандинавской ономатологии. Известно, и всеми славянскими филологами принято за правило, что большая часть местных славянских имен происходит от личных; на этом основании указывает Шафарик на личные Krak, в именах городов Краков, Кракополь, Краковец; Witorad, в имени города Witorazi (Витраж), ныне Weitrachи т.п .Мы не можем, в угодность невозможным требованиям, исключить из круга наших ономастических доказательств, утвержденных славянской наукой аналогий, ни верить, чтобы между названием города Reric и личным Рюрик не было лингвистической связи, существующей между именами городов Ярославль, Олжичи, Володимер и личными Ярослав, Ольга, Володимер. Не менее странно и другое притязание норманнской школы не допускать к объяснению простых славянских имен тех же имен в их составной форме, т. е. славянских Lutomir, Kasi-mir, Wladi-slaw, к объяснению славянских Ljut, Kasi, Wlad .Дело в том, чтобы ономастические исследования были основаны не на произволе, не на одних, часто случайных созвучиях, а на правилах благоразумной филологии в связи с историческим значением тех лиц, имена которых подлежат нашим разысканиям. Что же до уверенности, с которой норманнская школа полагается на безгрешность своих этимологических выводов, я замечу, во-первых, что до появления в свет исследований г. Куника эта школа основывала свое мнение о скандинавском происхождении варяго-русских имен нашей истории на этимологических изысканиях Байера, представляющих, по мнению Шлецера, настоящий образец благоразумной и ученой этимологии и сравнения имен .Г. Куник не утверждает Шлецерова суждения, а выводы Байера признает крайне неверными и отчасти принужденными. Удерживая только немногие из прежних этимологии, он является с новым, полнейшим (и, должно сказать, несравненно более рациональным и ученым) запасом скандинавских имен; вместо байеро-шлецеровых Alak, Alogia, Askel, Туr, Rotwigda он читает Hölgi, Hölga, Höskuldr, Dýri, Ragnheidr и т. д.; тем не менее в продолжении около полутораста годов мы были обмануты, с одной стороны, крайне неверными и принужденными словопроизводствами Байера; с другой, положительными уверениями Шлецера в их непогрешность, ученость и благоразумие; во-вторых, что в продолжении тех же полутораста годов было принято в число аксиом русской истории, что общеславянские слова боярин, безмен, вервь, верста, луда, огнищанин и пр. происходят от скандинавских boljarl, bismer, hvarf, rasta, lodha, eingandin и т.д. Не могут ли наши Рюрик, Олег, Рогволод происходить точно так же от скандинавских Hraerekr, Hölgi, Ragnwaldr?
Рюрик.В германо-латинских документах средних веков встречаются формы: Roricus, Roric, Rorigo. Вероятно, имя Roricесть сокращенное Roderich;у датчан и у норвежцев оно является под формами Hrorecur, Нrаеrекr (вар. Hraedrekr и Rodrekr); у шведов оно неизвестно. «В древнешведских памятниках, – говорит г. Куник ,– Рерики (die Roriker) встречаются, кажется, не часто; я знаю только одного Стефана Рериксона и одного Анунда Рериксона, двух редакторов древнего сюдерманландского уложения». Для шведского конунга имя Hraerekr так же странно и необычайно, как для русского князя имена Казимира или Прибислава; вследствие чего норманнская школа должна или отказаться от шведского происхождения нашего Рюрика и выводить его уже не из Швеции, а из Дании или Норвегии, чем подрывается все учение знаменитейших корифеев скандинавизма; или же, по примеру, сделанному в отношение к именам варяг и Русь, прибегнуть к изобретению (никакими, даже косвенными свидетельствами не утвержденной) формы шведского имени, которая бы подходила к русскому Рюрик.
Коллар отыскивал этимологию имени Рюрик в чешском raroh, польском rarog = сокол; roryk = стриж; в имени вендского племени рериков-reregi и города Reric (Мекленбург). При отсутствии указаний на историческую и лингвистическую связь между этими названиями и именем Рюрика предположения Яна Коллара, без сомнения, много теряют из настоящего своего значения. Г. Куник отвергает их по двум причинам: ) в древнепольских и древнеславянских именах нет живых примеров имени Рюрик; 2) rarog имя не личное, а название города или птицы; сходство имени Рюрика с названием города Reric и сокола raroh явление случайное.
На первое из этих возражений я мог бы отвечать, что историк, не допускающий славянского происхождения Рюрика потому, что имя его не встречается у прочих славянских народов, должен, вместе с ним, производить от норманнов и князей Sederich’a, Пяста, Крока, Tunglo, Щека, Хорива и т.п., коих имена не только неизвестны у прочих славян, но и в своих собственных историях являются только по одному разу. Но мы не имеем надобности прибегать к этому толкованию. Псковская летопись упоминает о польском воеводе Ририке под 536 г.: «Ририкавоеводу убиша лятцкаго». Имя Рюрика под его основной формой Рерик-Rerich встречается в числе имен древнечешских родов, заседавших на богемских снемах .Оно сохранилось и в горлицком дипломатическом акте 490 года: «Peter Rerigder Stadschreiber» .Если не ошибаюсь, это живые примеры,ничем не уступающие шведским Рериксонам.
Ответ на второе замечание требует исследования более подробного.
Имя Рериков (Reregi) не есть собственно племенное, а прозвище. Как лутичи волками,так оботриты прозывались соколамивследствие особого уважения к религиозному и символическому значению этих животных у той и у другой народности. «Должно заметить, – говорит Шафарик, – что древние славяне и литовцы сражались под стягами, на которых были представлены изображения животных, служивших им религиозными символами; имена этих зверей могли весьма легко перейти на роды или племена, состоявшие под этими стягами. Примером служат кршане, т. е. иллирийцы, обитающие на острове Крке и получившие от изображенного у них на стягах коршуна название Чучей. Не есть ли это ключ к объяснению многих родовых и фамильных имен?»
Орел (или сокол) изображен у Маша на двух фигурах оботритских богов; на прозвание оботритов соколами намекает и скальд Гуторм Синдри, прославляющий короля Гакона за то, что он покорил Зеландию и подчинил себе гнездо вендского сокола.Г. Куник читает по Шафарику .Rarozane и Rarog, вместо Reregi и Reric; но Шафарик употребляет эти формы только в переводном значении; он сам говорит в другом месте: «Мы заметим (о древанском наречии), что многие явления, по-видимому, происходящие от позднейших искажений языка, встречаются уже в наидревнейших источниках и, без сомнения, берут свое начало не столько в иноземном влиянии, сколько в организме и самобытном развитии славянского языка. Я прибавлю, что общеславянское рок, рогявляется у древанского племени под формой rik; так wotrok(отрок) = woatrik;rog (рог) = rik. Формы Рерики, Рерикпринадлежат, стало быть, не германскому искажению, не неведению Эйнгарда, Адама Бременского и т.д., а грамматическим свойствам славянского племени, произносившего рерик(сокол) вместо raroh, rarog. На форму Reric указывает и постоянно одинаковое чтение имени города Reric, Rerich у Эйнгарда; Reric в Annal. Fuldens. et Met. под теми же годами. Ту же форму находим и в названиях впадающей в Одер, под Кенигсбергом, реки Рерик die Rorike и принявшего от нее имя Рерик командорства иоганнитеров, около половины XIII столетия.
Теперь, в каких отношениях состоят личное Рюрик к нарицательному reric (сокол); к племенному Reregi (Рерики); к названиям города и реки Рерик?
a)Брат Рогволода именуется Тур;в Ипатьевской летописи под 208 г. Петр Турович. Другие славянские вожди и князья называются Волками.Имя Соколвстречается между чешскими дворянскими родами. Рюрик (reric – сокол) может быть личным именем, как тур, волк, дятел.
b)Племенному названию драговитповотвечает личное имя вендского князя Драговита. Племенному названию вильцев,личное княжеское Wiltzan. Племенному древане,личное княжеское Древанили Дерван.Племенному рерики(Reregi) отвечает личное княжее Рюрик.
c) Имени города Оногощьотвечает личное Оногость, имя славянина-патриция у греков в 470 г .Имени города Радогощь, личное Радгость. Имени города Olstin, личное Ольстин.Имени крепости Сокол,личное Сокол.Имени города Bezprem,личное Bezpremи т. д. Имени города Reric,личное Рюрик.
d)Названию реки Radogostотвечает личное Радогость.Названию реки Дунай,личное Дунай;реки Днепр,личное Dnepr .Названию реки Pepwc(Rorike), личное Рюрик.
Шлецер упоминает в следующих кратких словах о мнимофризском герцоге Ререке: «В Фрисландии был около 80 года герцог Ререк» .Этот Ререк был не фрисландский герцог, а вендский князь.
Ни в одной из германских летописей не упоминается об убиении Готриком фрисландского герцога Ререка; все, напротив, утверждают, что Годефрид не принимал личного участия в фризском походе .О герцоге Ререке не знает и Саксон Грамматик .Молчание германских летописей тем знаменательнее, что в 80 году собственно фризских князей уже не было; последний из древнего рода их Radbod бежал в Данию после убиения майнцкого архиепископа Бонифация в 754 году ;Фризией же стали управлять германские герцоги от имени императора. Но возможно ли допустить, чтобы германские летописцы (преимущественно Эйнгард), описывающие с такой подробностью поход Годефрида на фризов в 80 году, не знали об убиении им наместника императора?
С другой стороны, скандинавские саги, знающие о датском походе на Фрисландию в 80 году, не упоминают вовсе о предшествовавших ему походах Готрика против оботритов в 808 и 809 годах. Из германских летописей узнаем мы, что датский король с согласия нарочитых оботритских мужей, недовольных своим князем Дражком, вступил, вместе с враждебными лутичами в землю оботритов, прогнал старшего князя Дражка, а младшего повесил, разорил торговый город Рерик, подчинил себе две трети оботритской земли и возвратился восвояси с огромной добычей, но при утрате лучшего цвета своего войска. В следующем 809 году Готрик велел предательски умертвить князя Дражка в его городе Рерике .
Если не ошибаюсь, скандинавские саги соединили в одно два различных происшествия и похода и отнесли к фризам убиение славянского князя Рерика. Главным поводом к этому смешению был тот действительный факт, что при императоре Людовике норманн Rorih (соименник, по созвучию, оботритскому Рерику) держал на ленном праве Дорештадскую волость в Фрисландии. К тому же, исландские писатели беспрестанно смешивают Саксонию (Saxland), Фризию (Frisland) и Вендию (Vindland) .Между народами этих земель существовала действительно тесная связь. В 789 году фризы являются союзниками оботритов против лутичей, союзников датчан .Как датчане с норвежцами, шведы с готами, так фризы приводятся у северных летописцев в связи с вендами .Этому сближению было причиной, кроме соседства обоих народов, славянское поселение в Фризской земле, еще вполне ощутительное в первые годы IX века. Подобные ошибки не редки у летописателей средних веков; как скандинавские саги выдают славянского Рерика за фризского князя, так одни только английские летописцы (первый Флоренций под 029 г.) знают о небывалом вендском князе Виртгорне (Wirtgeorn, rex Winidorum), смешивая вендов с датской землей Wendile .У Саксона Грамматика вместо побежденных Годефридом славян являются не фризы, а саксы: «Gotricus, speciosam ex Saxonibus victoriam referens» .
Теперь, почему убитый Готриком славянский князь Дражко (Драговит) назван Рериком в скандинавских источниках? По всей вероятности, имя Рерик (сокол) было прозвищемвендского Дражка, а город его Рерик был civitas Rerici (у Эйнгарда civitas Dragawiti) как Wiztrach – civitas Wiztrachi; Bezprem – civitas Bezpremi и т.д. Прозвище Рерик могло быть родовым в семействе оботритских князей, родичей нашего Рюрика. Где кралодворская рукопись знает Честмира, воеводу Неклана, Козьма Пражский и Далимил именуют Тира или Стира, конечно, не по ошибке; подобно Дражку-Рерику воевода Некланов носит два имени Cestmir-Styr .Туроц знает имя Безен для Ярослава Святополковича .Как прозвище без имени, так имя употребляется нередко без прозвища; напр., Водовик ,Русалка и т.д.
Замечательно, что с убиением Дражка название Reric исчезает для Мекленбурга.
Синеус.«Snio, Sinnuitr, Signiauter, Siniam, Sune» .Г. Куник останавливался когда-то на форме Signiautr; удовлетворительнее ли она прочих? Насколько мне лично известно, ученый автор призвания родсов причисляет ныне имя Синеуса к необъяснимым ономастическим гиероглифам.
Длугош писал: Scyniew, Sciniew; Стрыйковский – Sinaus albo Syniew. Они думали, без сомнения, о польском имени Сигнев, Сигнав; в польской грамоте 256 г. латинизированное Signeus .
Корень имени Синеус должно искать в прилагательном синий,польск. siny; в Игоревом договоре один из послов именуется Синко ;в грамоте сербского короля Стефана (222—228) встречаются имена: Сина, Чьрнота, Белота: у чехов Besenez Sina;у ляхов Sinochи т. д. Окончание на ус(камень преткновения для скандинавских наречий) не представляется необычайным явлением в славянской ономатологии; у вендов: Blusso ,очевидно тождественное с русским Блус;Vitus ;учехов и моравлян: Мочгус (Mochus); усербов: Тусь и т.д. На Руси: Белоус, Сивоус, Прудыус и т.д. ;река Миус и город Калмиюс .Быть может, Синеус есть ничто иное, как переделанное на русский лад (с окончанием на -ус)западное Синеуш или Синуш ,то есть сокращенное Sineslaw, Sinoslaw (в Анатолии славянский город Синеславль), как Негуш, Драгуш, Длугош – сокращенный Heгoслав, Драгослав, Длугослав. Пример перехода западного окончания на -uczв русское -успредставляет название понизовского города Каluscz;в летописи Калиус.
Трувор, Тривор, Трубер.«Thruwar, Truere, Truve, Trygge, Trygr» .Г. Куник указывает на прозвище thruwar,которым, по свидетельству Саксона Грамматика, отличался один из норвежских воинов, участников в Бравалльской битве .Ho thruwar (слово, не существующее ни в древнескандинавских, ни в древнегерманских наречиях) есть не что иное, как один из обычных Саксону Грамматику евфимизмов, вроде его Regnaldus вместо Rognwaldr, Siritha вм. Sigrid, Syfridus вм. Sigfrid и т.п.; это самое thruwar записано под своей настоящей формой rajugr (treu, верный) в исландском Сегуброте, где и является прозвищем (пропущенного по ошибке у Саксона Грамматика) норвежца Эйнарра. Приводимые г. Куником в объяснение русскому Труворуформы Thrugillusи Thrugotusопять-таки Саксоновы искажения скандинавских Thorgill и Thorgot (у Ад. Брем. Thurgot, имя первого готландского епископа). Остается перед нами, вместо вымышленной Саксоном формы thruwar, только скандинавское prjugr (произн. трюг), в котором едва ли кому из современных лингвистов вздумается признать противень славянскому Трувору. Других, подходящих к Трувору форм, северная ономатология не знает.
Имя третьего варяжского князя является у нас под формами Трувор, Тривор; Трубер .У Длугоша – Trubor, у Стрыйковского – Truwor albo Trubor.
Помещенный в принадлежавшем императрице Екатерине II сборнике XV века Летописец русских царейоканчивается 24 годом; списан он, по всей вероятности, с одного из древнейших экземпляров начального Русского временника .Встречающееся дважды в нем чтение Труберъ может быть отнесено к первородной (вендской) форме этого имени; живой противень этой форме находим в имени известного краинского проповедника Primus Truber (508—586) .То же чтение, под малоизмененной формой Trubor, находим у Длугоша и Стрыйковского; оно не схвачено с воздуха и, без сомнения, указывает на существование в западных славянских наречиях славянского имени Trubor.На Руси вендское Trubor (Truber) переходило в Трувор, как Lutobor в Лютавор и Литавор ;Bores в Ворш и т.д. Впрочем, новгородская летопись читает Раковор и Ракобор, Гравор и Грабор .