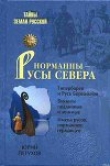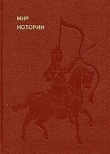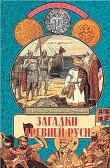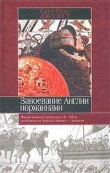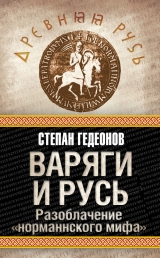
Текст книги "Варяги и Русь. Разоблачение норманнского мифа "
Автор книги: Степан Гедеонов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
При Игоре эти отношения изменяются как по причине завоеваний и постепенно возрастающего могущества и значения варяжских князей, так, без сомнения, и вследствие слияния русских династий с варяжской посредством брачных союзов между представителями прежних княжеских родов и княжнами варяжскими, родными и двоюродными сестрами Олега и Игоря. О существовании этих союзов свидетельствуют упоминаемые в договоре Игоря его нетии, т. е. сестрыничи Слуды и Акун, являющиеся послами, один от самого Игоря, другой от русского князя или боярина Карша. С другой стороны, в числе жен Олега и Игоря были, вероятно, и родственницы, сестры и дочери покоренных русских князей; древляне помышляют о слиянии киевского княжества с Древлянской землей посредством брака Мала с Ольгой. Верным кажется, что из князей-данников около половины X века уже многие уступили Киеву лучшую часть своих волостей (Чернигов и Переяславль еще прежде), при заметной утрате своего княжеского значения; другие обратились в бояр; является нечто вроде двора. Новый порядок вещей явно обнаруживается при сличении Игорева договора с Олеговым. При Игоре уже нет тех светлых князей сущих под рукойОлега, покоренных, но самовластцев в своих княжениях, независимых данников варяго-русского князя. Игоревы послы договариваются: «Отъ Игоря великаго князя Рускаго, и отъ всякоя княжья,и отъ всехъ людш Руския земли» .Являются формулы: «Великий князь Игорь и князи и бояре его». – «Великий князь русьский и бояре его» – «къ великому князю русьскому Игорю, и къ людемъ его» .Нигде Олег не говорит от одного своего имени; греки договариваются и с ним и через него с подчиненными ему мелкими, племенными династами; в основных статьях Игорева договора речь идет только о великом князе, как о единодержавце в земле; прежние князья упоминаются только в формулах; жены их, русские княгини, сопровождают Ольгу в Царьград; как бояре, так и князья имеют своих послов едва ли не ради одного блеска и пышности; новое доказательство раннего образования великокняжеского двора в Киеве. Конечно, не все прежние князья одинаково скоро уступали свои права на независимость и княжение; древляне держат себя вдали от варяжской династии; при Игоре они не участвуют в греческом походе, вероятно, откупаясь данью. С покорением Древлянской земли при Ольге падет сильнейшее независимое словено-русское княжество; Древлянская земля входит в состав варяжской державы. Ольга уже не довольствуется одной данью, как Олег и Игорь; она идет по Древлянской земле, уставляя уставы и уроки; Святослав сажает сына своего Ольга «въ деревехъ», как в своей волости. Род Малов, если не был истреблен совершенно, перешел, по примеру других княжеских родов, в боярский.
При Святославе исчезает самый княжеский титул для потомков прежних князей; в договоре с греками упоминается только о боярах; Святослав говорит от себя: «Азъ Святославъ князь руский». Князья окончательно превратились в бояр; прежние роды исчезли; естественный исторический ход.
Не так, конечно, понимают эти факты представители норманнского мнения. «Рюрик, Трувор и Синеус, – говорит г. Куник, – выселились на восток со своими кровными, родственниками. Кроме Олега к ним, по всей вероятности, принадлежали все те лица, которым Игорев договор приписывает княжеское происхождение. По своим отцам, матерям и мужьям все они могли состоять в близких отношениях к Рюрикову княжескому дому, образуя более или менее древние боковые его линии, из коих иные выводили свое начало еще из Швеции» .Мы видели, что и по мнению г. Соловьева, эти Smakonungar под названием князей сидели в Чернигове, Полоцке, Переяславле, Ростове, Любече и прочих городах. Но подобное состояние новорожденного общества условливает целый ряд явлений, о которых нет даже и намека в нашей истории. Я возражаю:
1. Если эти малые князья были норманны, Smakohungar (Kleinkönige), родичи Рюрика, мы вправе, как и прежде, спросить: почему этих норманнских князей нет на севере при Рюрике, а только на завоеванном юге при Олеге и Игоре? Норманнское влияние должно быть тем ощутительнее, чем ближе к началу государства.
2. На каком праве состояли при Олеге и Игоре эти князья (Smakonungar), родичи их? С норманнской точки зрения, конечно, на ленном; по крайней мере, нет повода предполагать, чтобы норманнские конунги (будь они родичи Рюрика или нет) согласились оставаться в завоеванном ими крае управителями Олега и Игоря, когда те же норманны в Англии и во Франции делят между собой завоеванную землю на участки и наследственные феоды. Но разве русская история знает о делении земель? о наследственных баронах или ярлах Чернигова, Ростова, Любеча? Предполагаемое норманнство малых князей условливает развитие на Руси в высшей степени феодальной системы. Исчезают ли такие явления, не оставя по себе ни памяти, ни следа в народной жизни, в истории? и что же сталось с этими Smakonungar и потомством их после Игоря? При Рюрике их еще нет; при Святославе их уже нет более.
3. Князьями, как сказано, назывались у нас только владетельные; но если допустить, что слова летописи «по темъ бо городомъ седяху князья подъ Ольгомъ суще» относятся к варяжским родичам Олега (Smakonungar), выходит, что Чернигов, Переяславль, Любеч и пр. образовали отдельные княжения, подвластные особым норманнским династам?
4. В предположении норманнской школы, все личности, являющиеся историческими деятелями на Руси от Рюрика до Ярослава включительно, чисто норманнского происхождения. Неужели между ними (я разумею Аскольда, Дира, Ольму, Свенгелда, Люта, Мстиша, Ясмуда, Претича, Блуда и пр.) не было ни одного Smakonung’a – родича варяжских князей? А если были такие, каким образом родство их с княжеским русским домом остается тайной как для Нестора, так и для северных саг? Неужели, с другой стороны, между мнимыми многочисленными князьями-родичами Рюрика, Олега, Игоря, Святослава не было ни одного, чье имя, с обозначением родства его, проникло бы в нашу летопись?
5. При норманнской системе равно невозможны малые князья норманнского и славянского происхождения; в последнем случае отношения туземных династов к норманнам завоевателям и князьям их представляются неразрешимой исторической загадкой. Да и что же станется с норманнскими именами этих князей в Игоревом договоре?
Норманнская школа не имеет права основывать на одних (более чем спорных) подобозвучиях имен, исторические явления которых она не объясняет и объяснить не в состоянии. Свидетельства письменные требуют подтверждения от фактов и наоборот. Навязывать же истории факты огромного политического значения, предоставляя будущим векам их невозможную разгадку, значит писать повесть не того, что было, а того, что могло бы случиться при данных обстоятельствах и условиях.
V. Варяги – Вараггои – Vaeringjar
Имя варягов вне памятников русской письменности является впервые под формой vaeringjar в исландских сагах около 020 года; под формой варанг у Абу-Рейхан Мухаммеда Эль-Бируни в 029; у византийца Кедрина под формой βάραγγοι в 034 году.
Так как слово варяг обличает не собственно русское лингвистическое начало, а между тем известно на Руси уже в IX столетии, т.е. за 50 с лишним лет до первого помина о варягах у скандинавов, арабов и греков, то мы вправе заключить, что оно зашло к нам не скандинавским, арабским или греческим путем; что, стало быть, те варяги, от которых по сказанию летописи вышел Рюрик, были, по всей вероятности, не из Швеции.
Этого заключения норманнская школа допустить не может.
В прежние годы отыскивали скандинавских vaeringjar в федератах IX века и фарганах Константина Багрянородного.
Ныне эта связь порвана.
В своих дополнениях к изысканиям Круга г. Куник покончил с высказанным впервые Стриттером предположением о мнимом тождестве варангов с фарганами .К представленным им вполне убедительным доводам я прибавил указание на приводимое Рейске из Абулфеды свидетельство о восточном происхождении фарганской дружины и на сохранившееся у Нубийского географа известие об азиатской (трансокеанской) провинции Farghana, отчизне этих фарганов .
Фарганов, как известно, считали продолжением псевдоготской дружины федератов, будто бы исчезающей в начале IX века. Но уже Олимпиодор и Прокопий знали о разноплеменном составе этого войска, готского только при начале; г. Куник, отрекшийся еще в 862 году от предположения о происхождении варягов от федератов ,приводит в «Каспие» г. Дорна ,место из Кедрина ,в котором об отряде Федератов, как состоявшем из диких обитателей Ликаонии и Писидии, упоминается под 04 годом, следовательно, современно варангскому корпусу и совсем независимо от него.
Как фарганов, так и федератов следует считать выбывшими из русской истории.
Что же станется теперь с теорией норманнского происхождения варягов?
С последним манифестом норманнской школы по вопросу о зачатках варяжского имени выступил г. Куник в изданных им дополнениях к сочинению г. Дорна «Каспий». Из этих дополнений мы извлекаем следующие положения: под предполагаемой формой waring на древнешведском наречии, разумелись дружинники (ратники, от предполагаемого же древнескандинавского wara = обет, присяга) шведских конунгов; от этого шведского waring, около 850 года или ранее, наше варяг; около 950-го греческое βάραγγος.
Система эта, как видно, зародилась не под влиянием каких-либо новых открытий по части истории варягов, а только вследствие вынужденного отречения норманистов от тех внешних точек опоры, которыми до последних годов они привыкли считать, с одной стороны, мнимую связь норманнских вэрингов с готскими федератами; с другой, мнимое существование у народов готской крови, из среды коих греки по временам набирали наемное войско, соответствующей греческому βάραγγος, но в исторических памятниках не имеющейся и, притом, лингвистически невозможной формы warang.
Об употреблении у скандинавов варангского или варяжского имени нам известно следующее:
1. Оно дошло до нас в норвего-исландских источниках под формой vaeringi (множ. ч. vaeringjar). Никакой другой формы скандинавская письменность не знает.
Отсюда, конечно, еще не следует, чтобы в вопросе, загадочном по преимуществу, норманнская школа не имела права искать подкрепления своим убеждениям в открытой для всех области исторических и лингвистических предположений. Выговаривая это право для себя, мы охотно предоставляем его и другим. Дело однако же в том, что предлагаемая форма waring далеко не отвечает выводимым из ее мнимого существования заключениям. Возможность ее перехода в греческое βάραγγος более чем сомнительна; из waring могло бы образоваться только βάριγγος. В приводимых из византийской письменности примерах мнимого усиления первоначальной основной гласной перед носовой гортанной я вижу только происшедшие от нерадения или произвола переписчиков варианты различных кодексов; то же самое должно сказать и о встречающихся в грамоте 088 г. формах βάραγγοι, κούλπιννοι ;они, очевидно, произошли от таковой же ошибки списывателя, принявшего двойное γγ за двойное νν. Да и самая форма waring не может устоять против дошедшего случайно до нас, в названии острова Väringö (ö = остров) подлинного древнешведского имени Väring. «Väringö, – сообщают мне из Стокгольма, – островок лежащий вблизи от твердой земли, в большом проливе между Стокгольмом и Фурусундом». Название Väringö этот остров, вероятно, получил потому, что служил сборным местом наемникам, отправлявшимся в Грецию для поступления в варангскую дружину; оно вполне тождественно с норвего-исландским vaeringi и доказывает, что подобно норвежцам, шведы X– XI столетия говорили не waring, a vaering. Но от общескандинавского vaeringi = väringi не могли произойти ни русское варяг,ни греческое βάραγγος.
2. В памятниках древнескандинавской письменности о вэрингах (vaeringjar) упоминается не прежде первой четверти XI столетия.
На основании системы, относящей начало (и притом начало русское) варангской дружины в Греции к 988 году, г. Васильевский полагает, что Болле сын Болле был первым норманном (в общем значении этого слова), поступившим в эту дружину около 020—026 года .Если бы даже такова и была мысль записанной в начале XIII столетия Лаксдэльской саги, то все же нельзя основать строгого хронологического вывода на словах: «Nee nobis quidem relatum est, Normannorum aliquem sub Constantinopolitano rege meruisse prius, quam Bollium, Bollii filium». Этими словами доказывалось бы только, что около 020 года учреждение постоянного варангского корпуса в Греции было действительно еще новизной для норвего-исландских слагателей саг, или что здесь говорится о Болле Боллесоне только в смысле знаменитого и по знатности рода известного норманна. Но должно заметить, что там, где издатели Лаксдэльской саги по рукописям Арна Магнусона читают nordmadr ,в тех рукописях, которыми пользовался Эрихсен ,стояло несравненно вероятнейшее Islendskr madr; к тому же вся та часть саги, к которой принадлежит история Болле Боллесона, почитается позднейшим и весьма сомнительной достоверности ее дополнением .Что норманны ездили в Грецию для поступления на императорскую службу задолго до 020 года, исторический факт, основанный не столько на положительных свидетельствах ,сколько на том логическом выводе, что при постоянных сношениях норманнов с Русью IX—X века (будь эта Русь скандинавского или славянского происхождения), почти немыслимо, чтобы некоторые из них не доходили до Киля и, по примеру своих союзников или (как думают норманисты) однокровников, не служили наемниками в византийских войсках. Только, как вместе с тем следует признать не менее положительным фактом и позднее учреждение в Греции варангского корпуса и позднее упоминовение в памятниках древнескандинавской письменности об имени вэрингов (vaeringjar), то этих норманнов, греческих наймитов в IX—X веках, придется искать не под варангским, а под другим именем .
3. Вэрингами у норманнов назывались только служившие в варангском корпусе в Греции.
До сих пор это положение, утвержденное на бесчисленных, вполне достоверных свидетельствах, считалось исторической, всеми принятой, аксиомой .Г. Васильевский старается подорвать его указанием на мнимое употребление Гейдарвига – сагою названия vaeringjar для обозначения и тех норманнов, которые служили варягами у русских князей. Вига-Барди, рассказывается в этой саге, изгнанный судом из своей исландской родины, после долгих скитаний «прибыл в Гардарики, и сделался там наемником, и был там с вэрингами, и все норманны высоко чтили его и вошли с ним в дружбу». Это свидетельство имело бы цену, если бы дело шло о временах Олега, Игоря, Святослава; как вошедшее в народное предание или сагу не менее сорока лет после учреждения варангского корпуса в Греции, оно может быть отнесено только к варангам в Византии или к норманнам, возвращавшимся на родину из Греции через Русь по отбывке своей варангской службы. На Руси все норманны слыли варягами; между тем сага именно отличает Вига-Барди от вэрингов (как при начале Гаральдова сага Гаральда Гардреда), указывая только на его сообщество с ними; значит (если даже и допустить, что дело идет собственно о Руси), сага думала не о русских варягах, а о греческих варангах. Да и какой вес может иметь уединенное свидетельство Гейдарвига саги, при отсутствии во всех остальных, имени вэрингов для норманнов, служивших наемниками у русских князей? «Если где-либо, – говорит Сенковский, – то в этой (Эймундовой) саге, слово варяги, vaeringar или vaeringiar долженствовало бы встречаться на каждой странице, потому что повествователи сами служили здесь в звании варягов, сами исполняли их должность; к удивлению, оно нигде не встречается и кажется им неизвестным» .Уже Байер говорил с тем же выражением изумления: «Inauditum apud hos piratas nomen varegorum» .Слишком часто приводимая норманистами ссылка на недостаток шведских источников IX и X столетий здесь не у места; исландские саги рассказывают с возможными подробностями о пребывании именно на Руси (и нередко по найму русских князей) своих норвежских выходцев Олафа Тригвасона, Магнуса, Эйлифа, Рагнара, Эймунда и пр.; но варягами (вэрингами) их не называют.
Норвежцы Гаральд и Эйлиф служат у Ярослава в качестве оберегателей границ ;для Руси они варяги как по народности, так и по служебному званию; но сага признает за Гаральдом имя вэринга только со дня его поступления в варангскую дружину, в Константинополе .Допустить ли, что варяжским именем на Руси отличали себя одни только шведы; норвежцы же и датчане, отправлявшие вместе с ними варяжскую службу у русских князей, варягами себя не называли, сберегая это имя (под формою vaeringjar) только для тех из своих соотчичей, которые служили наемниками в варангской дружине греческих императоров? Я не думаю, чтобы это предположение могло расчитывать на большое сочувствие в ученом мире.
Позднее и вместе с тем одновременное появление варяжского имени у греков и у норманнов понятно только при следующих условиях: а) варяжское имя водворилось у греков вследствие учреждения в Греции, при посредничестве Руси, особого, постоянного норманнского корпуса варягов-варангов в последние годы X века; b) норманны приняли от греков имя варангов под формой vaeringjar и обозначали этим именем только служивших наемниками в варангской дружине.
Откуда же на Руси имя варяги какое имеет оно значение?
Это имя кажется не коренное русское. По причинам, о которых ниже, я не могу вполне согласиться с мнением тех ученых ,которые приписывают исключительно иноземное, преимущественно германское происхождение всем словам славянских наречий, заканчивающимся суффиксом -ang; относительно русского языка оно, в известной степени, основательно.
Но непосредственных сношений с германскими народами дорюриковская Русь не имела. Остается предположить (и с этим предположением вполне согласна и историческая вероятность), что подобно тому, как слова szelаg и sterlаg перешли к нам от германцев польским путем, слово varаg, германское по своему корню, занесено к нам с варяжского (балтийского) Поморья господствовавшими на нем славянскими племенами.
В др. верхнегерманском наречии wari(Wehr) оборона; warjan,готск. varjan(wehren) оборонять; отсюда и Wehrв смысле оружия. С другой стороны, в сохранившемся в трех редакциях вендском словаре Геннига (по списку Гильфердинга) имеется:
Ped. I. Degen – Warn. Schwerdt – Warang, ward. Wehren, sich wehren – Warrjoissa.
Fed. II. Degen – Warow, Warang. Auf dem Degen – No wdra. Schwerdt – warang, warov, Wehren, sich wehren – warryjoyssa.
Ped. III. Degen – Ward, accus. Warang. Auf den Degen – no wara. Schwerdt – warang, ward. Wehren, sich wehren – warryoissd.
Что warnесть не что иное, как древнегерманское wari(Wehr), несомненно ;но warang? У Геннига warangпротивополагается warо,как меч шпаге; по другой редакции, оба слова признаются однозначащими: по третьей warangоказывается винительным падежом warn.Как видно, показания вустровского пастора довольно неопределенны. О винительном падеже warang(wara-варя) при именительном warодумать нельзя; warang(wara) могло бы быть винительным падежом только (мужск. рода) слова war’-варь (срвн. царь, царя и т. п.), если бы дело шло о существе одушевленном; при обозначении неодушевленных предметов мужского и среднего рода винительный падеж не разнится от именительного. Г. Шлейхер объясняет warä(warang) уменьшительным от warо;но средние уменьшительные на ятакже исключительная принадлежность одушевленных существ (напр., теля, куря, ягня); приводимые мнимые примеры противного нимало не убедительны. Скорее можно бы предположить особую форму варя (срвн. имя, пламя, буря, тля); но что же станется тогда с другой, однозначащей формой warо?
Грамматическая правильность производства русского варягот живого, по всем законам славянской лингвистики составленная, у Геннига буква в букву записанного вендского varаg – warang,неотрицаема; естественность этой этимологии особенно заманчива в виду тех невероятных истязаний, которым ревнители норманизма подвергают скандинавские языки и истории в тщетной надежде вымучить у них нечто подходящее к вендо-русскому varаg-варяг, ксловено-русскому Русь.В этом отношении норманнская школа оказала существенную услугу русскому делу; каждая новая, не удавшаяся ей попытка разъяснения основных пунктов вопроса умаляет в значительной степени веру в непогрешимость ее положений; между тем, при настоящем состоянии науки выбор предоставляется едва ли не исключительно между шведским и вендским происхождением варягов; между шведским и словено-русским происхождением Руси. Эта-то необходимость выбора и упрочивает за не слишком богатой письменными свидетельствами (в особенности историческими памятниками вендского края) славянской теорией строго научное значение.
Как норманны понимали норманно-вендских пиратов под общим именем viking’oв, так, по всей вероятности, вендо-германские слыли в Помории под общим названием varаg’oв (меченосцев, ратников). О постоянных союзах вендов с норманнами в деле морского разбоя .В этом смысле – пиратов-воинов (при том почетном значении, каким, в свое время, отличаются равносильные варяжскому названия гуцулов, казаков и т.п.), перешло слово varаg от балтийских славян к восточным; под этим названием стали они разуметь всех вообще балтийских пиратов, были ли они шведы, норвежцы, оботриты, маркоманны-вагиры и пр. Это первоначальное значение варяжского имени никогда не исчезало совершенно в русских понятиях; в книге о древностях Рос. государства упоминается о варягах (разбойниках), живших еще до основания Киева на берегах Теплого (Черного) моря ;в сказании о Мамаевом побоище князь Дмитрий Ольгердович говорит о собранной им (против венгров?) дружине: «Божиимъ промысломъ совокуплени быша иные люди, брани деля належащия отъ Дунайскихъ Варягъ». В Никоновской летописи под 379 г. варягами названы, кажется, литовские ратники: «Князь Ягайло Литовский… совокупилъ литвы много и варягъ,и жемоти, и прочее и поиде на помощь Мамаю царю». Полабское varаg отозвалось и в польском названии местечка Warаzв Галиции .Словом варяжаобластной архангельский говор обозначает заморца; заморье, заморскую сторону .
Сами венды себя варягами, в этническом смысле, не называли; это имя, как уже сказано, было походным, подобно имени viking; в русской летописи (то же самое должно сказать о договорах, о Русской Правде, О похвальном слове митрополита Илариона) нет и следа, чтобы первые русские князья считали себя варягами или от варяжского рода. У восточных славян слово varаg вскоре перешло из нарицательного в географическо-народное, в смысле имени франк на востоке; им стали обозначать все те народности, от которых выходили балтийские пираты-варяги. Многозначащие в этом отношении слова летописи: «Ти суть людье ноугородьци отъ рода варяжьска» .Голый факт, засвидетельствованный этими словами, тот, что еще в Несторову эпоху новгородцы похвалялись если не прямым варяжским происхождением, то родством с варягами; отличались от прочих русских племен варяжскими особенностями своего быта. Этих слов Нестор не мог бы написать, если б они не были, в самом деле, выражением основанного на верных преданиях и приметах, народного убеждения. Теперь, были ли эти новгородцы-варяги скандинавского происхождения? Тогда пусть нам укажут на следы норрены в новгородском наречии; на следы Одиновой веры в новгородском язычестве; на скандинавское начало в праве, обычаях, образе жизни древнего Новгорода. Если же норманнская школа не в состоянии удовлетворить этим более чем справедливым требованиям исторической логики (а что она не в состоянии, мы уже видели), остается допустить, засвидетельствованный и фактическими доказательствами западнославянский характер новгородского варяжства в IX—XII веках. Это варяжство Нестор относит к влиянию именно тех дружинников, которые пришли вместе с Рюриком; но трудно предположить, чтобы в 7-летнее княжение Рюрика (княжение, как известно, ознаменованное не совсем дружелюбными отношениями новгородцев к пришлым варягам) Новгород мог сделаться варяжской землей (когда и Киев не назван варяжским у Нестора), да еще в том, до невозможного преувеличенном размере, о котором свидетельствует летопись: «Преже бо беша словени». Рюрик привел с собой не более трех-четырех сот человек; призывавшие князей племена не разрешили бы им дружины, которая при составе более многочисленной могла бы немедленно сделаться господствующей силой. Но под влиянием ли этих 300—400 человек оваряжилась Новгородская область в течение нескольких лет? Всего естественнее предположить, что еще до Рюрика (и не позднее половины VIII столетия) колония вендов, быть может, тех маркоманнов, поселилась в Новгороде; у туземцев они слыли под общим названием варягов.
Такова, по нашему разумению, была история варяжского имени до второй половины IX века; таковы исторические события и особенности, с которыми мы имеем сообразить дошедшие до нас в летописи и во многом уже против прежнего изменившиеся понятия Нестора о варягах.
О судьбах варяжства и варяжского имени после призвания, независимо от воззрений самого летописца, должно заметить, что, если его сильно занимают варяги (и потому, что Рюриковичи были от варяжского рода, и вследствие того значения, какое получило варяжское имя по учреждении в Греции дружины варангов), то собственно русских людей X века они мало интересовали. Варяжские князья, утвердившие свой стол в Киеве и выселившиеся с ними поморские дружинники, стали русью; варяжские наемники, приходившие в Русь по редкому зову князей, были явлением случайным, мало заметным в русской жизни; варягами русь себя никогда не называли. Вот почему, идущие от Руси известия арабских писателей о варягах начинаются не прежде второй четверти XI столетия, то есть с того времени, когда поездки норманнов в Киль усилились до того, что, по вестготскому закону, никто из сидевших в Греции не мог пользоваться правом наследства в Готландии ,а имя варангов приобрело особый почет и известность (даже в самой Руси) как отборного византийского войска. Если бы основателями государства в 862 году были так называемые варяги-русь (норманны); если бы эти норманны прилагали себе всегда и везде название варягов (waring); если бы, наконец, известия арабов о варягах шли от норманнов ,было бы совершенно необъяснимо, почему варяжское имя не отозвалось в сочинениях Ибн-Даста, Ибн-Фоцлана, Масуди и других писателей X века, так подробно рассказывающих о Руси, как с 029 года оно отзывается у Бируни, а за ним у Ибн-Эль-Варди, Димешки и пр. Ясно, что только с водворением варяжского имени в Греции оно проникает через Русь и на Восток; но отсюда и двоякий характер арабских известий о варягах. С одной стороны, под названием варангов арабы понимают уже одних скандинавов; в самом деле, с принятием христианства сношения Руси с вендо-варяжским Поморием должны были прекратиться; при Ярославе варяги состоят исключительно из норманннов. С другой стороны, в тех же арабских известиях передаются не скандинавские, а коренные русские понятия о варягах. Варангами называется народ,Варенгским – море.У норманнов Варяжское море – Ostersalt; варяжский путь – Austurweg; вэрингами (vaeringjar) именуются только состоящие в греческой службе. Но не могли же норманны вместо своих собственных передавать арабам словено-русские понятия о варягах.
Мы читаем в летописи под 944 годом: «А хрестеяную русь водиша роте въ церкви святаго Ильи, яже есть надъ ручаемъ, конецъ Пасынъче беседы и Козаре: се бо бе сборная церкви, мнози бо беша варязи хрестеяни». В этих словах г. Куник видит доказательство отождествления летописью руси и варягов. Мне кажется, они свидетельствуют о противном. Выражение «сборнаяцеркви» прямо указывает на церковь св. Ильи (без сомнения, единственную христианскую в Киеве), как на общую руси (туземцам) с варягами (иноплеменниками). Русских христиан в 944 году было, конечно, немного; Святослав говорит еще в 955 году: «Како азъ хочю инъ законъ прияти единъ?» По всей вероятности, церковь св. Ильи построена крестившимися в Греции варягами. Русинами не называет летопись и варягов-мучеников при Владимире; но об Ольге, как о русскойсвятой, восклицает восторженно: «Си первое вниде въ царство небесное отъ Руси,сию бо хвалятъ Pycmиeсынове, аки началницю: ибо по смерти моляше Бога за Русь»;то же самое о святых Борисе и Глебе .Я уже не говорю о том, что против исключения из числа присягавших Игоревых людей всего славянского элемента его войска, равно протестует и летопись, и история.
Я высказал еще в 862 году предположение о зачатке варангского корпуса в Греции в 980 г., как состоящем в прямой связи с поступлением в греческую службу отправленных Владимиром к императору сварливых варягов-норманнов .В монографии, впрочем в высшей степени замечательной, как по верности научной оценки скандинавских саг, так и по собранным в ней новым известиям и данным о значении и составе греко-варангского корпуса, г. Васильевский относит начало варангской дружины к 988 году, а первыми варангами считает тот шеститысячный русский отряд, который был послан Владимиром на помощь императору Василию. Против моего предположения г. Васильевский приводит, с одной стороны, свидетельство Лаксдэльской саги о Болле Боллесоне, как о первом норманне, вступившем в военную службу к византийскому императору; с другой, то обстоятельство, что на основании этого (моего) предположения пришлось бы допустить, что император не послушался совета Владимира: «Не мози ихъ держати въ граде… но расточи я разно» и т. д. Слова Лаксдэльской саги, как сказано выше, относятся, по всей вероятности, к одним исландцам; данного ему совета император послушался наполовину. Варягов в градне пустили; в градене держали; еще в 034 году, при первом помине о варангском корпусе, он квартирует в отдаленном фракисийском феме в Малой Азии. Менее удобоисполнимой оказалась вторая половина совета (быть может, изобретение самого летописца); норманны не дали бы себя расточить по два и три человека, кого в хазарский, кого в фарганский, кого в армянский отряд. К тому же сила и ценность варангской дружины состояла в ее совокупности; норманны имели свое оружие, свою тактику, свою сноровку в битвах; все эти выгоды исчезали при расточении их по другим войскам. Не могла, наконец, и греческая империя бояться переворота от горсти, в отдаленную провинцию Малой Азии отправленных норманнов, когда эти самые норманны не смели противостать Владимиру, «сольстившему ими» и вдобавок выгнавшему их из Киева.