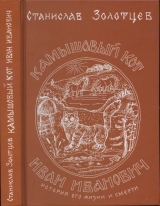
Текст книги "Камышовый кот Иван Иванович"
Автор книги: Станислав Золотцев
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
7. РОКОВОЙ ПРЫЖОК
…Николаю оставалось уже всего ничего до отправки на призывной сборный пункт.
Уже он укоротил в районной парикмахерской буйные свои кудри, оставив короткий непокорный ёжик. Уже собран был рюкзак со всеми предписанными и необходимыми вещами. Уже и Тася ежедневно ходила с мокрыми глазами. И присмирели, перестав устраивать свои словесные потешные баталии, Вера с Федей. Грустно им стало от надвигающегося и неотвратимого расставания со старшим братом, добрым и надёжным.
Сам же Коля к будущей воинской службе относился не то что бы со светлыми надеждами, но без страха, спокойно. Можно сказать, даже и с некоторым интересом. Конечно, ему известно было, что в армии теперь мало порядка и много безобразий, и что, скорее всего, придётся там ему, по крайней мере, в первое время не очень сладко… Но, во-первых, то же отсутствие порядка и множество всяких безобразий паренёк видел и вокруг, в повседневном сельском бытии. «Бардак» – это словцо стало обиходным именно в первые годы его осмысленной жизни, так что ко всяческим раздраям и непорядкам ему было не привыкать… Кроме того, старший сын Брянцевых не очень осознанно, но всё-таки верил в себя. Знал, что себя в обиду не даст нигде и никому. Как тем же четырём городским парням во время последней встречи с неверной райцентровской девчонкой, – крепко ему досталось, но с ног его не сбили…
Наконец, Николай знал: служил и воевал его отец, был офицером и воевал в великой войне его дед, и другой дед тоже, а уж его легендарный прадед и вовсе с трёх войн возвращался и с крестами, и с орденами на груди. Так что ни на миг никакие мысли об увёртывании от воинской доли его не посещали. Городская мода «косить» от армии с помощью всяких болезней, прежде всего мнимых, да комитетов сердобольных матерей – ещё не докатилась в тот год до талабской губернии. И Николай, в общем, без грусти смотрел на своё армейское будущее. Не говоря уже о том, что, как всякому молодому, ему хотелось повидать иные края, чего он, как главный помощник отца в его механизаторских делах, пусть и по своей воле, но не мог сделать… Самые же чёрные думы – о том, допустим, что он попадёт в какую-либо «горячую точку», где его могут убить или покалечить – его почему-то вообще не посещали.
Л вот его отец с каждым днём становился темнее тучи. И было с чего… Каждый день и радио, и телевизор несли самые чёрные вести о каких-нибудь непотребствах, творящихся в армии, на флоте и в пограничных войсках. Ваня уже не верил почти ничему из того, что нёс «ящик», рад бы был не верить и этим кошмарам, – но уже немало ребят из Старого Бора и окрестностей, отслуживших срочную в последнее время, возвращались домой с искалеченными телами и душами. Да что далеко ходить: вокруг Талабска дислоцировались уже с давних пор несколько прославленных авиадесантных частей, и уже все талабцы знали, в каких бедованиях живут и служат офицеры и солдаты этих элитных полков и дивизий. А с недавних пор само приозерье стало приграничным, и горькой мукой было видеть ребят в зелёных фуражках, мёрзнущих зимой в землянках и развалюхах на своих новых заставах… Черно от всего этого на душе было у сельского механизатора, недавнего «афганца» и танкиста. Не любил Ваня Брянцев, как все простые русские люди, громких слов, но понятие «армия» для него было поистине святым. И что же теперь? Сыну идти в армию, долг исполнять, а у отца от этого тоска в глазах… Ну, времечко!
А самое главное – в последние недели перед Колькиным призывом у всех на устах и на слуху только и стало, что замятия на Кавказе, мятежная Чечня. Новой кавказской войной пахло… Вот и ходил старший Брянцев темнее тучи. Дома-то он держался, а вот на работе, особенно с Веней Кругловым разговаривая, так выплёскивался, что закалённый зековской жизнью Шатун всерьёз начал тревожиться за своего старого кореша и порой начинал утешать его, как бывало в детстве: «Ванька, Ванька, ну-ка, встань-ка, боли – не боли, а поле поли, боли – не боли, а дровы коли!» Как ни странно, от этого дурашливо-шуточного присловья их мальчишеских лет Ваня Брянцев немного успокаивался. Но ненадолго.
– Мы-то с тобой, Веньямин, когда служили, так знали, за что голову можем сложить. Врут сейчас, будто в Афгане мы того не знали – ещё как знали: не покончим с «духами», так они к нам, в Союз хлынут. Так оно и получилось, бляха-муха, вот они все юга наши нойма искровенили и дальше лезут. Не, знали… Государство, власть – то верно, много дуроломства было. Да всё ж власть была, какой-никакой порядок был. И армия была что надо… А теперь – куда их, как баранов, погонят? А, главно дело, за что, за какую власть?! Как в прошлом годе, что ль, в Москве осенью – по своим же стрелять да танками давить? Не дай Бог!..
Не, Венька, я не к тому… Вес Брянцевы погоны носили, и Колька через армию должен пройти. Без этого парень мужиком не станет. Под мамкину юбку, или, как ты там говорил, в бега канать – я ему сам не дал бы, да и не такой он у нас. Это мы с жёнкой дёргаемся, а он хвост трубой держит, ровно Ван Ваныч свою камышину… А всё одно – горько, тошно, часом так просто погано на душе!
Так отводил отец призывника душу со своим другом. Тут надо заметить, что Шатун разговаривал и с Ваней, и с другими людьми, уже не пересыпая свою речь лагерной «феней». На исходе второго года жизни и работы в родной деревне зековский налёт стал понемногу сходить с него, словно полая вода с заливного луга, открывая опалённую, но почти детскую в своей доброте душу бывшего увальня… Зато в говоре Веньки появилась иная крайность. В последние месяцы сильно увлёкся бывший «афганец» и бывший зек чтением Ветхого Завета, Евангелия и других книг православных, во множестве обнаруженных им в комоде покойной матери. Не часто, но всё же стал похаживать в село Дворец, находящееся верстах в двух от Старого Бора, в дивный древний храм, твёрдостью каменных стен своих обязанный тому, что его не порушили ни войны, ни атеистические лихолетья… Вот и зазвучали в речи Шатуна церковно-славянские глаголы и обороты – поначалу вперемешку с лагерными словечками. И на горькие откровения своего друга Вениамин порой отвечал примерно так: «Всё в Воле Божией, Ваня. А Бог – не фрайер!»
Однако едва ли не сильнее двуногих обитателей брянцевского дома печаловался о скором прощании с Колей наш камышовый герой. Как могло стать ему ведомо, что именно старшему сыну Вани и Таси предстоит вскоре надолго покинуть отчий кров – это тоже остаётся тайной, достойной, чтобы её разгадывали лучшие умы бионики и парапсихологии. Но, так или иначе, а суровейший, словно древний римлянин-воин (сравнение, прозвучавшее однажды в устах Федюшки), Иван Иванович стал просто ластиться к Николаю. Частенько он подходил к нему и, подобно обычному домашнему коту и против своего прежнего обыкновения терся о его ногу и довольно жалобно мурлыкал.
Такое необычное поведение гордого патриция семейства кошачьих стало приводить в ещё большую печаль семейство Брянцевых. Особенно – Тасю. «Ой, не к добру это!» – то и дело говорила она, глядя на впадающего в меланхолию кота…
Тут справедливости ради надо упомянуть и о другом четвероногом друге брянцевского семейства – о Малыше. Эта подросшая лайка тоже, видно, почуяла призрак возможной беды, дух печали, воцарившийся в доме. Завидев Кольку, Малыш тоже подбегал к нему, прыгал на грудь, вилял хвостом, повизгивая и поскуливая. Тут собака и кот проявили редкостную солидарность в чутье… Окончательно же добило всех поведение Ивана Ивановича вдень перед отправкой Николая на сборный пункт в район.
Вечером того же дня в доме Брянцевых устроена была «отвальная», на которую собралось множество родственников и друзей семьи… Кто помнит ту осень, тот помнит: она была невероятно тёплой почти по всей России, и даже у нас, на холодном и сыром в такую пору северо-западе, стояла удивительная теплынь. Потому и на дворе брянцевской усадьбы было поставлено несколько столов с угощением: в доме, где застолье заняло и горницу, и кухню, все гости просто не поместились бы. А во двор мог зайти любой житель Старого Бора, чтобы, крикнув в раскрытое окно – «Ну, чтоб тебе служилось, Николай!» – пропустить в себя рюмку-другую. Правда, Тася, вздыхая, говорила мужу, что ведь двумя рюмками и даже тремя их односельчане, особенно мужики, никогда не ограничиваются в таких случаях, но Ваня с горделиво-радушной небрежностью отмахивался: «Пущай!.. Меня ещё и не так провожали: два дня весь Старый Бор гулял, хоть маленько то застольное время вспомним…» Федя поправлял отца: «Застойное время, папка, застойное». Тот кивал: «А я про что и говорю – застольное…»
Но началось то застолье совсем не сразу после прихода гостей. Когда все уселись, когда отец завтрашнего воина уже хотел громко попросить Степана Софроновича как одного из самых уважаемых в округе людей произнести первый напутственный тост, произошло нечто совершенно непредвиденное.
Иван Иванович нежданно прыгнул на стол! – но вовсе не затем, чтобы чем-либо полакомиться…
Он повернулся к только что севшему за стол Николаю и уставился ему в глаза.
И никто не в состоянии был прогнать кота – все просто оцепенели от происходящего… Тогда призывник сам решил устранить возникшее за столом напряжение: надо же было начинать «отвальный» пир. Он протянул руки к Ивану Ивановичу и погладил его по голове и по спине, чтобы затем бережно удалить любимца семьи со стола на пол.
И тут все увидели, что из ставших совсем огромными жёлто-зелёных глаз камышового кота льются слёзы!..
Этого Тася вынести уже не могла. Она заголосила, по-бабьи завыла, и сё пришлось увести в спальню. Но и оттуда слышались её рыдания взахлёб, перемежаемые громкими истошными выкриками: «Ой, на смерть сыночка забирают! Ой, да на погибель Колюшка мой уходит! Ой, Ванечка, не отпускай его! Ох, тошно мне! Ох, Коленька, не уходи!»..
Вслед за матерью призывника заплакали, заголосили, запричитали и завыли другие женщины, собравшиеся в гости. Немало смущёны были и мужики, кое у кого из них на глазах тоже выступили слёзы. И видно было, что сквозь бурый «вечный» загар на лице Вани Брянцева проступает смертельно-меловая белизна. Его губы прыгали, он часто моргал, он не знал, что сказать и что делать, мечась меж спальней, где в рыданиях билась жена, и гостями… Взахлёб заплакали и Федя с Верой. Вдобавок, во дворе раздался громкий вой Малыша, и глухо подвывала сыну стареющая Джулька. Правда, сам виновник торжества, готового развалиться в слёзном хаосе, сам Николай, хоть и был потрясён, хоть и хлопал глазами, но плакать не собирался, – напротив, он лихорадочно соображал, что именно надо предпринять, чтоб не дать дальнейшего ходу этому замешательству, чтоб застолье всё-таки началось. Но тут ему и подоспела помощь, столь же неожиданная, сколь нежданным было вторжение камышового приёмыша в эту «отвальную»…
Внезапно этот многоголосый разнобой рыданий, причитаний, охов и ахов был буквально проломлен и заглушён громовым стуком пудового кулачища об стол.
Стук был таков, что со стола посыпалась на пол посуда, а на столах, стоящих рядом, затряслись и попадали на скатерть бутылки, рюмки, стаканы и графины. То грохнул кулаком по столу Веня Круглов!
Грохот был тем более внушительным, что бывший зек ещё и топнул могучей ногой по полу, отчего звякнули стёкла в окнах горницы…
– Ма-ал-чать, сявки! Ша, салаги! Слушать сюда-а! – раздался его оглушительный голос. Но вослед за этими восклицаниями послышалась уже речь не бывшего заключённого, а бывшего «афганца»:
– Мужики! Встать! Сми-и-рна-а! Слушать меня!
Все и впрямь замерли почти мгновенно, ошеломлённые силой этого грозового голоса. А ещё более – тем, что Венька Шатун, за все два года, которые он прожил в Старом Бору, вернувшись издалека, Венька, ни разу ни на кого не повысивший голоса всерьёз и ни в чём предосудительном не замеченный, – вдруг вот так да проявил себя! Смолкли все, даже Тася в спальне…
– Вы что, мужики! Ты что, Иван! Вы что, бабы – охренели, с ума сошли?! Парню завтра в армию, оружие в руки брать, вас оборонять – а вы его как провожаете?! Да где стыд у вас, где совесть? Вы что, на поминки собрались?! Да как вы можете так парня в армию-то провожать…
Иван, ты вспомни, мы с тобой когда оба раза уходили – нас что, так провожали? Да разве б мы с тобой в Афгане выжили, ежели б нам на дорогу столько соплей да воплей мать-отец да сельчане сыпанули… Ежели б таким воем благословили… Да хрен! А ну, Ванька, веди Таисью, подымай её…
Вот, встань, Тася, возьми рюмку да проводи сына по-матерински, словом добрым, а не бабьей глупостью. Ты помнить должна, ты верить должна, что Колька живым воротиться! Вот, как моя матка верила – так вот я и вернулся. Через десять лет, посля тюрьмы – да воротился… Пришёл к ей на могилку и сказал: я пришёл, мать, тута я, к твоей и отней могилке вернулся и отсюль никуда не сдвинусь. Тут жить буду, где вы меня взростили…
Эх вы, мужики! Кого спужались – кота? Так он тварь бессловесная, хоть и ума палата, а сказать-то ничего не может, вот и прослезился… Ну, а вы-то – люди аль нет?! Вам Господом Богом зачем дар словесный даден?!
А ну, земляки, рюмки в руки, выпьем за возвращение воина русского, раба Божьего Николая во здравии духовном и телесном! За тебя, Николка, – воротишься жив-здоров, это я тебе говорю!
Вот те крест, лады всё будет! Вот век воли не видать, сукой буду – вернёшься!
За тебя, Коля!
…Думаю, вы сами понимаете, что после такого всплеска ораторского искусства, после такой громовой застольной речи, особенно после её церковно-зековского финала – застолье не могло не наладиться.
И часа четыре сидели многочисленные гости в доме Брянцевых уже без всяких слёз. А потом застолье выплеснулось во двор, где на столах всё уже было дочиста выпито и почти дочиста съедено (Тася права оказалась), и плясали староборцы кто подо что – и под баян, и под кассетные записи. И даже мать призывника, отойдя от слёз, «выдавала» то кадриль и вальсы со стариками, то нечто среднее между шейком и твистом в окружении сына и его сверстников…
А всё ж кончилась эта «отвальная» не по-хорошему.
Хотя… трудно бывает иногда судить, что в наши дни является хорошим венцом дела, а что – недобрым.
Колька, почти ничего, надо сказать, не пивший в застолье, пошёл провожать нескольких особо дорогих гостей, которые перестарались в застолье по части спиртного. На парне буквально повисли трое мужчин весьма нехилого телосложения, у каждого из которых, вдобавок, на плече или на рукаве висела благоверная. И вот вся эта хмельная группа гостей, в буквальном смысле тесно сплотившаяся вокруг завтрашнего воина, вывалилась на крыльцо. (Федюшка, глядевший на них со двора, позже скажет, что все они вместе взятые очень напоминали античный скульптурный шедевр «Лаокоон», изображённый на картинке в учебнике по истории древнего мира). Двор был освещен фонарём на столбе и ещё несколькими выносными лампами, подвешенными в тот вечер на стене дома и на заборе для гулянья. Поэтому Николай смело, несмотря на повисших на нём гостей, занёс ногу над первой сверху ступенькой…
…И тут прямо ему под ноги вылетел откуда-то из тьмы – именно вылетел в своём знаменитом прыжке – Иван Иванович!
Вылетел с истошным вячанием, как будто он не под ноги бросался одному из самых родных для себя людей – а на врага, на какого-либо летучего или четвероногого хищника, проникшего в усадьбу Брянцевых.
Этот удар, этот прыжок, этот резкий вопль буквально сбили с ног Николая – и он рухнул на ступени крыльца, увлекая за собой всех облепивших его гостей! Грохот, сопровождавшийся криками и стонами, был едва ли слабее того грома, каким несколькими часами ранее застолье началось… По крайней мере, в нескольких соседних домах окна осветились и забрехали собаки.
Примечательно, что никто из гостей не пострадал от этого падения. Никто даже нос себе не свернул, не говоря о более крупных травмах. Так, один-два синяка да мелкие царапины. Вот уж точно: пьяному и пожар – щекотка…
А вот Коля Брянцев подняться не смог.
В районном пункте скорой помощи, куда его отвезли часа через полтора, определили: открытый перелом правой голени и разбитая коленная чашечка левой ноги.
– Ну, Ван Ваныч! Ну, чудо! Чудище! Чудовище! – так, мыча и охая, говорил Степан Софронович, сопровождавший своего тяжело травмированного бывшего ученика в машине «скорой», поскольку сам старый натуралист был почти совершенно трезв, пить ему здоровье уже не позволяло. – Ну, прыгун! Не люблю я это словцо, оно мне про Горбатого напоминает, а уж я этого меченого терпеть не могу даже сильней, чем нынешнего Борова, но точней не скажешь: судьбоносный прыжок. Судьбоносный! Вся твоя армейская жизнь, Коля, теперь по другой дорожке пойдёт. Хуже та дорожка будет, лучше, чем если б ты завтра служить пошёл, – один Бог знает. Но на другую колею ваш кот стрелку перевёл для твоего бронепоезда – это как пить дать!
– Пить не хочу, Степан Софронович, а вот пожрать бы чего-нибудь можно, – отвечал ему лежавший в машине «скорой» Колька. – Я ведь там-то, за столом, не пивши, не евши сидел, ничо в горло не лезло. Первый раз со мной такое: больно, хоть ори, а есть охота, во дела!
– Ну, Николка, уж если ты даже сейчас аппетита не потерял – значит, всё у тебя на лад пойдёт. И заживут твои кости быстро, и отслужишь ты с честью, и – как там Веня-то сказанул, гадом буду – домой здоровым вернёшься…
В этих своих словах утешения бывший сельский учитель оказался пророком. Прыжок Ивана Ивановича и впрямь стал судьбоносным для Николая.
Из больницы несостоявшегося призывника выписали лишь после Нового года. А хромать он перестал только к маю, когда уже с весенним призывом всё-таки отправился в армию…
Как выяснилось вскоре, Ваня Брянцев и его жена Тася не зря так сильно тревожились за военную судьбу их сына.
Двое ребят из их района, вместе с которыми Николай должен был направиться в один и тот же учебный отряд, после месяца «учебки», необстрелянные и мало что в боевом искусстве познавшие, оказались перед Новым Годом в городе Грозном. Там они в составе своего полка должны были штурмовать президентский дворец. Однако Нового года они не встретили. И домой они не вернулись.
…Даже в цинковых гробах. И до сих пор их родители, жители древнерусского приозерья, не знают, где находятся останки их погибших сыновей… Впрочем, та же доля выпала почти всем бойцам полка, в котором они служили. И в котором должен был бы служить сын Вани и Таси…
Призванный на службу уже весной, Николай прошёл, тем не менее, сквозь свои огонь и воды. Он оказался тоже на юге – но по своей воле, а, главное, боевое крещение он получил после надёжной подготовки, да ещё и прикрываемый обстрелянными и опытными «дедами». В бою, а не в бессмысленной мясорубке. Парня из талабской деревни обжёг свинец на таджико-афганской границе… И долго ещё после «дембиля» Николаю снилась пещера в памирском ущелье, в которой он просидел часов десять, огнём перекрывая путь каравану с наркотиками. Душманы, охранявшие этот наркокараван, «вычислили» укрытие пограничников и послали туда несколько мин…
И всё-таки Коля Брянцев вернулся в Старый Бор не только живым, но и здоровым. Разве что очень сильно стал курить…
8. ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ
А теперь в моём повествовании настала пора для самых печальных его страниц.
Писать их мне, поверьте, очень тяжело, и вот именно сейчас я всерьёз жалею, что лишён способности сводить к шутке свои обещания. А ведь мною в самом начале было обещано вам, что вы узнаете историю не только жизни, но и смерти камышового кота Ивана Ивановича. Я рассказал вам его славную жизнь – опустив, правда, немало интересных, головокружительных или просто забавных подробностей. Но главное вы узнали.
Теперь пришло время рассказать о его смерти. Верней, о гибели. А она, гибель Ивана Ивановича, была ещё более доблестной, чем его жизнь.
…Вы думаете, может быть: он погиб в битве с волками или с какими-либо другими крупными хищниками, защищая скот и птицу своих хозяев. Нет, хотя числился за ним и поединок с молодым волком, позарившимся на брянцевских овечек. И не стал тот поединок победным для волка, хотя и наш герой долго после того зализывал и лечил свои серьёзные раны. Однако, когда к брянцевской усадьбе подошла морозной зимней ночью уже целая стая волков, полная жажды отмщения – её встретила картечь из ружей Вани, Шатуна и других староборцев… Нет, не в битвах с недругами из леса, с полей или с неба погиб камышовый кот, проведший свою жизнь под людским кровом. И не от недоброй людской руки он принял смерть.
Он погиб от своей любви к людям.
…Нет правил без исключений. Вы уже знаете, что Иван Иванович был привязан лишь к Брянцевым. И только к ним. Все остальные двуногие, даже друзья Брянцевых, даже те, к кому Ваня, Тася, Вера, Федя и Коля очень благоволили, душевного расположения или хотя бы лёгкой симпатии от брянцевского приёмыша добиться не могли.
Но и тут однажды наступило время для исключения из правил. И это исключение оказалось гибельным для нашего героя…
Началось с того, что Венька Шатун, он же Вениамин Круглов – женился. На сорок первом году жизни – и в первый раз. Это произошло через несколько месяцев после ухода Коли Брянцева в армию. Однажды он поехал по своим заботам в Талабск и надолго там задержался. В Старом Бору начали уже волноваться… Но Веня вернулся – да не один, а с молодой, статной и высокой красавицей. Она была очень не похожа на подавляющее большинство женщин талабской земли, как правило, светлоглазых и светловолосых. Её волосы были черны, как смоль, и антрацитной чернотой сверкали её огромные глаза. Поначалу кое-кто принял её за уроженку либо азиатских степей, либо кавказских гор. Но её тонкий, будто из слоновой кости вырезанный нос не был ни приплюснут, как у степнячек, ни наделён кавказской горбинкой, и невероятной плавностью отличался овал её лица… И, когда Вениамин в первый же день по возвращению пришёл с нею к Брянцевым, Ваня долго вглядывался в неё, а потом всплеснул руками и ахнул:
«Ассия!»
…Бог весть какими судьбами попал в Талабск, в северо-западный русский край её отец, офицер афганской армии, бежавший от резни, которая охватила его родину после ухода оттуда наших. Вскоре он здесь и зачах – и от старых ран, и в тоске по далёкой жаркой отчизне, и от горя, от чёрных переживаний за то, что вся его жизнь, как ему стало видеться, пошла прахом… Ассия же вышла замуж за нашего офицера-десантника, когда-то тоже воевавшего под Гератом и Кандагаром, но детей с ним завести не успела – овдовела через полгода после свадьбы.
А совсем маленькой девочкой Ассию не раз видели под Кабулом, в доме её отца, воевавшие плечом к плечу рядом с ним двое уроженцев дальнего северного края – Ваня Брянцев и Веня Круглов. Так причудливо пересекаются временами судьбы людские…
…Сначала Веня с молодой женой, которую все стали звать по-русски Асей, жил всё в том же старом отцовском доме. Но потом поднатужился и с помощью односельчан, тех же Брянцевых прежде всего, не раз собирая «толоку», поставил новый дом. Выстроил его не на месте родительского гнезда – его он мыслил когда-либо перестроить, рушить не стал, – а на отшибе, на краю деревни, неподалёку от опушки леса, на угоре, где когда-то стоял дом его деда. Таковы теперь правила сельского строительства – ставить новый дом можно только на прежнем фундаменте.
Жилище у Вени с Асей выросло и просторное, в несколько комнат, и высокое, с жилым чердаком, и но всем удобствам не сильно уступавшее городским коттеджам. Хотя и русская печь в нём была поставлена, и «голландка», и камин хозяин соорудил мастерскими своими ручищами. Разве что газ привозной, как и повсюду в талабских селениях. Почему-то мимо нас хозяева российского газа ведут свои трубы… Так что приходится староборцам для своих газовых плит привозить сразу по нескольку больших баллонов.
А вскоре после новоселья молодая афганка подарила Вениамину сразу двойню – двух крохотных сыновей. Счастье новоиспечённого отца было таким, что он дня два подряд оправдывал своё прозвище: шатался, как пьяный. Хотя ни капли спиртного себе в те дни не позволял – боялся «сойти с рельсов»…
Крёстным отцом своим двойняшкам Венька и Ассия (сама в крещении ставшая Анастасией) попросили стать Ваню Брянцева. Хотели они в крёстные матери пригласить Тасю. Но священник из села Дворец, где находится ближайшая к их деревне и знатная Никольская церковь (почему Дворец и зовётся селом, в отличие от не меньшего по числу дворов и жителей Старого Бора и других деревень) объяснил: нельзя. Не могут быть муж и жена крёстными родителями одним и тем же детям…
И тут внезапно удивила своих родных Вера. Только что сдавшая экзамены в Талабский политехнический вуз девица с пламенем на круглых щеках, который не смогли погасить самые усиленные учебные нагрузки, Верушка, не замеченная прежде ни в какой религиозности, вдруг попросила Кругловых «назначить» крёстной её!
– Ну, Веруха, – крякнул её отец, – конечно, при Советах мы тебя, как и всех, крестили, времена-то уже нестрогие тогда шли. Да всё ж ты панашей памяти николи в храме не стояла. На домашнюю иконку тоже с крестным знамением не глядывала. А тут – на тебе: крёстная мать!
Дочка Брянцевых не стала вдаваться в объяснения. Она сказала по-математически чётко: «Моя вера – во мне». Правда, потом, уже после обряда, как-то поведала родителям: «Знаете, предки… Вот в Лондоне две недели были мы, на олимпиаде. Куда нас только не возили там, всё интересно. А раз показали нашу православную церковь, эмигранты её выстроили. Зашла туда, Николин образ увидала – а он ну точь-в-точь такой же, как дома у нас на иконке… Я прям-таки чуть не взвыла, домой захотелось… Моё – здесь, и математика, и вера».
На эту крёстную священник из Дворца согласился, хоть и поворчал: мол, тут тоже есть родство. Но всё ж не те годы на дворе, чтоб со всеми строгостями подходить к пастве… И стала юная учёная девица духовной матерью двойняшек, родившихся от молодой, но уже крепко обожжённой жизнью афганки, и не менее опалённого судьбой могучего мужика из приозёрной талабской деревни. Одного мальчика назвали Алёшей – в честь покойного Венькиного отца. Другой стал Саней, потому что отец Ассии, Искандер, носил имя, в далёкой древности принесённое на Памир великим эллинским завоевателем в двурогом шлеме. Предки Ассии звали его – Искандар Зуль-Карнайн, Искандар Двурогий. А в историю он вошёл под именем Александра Македонского. Вениамин был доволен таким выбором ещё и потому, что такое же имя было у святого покровителя всех талабских воинов, когда-то здесь, вот на этом озере разгромившего бронированную орду тевтонских рыцарей в Ледовом побоище… У Александра Невского.
После того, как малюток Вени и Аси крестили, все причастные к этому таинству староборцы, вернувшись к себе в деревню, зашли в дом крёстных родителей. Что называется, «спрыснуть» это важное духовное событие… Застолье было недолгим: братьев, ставших и братьями по Христе и лежавших в двухместной большой коляске, пора уже было доставлять в их дом и укладывать по кроваткам. Ася уже два раза перепелёнывала их, – она в быту предпочитала быть «освобождённой женщиной Востока» и не доверяла всяким новшествам вроде памперсов. И даже детей поначалу выносила на прогулку, держа их на груди, а не в коляске. В чём её поддерживал и муж. «Взяли моду – по деревне с колясками таскаться, по буграм-то нашим! Нас матеря в поле за собой таскали без всяких колясок да там титькой и кормили – и ничего, не уродами взростили!» – ворчал Вениамин… Но всё же с двойней без коляски было не управиться. В ней и лежали новообращённые груднички, пока Брянцевы и Кругловы сидели за столом.
…И тут всем бросилось в глаза, что с Иваном Ивановичем происходит нечто совершенно необычное.
Он прыгнул на высокую дубовую скамью и с её высоты, почти не отрываясь, глядел на личики двойняшек. И мурлыкал, опять-таки не сводя глаз с малышей. Мурлыкал так сладко, как будто и впрямь выводил звуки кошачьей колыбельной. А когда его всё-таки удалили со скамейки («Мало ли что ему в голову взбредёт!»), он стал ходить вокруг коляски, чуть ли не юлой вился вокруг неё. Причём не переставал при этом сладко мурлыкать. И вставал на задние лапы, пытаясь вновь заглянуть в коляску. Словом, наш герой вёл себя против своих же собственных правил поведения по отношению ко всем не-Брянцевым…
– Да что с тобой, Ван Ваныч?! Николи такого не случалось, чтоб вокруг кого-то, окромя наших ребят, вился! – с откровенной тревогой заохала Тася. Да и все встревожились, особенно Федя. Он никак не мог понять, что творится с его питомцем. Но Ассия всех успокоила. Она сказала, что у неё на родине такое бывало не раз. Кошки и собаки становились сущими «няньками» младенцев. Причём нередко такое происходило с самыми нелюдимыми котами и с очень свирепыми псами. Был даже случай, вспомнила талабская афганка, когда собака, всех напугав, вытащила ребёнка из дому, схватив его зубами за рубашонку – а через минуту грянуло землетрясение!
– Просто ваш кот полюбил моих малышек, вот и всё, и ничего тут плохого нет, – заключила молодая жена Вени.
И всё дальнейшее подтвердило правильность её слов. Иван Иванович впервые в своей жизни пошёл провожать гостей – но шёл-то он конкретно за коляской! А когда вся честная компания вошла в новый дом Кругловых, и малышей после кормления уложили по кроваткам, наш доблестный кот впрыгнул на бельевой полированный шкафчик, стоявший рядом с кроватками, и продолжил своё колыбельное мурчание. Причём взгляд его постоянно перемещался с одного младенца на другого. И облик его в те минуты стал удивительно схожим с теми кошачьими мордашками, что изображались когда-то на настенных часах с гирьками: глаза то сюда – то туда…
…И каждый день без исключения Иван Иванович стал проделывать не очень краткий путь от дома своих хозяев до дома их друзей, а теперь уже и кумовьёв. Пробегал полдеревни, пересекал луг, на возвышенном краю которого неподалёку от леса светился ещё не обшитыми кирпичом (как то замышлялось Шатуном) бревенчатыми стенами новый дом Кругловых. Входил по своему обыкновению важно и гордо, даже и не принимал никакую пищу из рук хозяев дома. Опять впрыгивал на новый современный комодик рядом с двумя детскими кроватками – и начинал свои мурлыкающие песнопения. И на морде у камышового кота разливалось при этом такое умиление, какого прежде ни Федя, ни вообще кто-либо из людей не чаял увидеть в лике этого сурового и временами даже высокомерного потомка диких кошек… Вениамин, видевший нашего героя у озера рядом с его камышовой возлюбленной, утверждал, что даже тогда брянцевский приёмыш не выглядел столь умилённым. «Куда там, – говорил единственный свидетель чувственных радостей кота, – тогда он просто кайфовал, как любой мужик со своей марухой. А тут от него благодать сущая исходит, прям-таки благолепием ангельским у него моргалы так и зыркают!» Очень точно эти слова бывшего зека, вернувшегося к благочестивой жизни христианской, характеризовали камышового героя в те минуты, когда он выводил свои сладко-мурчащие рулады над малютками Сашей и Алёшей. Иван Иванович был счастлив!








