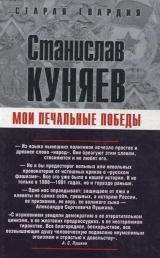
Текст книги "Мои печальные победы"
Автор книги: Станислав Куняев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«Гуляет», «гуляешь», «гулянье» – слова веселые. Они сопрягаются в русской речи и русском сознании с праздником, радостью, молодечеством, торжествующей раскованностью вольною, удалою силою… в них звучит увлеченье, некое восхищение тем, кто «гуляет» – и потому вряд ли приложимы к «священной войне» – как сурово пел народ о Великой Отечественной, ведь тут «смертный бой», а не «простор жизни».
Об этой суровой, но справедливой статье Самойлов отозвался в дневниках с крайним раздражением: «Статья Глушковой против меня. Глупо, бездарно. Грязное воображение…»
Но Глушкова была права, потому что каждым своим новым поэтическим свершением Самойлов подтверждал тезисы ее статьи.
В самой значительной своей поэме «Ближние страны» герой Самойлова с таким же «весельем» и «балагурством», так же «гуляючи» вслед за частями, взявшими город штурмом, входит в него и, как хозяин, диктует свою волю местным обывателям, крутит романы с немками, особенно податливыми, поскольку у победителя есть и «тушенка», и «водка», и «папиросы»… «Инге нравится русская водка». Роман развивается на глазах у жениха Инги – букиниста из Потсдама, Ингина тетка просит «один бабироса» – «Папироса! – цежу я с ухмылкой»; «мы сидим с женихом, словно братья»… Но герой поэмы ухмыляется над глуповатым женихом, который очарован коварным хлебосольством «победителя», покупающего «фрейлину» разгромленного народа за банку тушенки и рюмку водки… А что записывает победитель в альбом барышне, услужливо преподнесенный ему? – нечто глумливое: «Фроляйн Инге! Любите солдат, всех, что будут у Вас на постое»…
Именно в этой поэме, написанной в 1954 году, у Самойлова окончательно прояснились подлинные черты его любимого героя, облик которого он в полный рост нарисовал в стихотворении «Маркитант», написанном в середине 70-х годов.
Фердинанд, сын Фердинанда,
Из утрехтских фердинандов,
Был при войске Бонапарта,
Маркитант из маркитантов.
Впереди гремят тамбуры,
Трубачи глядят сурово,
Позади плетутся фуры
Маркитанта полкового.
Бонапарт диктует венским,
И берлинским, и саксонским,
Фердинанд торгует рейнским,
И туринским, и бургундским.
Бонапарт идет за Неман,
Что весьма неблагородно.
Фердинанд девицу Нейман
Умыкает из-под Гродно.
Русский дух, зима ли,
бог ли Бонапарта покарали.
На обломанной оглобле
Фердинанд сидит в печали.
Вьюга пляшет круговую.
Снег валит в пустую фуру.
Ах, порой в себе я чую
Фердинандову натуру!..
Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.
Фердинанд имел реального прототипа. В своих воспоминаниях, рисуя родословное древо Кауфманов, поэт писал: «За прадедом начинается некий генеалогический туман, откуда выплывает фигура Рафаэля Фердинанда, солдата или маркитанта наполеоновских войск. Маркитант сей, по легенде, отступал с Великой армией, застрял в городе Борисове, где осел, женился и прославился основанием обширного рода»…
Но стихи – убедительней воспоминаний. Стихотворение «Маркитант» отозвалось в литературной судьбе Самойлова неожиданным образом и определило его взаимоотношения и с миром, и с Юрием Кузнецовым.
Вначале Самойлов принял появление Кузнецова с восхищением и опаской: «Стихи Ю. Кузнецова в «Новом мире». Большое событие. Наконец-то пришел поэт. Если мерзавцы его не прикупят и сам не станет мерзавцем, через десять лет будет украшением нашей поэзии. Но что-то и темное, мрачное» (1975 г.).
Помню, как однажды, прочитав стихотворение Кузнецова «За дорожной случайной беседой», он в цэдээловском ресторане, схватив Юрия Поликарповича за грудки, начал чуть ли не со слезами на глазах уговаривать последнего:
– Юра, не пытайтесь быть сверхчеловеком!
Но у Кузнецова, к тому времени знавшего самойловское стихотворение «Маркитант», уже была написана отповедь всей философии и практике «маркитантства».
Чтобы не цитировать стихотворение целиком, напомню, что речь в нем идет о том, как сблизились на равнине два войска, ведомые лейтенантами («маркитанты в обозе»), как с обеих враждебных сторон навстречу друг другу тайно вышли разведчики-маркитанты, посланные на разведку лейтенантами:
Маркитанты обеих сторон,
Люди близкого круга,
Почитай с легендарных времен
Понимали друг друга.
Через поле в ничейных кустах
К носу нос повстречались,
Столковались на совесть и страх,
Обнялись и расстались.
Воротился довольный впотьмах
Тот и этот крапивник [6]6
«Крапивник», «крапивное семя» – «ярыжка», «приказной крючок» (словарь Даля), мелкий делопроизводитель, писарь, составитель кляуз; сюда же можно отнести и «желтых» журналистов, наемных газетчиков, «папарацци» и т. д.
[Закрыть].
И поведал о темных местах
И чем дышит противник.
А наутро, как только с куста
Засвистала пичуга,
Зарубили и в мать и в креста
Оба войска друг друга.
А живые воздали телам,
Что погибли геройски.
Поделили добро пополам
И расстались по-свойски.
Ведь живые обеих сторон —
Люди близкого круга,
Почитай с легендарных времен
Понимают друг друга.
То, что в стихах Самойлова было водевилем, то под пером Юрия Кузнецова стало всемирно-исторической драмой. Этого толкования Дезик простить Юрию Кузнецову не мог, и несколько его дальнейших записей, сделанных в дневнике, – тому свидетельство:
«Сотворив из Ю. Кузнецова кумира, эта шатия будет искать ему жертву. Скорей всего это буду я» (1979 г.).
«Злобный выпад Ю. Кузнецова против меня в альм. «Поэзия». Комплексы. Сальеризм» (1981 г.).
«Кажется, большего, чем он написал, не напишет» (1983 г.).
Но как бы то ни было, если перевести родовую фамилию Дезика «Кауфман» на более понятный язык, то она будет звучать, как «торговец», «рыночник»…
Да и, честно говоря, в предвоенные годы ифлийцы больше «играли в войну» в своих стихах и песнях о «флибустьерах и авантюристах», нежели были готовы к настоящим, а не выдуманным войнам. Вот почему они не выдержали первого испытания финской войной.
Из воспоминаний Самойлова, написанных в 80-е годы:
«В первый же раз в лоб предложенный историей вопрос поверг почти всех нас (выделено мной. – Ст. К.) в смущение. Это было в начале незнаменитой финской войны. Почему на фронт пошел тогда без колебаний один Наровчатов? Кажется, Слуцкий был решительно лучше нас подготовлен к войне. А он, говорят, ушел из добровольческого батальона. Почему не пошел Павел (Коган. – Ст. К), чья храбрость ярко проявилась в большой войне. Не пошел и Кульчицкий…»
«Тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось»; «Я поздно созрел для войны», – честно напишет о себе Самойлов. А об ифлийце Михаиле Львовском говорит еще круче: «А он не созрел никогда». Михаил Львовский был автором многих военных песен. Писать восторженные оды грядущим боям оказалось легче, нежели принять общенародную судьбу, как свою. Эту судьбу сумели без лишних слов возложить на юношеские плечи призывники из простонародья, в основном из крестьянства, а не ифлийцы, которые по какому-то естественному отбору становились военными журналистами (Л. Безыменский), военными юристами (Б. Слуцкий), агитаторами (Л. Копелев), комсоргами при штабе фронта (Д. Самойлов) и т. д. Именно о таких, как они, Александр Твардовский в письме к Л. Разгону писал: «Терпеть не могу, когда литераторы и журналисты, прошедшие войну в этом качестве, говорят: «Я воевал» – и т. п».
* * *
В далеком 1987 году я опубликовал в журнале «Молодая гвардия» статью о поэтах, вошедших в литературу перед войной и в первые годы войны, где, отдавая дань их талантливости, их гражданскому и человеческому мужеству («отряд высокоодаренной поэтической молодежи», «бескомпромиссный талант», «абсолютная искренность поколения», «романтическое бесстрашие», «жертвенность» – характеристики из моей статьи), тем не менее, спорил с принципами романтизации войны, оспаривал книжные романтические схемы «земшарной республики Советов», абстрактно понятого интернационализма, ярче всего, пожалуй, выраженного в формуле М. Кульчицкого: «Только советская нация будет и только советской расы люди». Цитируя строки, воспевающие ход мировой революции:
Но мы еще дойдем до Ганга,
но мы еще умрем в боях,
чтоб от Японии до Англии
сияла Родина моя
(П.Коган);
Я – романтик разнаипоследнейших атак…
(М. Кульчицкий).
Выхожу двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в свой решительный и последний
и предсказанный песней бой.
(Б. Слуцкий).
Песня – это «Интернационал», сущность которого выдохлась с первого же дня Великой Отечественной. Я доказывал, что именно такие агрессивно-романтические формулировки, унаследованные «ифлийцами» от поэтических учителей старшего поколения, помешали им понять характер начавшейся войны как Отечественной, «народной», «священной».
Выросшая на стихах крупнейших поэтов-романтиков революционного поколения – Маяковского, Антокольского, Багрицкого, Светлова, Сельвинского, – довоенная ифлийская молодежь жаждала продолжения мировой революции…
После моей молодогвардейской статьи по ней сразу же был выдан «артиллерийский залп». Меня заклеймили О. Кучкина в «Комсомольской правде», Е. Евтушенко в «Советской культуре», А. Турков в «Юности», Ю. Друнина и Л. Лазарев-Шиндель в «Знамени». Следом подали свои голоса «Книжное обозрение», «Огонек», «Литературная Россия».
Каковы же были главные аргументы моих критиков? Прежде всего, в ход шло простое житейское правило, действующее на читателя: люди погибли на войне, и потому их творчество не подлежит обсуждению. «Если он способен поднять руку на павших» (Л. Лазарев), «клевета на честных писателей, павших на Великой Отечественной войне и не имеющих возможности защититься» («Книжное обозрение»). Но житейская мудрость – «о мертвых или хорошо, или ничего» годится только на гражданских панихидах, тем более, что я не говорил ничего плохого о личностях, а не соглашался лишь с идеями. Идеи переживают людей, и, когда изнашиваются, время сбрасывает их. Такое всегда происходит в истории культуры. Вспомним, какие споры бушевали, да и еще бушуют вокруг имен Достоевского, Маяковского, Есенина…
Я писал о том, что в стихах Кульчицкого «Не до ордена – была бы родина с ежедневными Бородино» меня коробит слово «ежедневными», как-то не укладывалась в моем уме эта лихость: ну, представьте себе желание видеть ежедневное взятие Берлина или ежедневную Курскую дугу? В ответ Л. Лазарев гневно упрекал меня: «Для того, чтобы как-то объединить очень разных поэтов (иные из них и знакомы не были друг с другом), о которых он ведет речь, создать видимость группы, кружка или чего-то вроде масонской ложи, Куняев именует их «ифлийцами», все время говорит об «ифлийском братстве», «ифлийской молодежи», «ифлийцах старшего поколения», даже об «ифлийстве» как о некоем идейно-художественном направлении»… Критик правильно понял мою мысль.
Но вот что писала о духовно-мировоззренческом единстве ифлийцев сама бывшая ифлийка Елена Ржевская, вдова Павла Когана, в статье «Старинная удача», опубликованной в «Новом мире», № 11 за 1988 год.
«Что такое ИФЛИ? Произнесенная вслух одна лишь аббревиатура сигналит, что-то излучает. Незнакомые до того люди, обнаружив, что они оттуда, из ИФЛИ, немедленно сближаются. Может, оттого, что там прошла юность? Так, но не только. А может, ИФЛИ вообще иллюзия, хотя и устойчивая. Но тогда такая, о которой умный английский писатель сказал: иллюзия – один из самых важных фактов бытия.
Мне кажется, ИФЛИ – это код, пока не поддавшийся раскодированию. ИФЛИ был новью, чьим-то неразгаданным замыслом, намерением, на краткий миг замерещившейся возможностью, коротким просветом в череде тех жестоких лет. И еще: ИФЛИ – это дух времени, само протекание которого было историей».
По-моему, характеристика Е. Ржевской сути ифлийства была куда ближе к понятию масонской ложи, нежели мое истолкование.
За истекшие 20 лет сущность ИФЛИ настолько раскодирована и разгадана, что все тайное, на что намекала Ржевская «посвященным», давно уже стало явным.
Из воспоминаний Д. Самойлова 80-х годов:
«ИФЛИ был задуман, как Красный лицей, чтобы его выпускники со временем пополнили высшие кадры идеологических ведомств, искусства, культуры и просвещения. Это осуществилось только отчасти. Помешала война, на которую пошло много ифлийцев, а также старомодный (сложившийся в 20-е годы. – Ст. К.) подбор студентов, где почти не учитывался национальный признак…»
Туманно выразился Д. Самойлов. С одной стороны национальный признак не учитывался, в том смысле, что об этом не принято было говорить. С другой стороны, он на деле присутствовал, поскольку добрая половина ифлийцев были еврейского происхождения. Об этом Самойлов, с присущей ему толерантностью, даже в дневниках не стал говорить открытым текстом, а написал так: «Компанию сейчас кое-кто называет «ифлийцами» (думаю, что он имел в виду меня. – Ст. К.), вкладывая в это понятие оттенок социальной и даже национальной неприязни».
А вот уже совершенно открыто, безо всяких намеков, пишет об ИФЛИ в сентябрьском номере журнала «Знамя» за 2006 г. закадычный друг Давида Самойлова Борис Грибанов (1920–2005):
«Об ИФЛИ написано и рассказано многое. Этому способствовало то обстоятельство, что когда началась Великая Отечественная война, институт был ликвидирован, слит с Московским университетом. Уход в небытие такого известного и престижного института, каким был ИФЛИ, породил немало легенд.
Кое-кто даже сравнивал ИФЛИ с Царскосельским Лицеем. Впрочем, возможно, что такая параллель мелькала в мозгах тех немногих образованных людей, стоявших у власти, которым была поручена организация этого института. Это были единицы в толпе малограмотных вождей, у которых за плечами было в лучшем случае два-три класса церковно-приходского училища…»
Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что ИФЛИ, созданный в сентябре 1934 года, строился не по воле «малограмотного вождя» (Сталина. – Ст. К.). Но по чьей? Может быть, по чертежам «образованных» профессиональных революционеров – Зиновьева, Каменева, Бухарина? Или по разработкам деятелей Коминтерна Карла Радека, Бела Куна, Иосифа Пятницкого-Тарсиса?
Как бы то ни было, с первых же лет институт стал необычайно популярным. Из воспоминаний Бориса Грибанова:
«Место для института нашли не в центре, а за городом, за Сокольниками, был отобран первоклассный профессорско-преподавательский состав – из числа тех, кто не был расстрелян в годы Гражданской войны и не уехал в эмиграцию […] (о любимом профессоре ифлийцев Л. Пинском Самойлов пишет в своих воспоминаниях так: «В старину он стал бы знаменитым раввином, где-нибудь на хасидской Украине». – Ст. К). Была в ИФЛИ еще одна отличительная черта – обилие среди студентов детей высокопоставленных партийных руководителей: институт был элитный, и в него поступали сыновья и дочери наркомов, деятелей Коминтерна, комкоров».
А дальше Грибанов говорит вроде бы странные вещи – институт, созданный для воспитания государственной элиты, правящего сословия вдруг начинает уничтожаться самой властью: «Расплата не заставила себе долго ждать. Родители исчезали в черной дыре Лубянки, а детям оставалась постыдная участь: подниматься на трибуну 15-й аудитории ИФЛИ, где проходили главные лекции и комсомольские собрания, и отрекаться от своих отцов и матерей».
Кто же были эти «отцы и матери» и каким детям приходилось отрекаться от них? Об этом вспоминает еще одна ифлийка, которую я знал по писательской жизни 60—70-х годов, Раиса Либерзон-Орлова, чьим последним мужем был известный публицист Лев Копелев. Их обоих уже нет на этом свете. Пламенные ифлийские революционеры 30-х годов, ставшие эмигрантами в 80-х, нашли успокоение в немецкой земле. Но их книги, недавно вышедшие в России, проясняют многое из жизни ифлийства.
«В ИФЛИ поступали сыновья и дочери высокопоставленных тогда отцов – Лев Безыменский, Хана Ганецкая, Ирина Гринько, Муза Егорова, Наталья Залка, Марина Крыленко, Агнесса Кун, Олег Трояновский. Для сегодняшних читателей скажу без подробностей, что это были дети высших деятелей Коминтерна, наркомов, дипломатов». А еще Орлова-Либерзон вспоминает Чаковского, Самойлова, Солженицына. Самойлов в своих воспоминаниях дополняет этот список именами Юрия Левитанского, Елены Ржевской, Исаака Крамова, Семена Гудзенко, Григория Померанца, Льва Осповата, Александра Крейна, Льва Копелева, Павла Когана, Игоря Черноуцана и тем самым подтверждает свое же наблюдение о том, что при наборе в ИФЛИ «почти не учитывался национальный признак», что можно понимать лишь таким образом: русских студентов в ИФЛИ или почти не было (по крайней мере, в «самойловском» списке) или они представляли в нем крохотное нацменьшинство.
«У нас, – вспоминает Раиса Орлова-Либерзон, – царил культ дружбы. Был особый язык, масонские знаки, острое ощущение «свой». Сближались мгновенно, связи тянулись долго»…
«Необъяснимо, чем влекли слова «флибустьеры», «веселый Роджерс», «Люди Флинта». Они перекликались с Гумилевым, Грином, Киплингом, но все это про нас».
Поразительно, что ифлийцы жили Киплингом и Грином, но не вспоминали ни о Шолохове, ни о Есенине, ни о Булгакове, ни о Платонове. Словно инопланетяне. Даже Блок и Ахматова, даже Клюев с Мандельштамом не интересовали их. Более того, как откровенничает Самойлов:
«У нас заканчивали образование Твардовский и Симонов, но не они нравились ифлийской элите. Больше нравились свои». (Вот так-то. Даже Симонова, видимо, за его «государственничество», ифлийцы не считали своим.)
«Марк Бершадский был принципиальным носителем ифлийского вкуса. В прозе это был Бабель, Олеша, Ильф и Петров, и Хэмингуэй. В поэзии Пастернак»… «В ИФЛИ знание Пастернака было обязательным признаком интеллигентности».
* * *
Выбор работы и условий жизни даже после 1937 года для уцелевших ифлийцев был просто роскошным. Из воспоминаний Р. Орловой-Либерзон: «Выпускники 1939, 1940, 1941 годов не искали работы – работа искала выпускников. Я заполняла анкеты в десяти учреждениях, среди них ЦК, Наркоминдел, Совнарком. У меня, как и у большинства из нас, была возможность выбора».
Условия жизни нэповского детеныша Самойлова не были для ифлийской элиты какими-то исключительными. Семья Раисы Орловой-Либерзон жила не хуже – в одном из лучших по тем временам домов Москвы (ул. Горького, д. № 6, напротив телеграфа). По словам Орловой, квартира была в «сто квадратных метров», несколько комнат. В одной из них, естественно, жила русская няня-домработница.
«Звали ее классическим именем Арина, но для всех в доме она была просто «няня». Она прожила у нас 20 лет».
Конечно, обихаживать стометровые квартиры и дачи, накрывать яствами столы в Москве и за городом, а во время нашествия гостей с утра до вечера мыть посуду, что делала на моих глазах в Мамонтовке женщина в белом платочке, – было непосильным делом для матерей Дезика Кауфмана или Раисы Либерзон. А потому еврейские состоятельные семьи той эпохи обязательно имели домашних работниц. Их можно было выбирать из женщин, толпящихся в очередях на биржах труда, они сами бродили по городу, стучались в двери хороших домов и, выброшенные, вытесненные из своих деревень железной метлой коллективизации, голодом 1931–1932 года, напрашивались на любую работу, даже за харчи… Да и многие девушки из дворянских фамилий, лишенные прав из-за классового происхождения, готовы были на все и становились няньками, кухарками, экономками, содержанками сначала нэповской, а потом и вообще советской чиновничьей знати. (Читайте роман «Побежденные» И. В. Римской-Корсаковой.)
Отец самой Раисы Орловой-Либерзон был крупным издательским чиновником. Ездил в 20—30-е годы для переговоров к Горькому на Капри, потом работал во Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей (знаменитом ВОКСе), куда к нему после окончания ИФЛИ пришла в сотрудники дочь. У него, как вспоминает она, «был пистолет», «в период хлебозаготовок, куда его посылали, он получил право на владение оружием». Последний муж Орловой Лев Копелев так же, как и еще один ифлиец Александр Чаковский, «раскулачивал» русское крестьянство и тоже «имел право владеть личным оружием» (Р. Орлова). Чувства вины перед своими собратьями по перу из раскулаченных семей – Михаилом Алексеевым, Александром Яшиным, Виктором Астафьевым – Копелевы и Либерзоны никогда не испытывали, ни до XX съезда партии, ни в «оттепель», ни в 60-е годы, ни в перестройку.
Честная исследовательница советской истории еврейка Соня Марголина в книге «Конец Лжи: Россия и еврейство в XX веке» писала об этой трагедии так: «В конце 20-х годов впервые немалая часть еврейских коммунистов выступила в сельской местности командирами и господами над жизнью и смертью. Только в ходе коллективизации окончательно отчеканился образ еврея, как ненавистного врага крестьян – даже там, где до тех пор ни одного еврея и в лицо не видели» [7]7
Sonja Margolina. Das End der Lbgen Rusland und Juden in Jahrhundert. S. 84.
[Закрыть] .
«Раскрестьянивая» крестьянство, эти «комиссары коллективизации» вольно или невольно создавали армию беженок из русской деревни, которые и становились их бесправными домработницами. Одной из них была и моя мать Александра Никитична Железнякова, оставившая мне в наследство после своей смерти несколько страничек воспоминаний.
«Моему сыну Станиславу.
Это было трудное время. Первые годы после революции. 1920 год. У нас умер отец от сыпного тифа, а мать переболела им и стала разъезжать по России, и менять одежду и вещи на хлеб. Даже в Ташкент ездила. Нас было четверо детей. Мне в это время было 12 лет. Жили в Калуге. И вот однажды к нам приходит еврейка, молодая женщина, и просит мать отдать меня к ней в няньки. Эта еврейка была женой бывшего владельца кожевенного завода, Кусержицкая Евгения Александровна. Муж ее Яков Захарович уезжал из Калуги часто по каким-то делам в Москву. Моя мать обрадовалась, что меня не надо кормить дома, так как мы голодали, голодала вся страна, а у Кусержицких я за хлеб стала нянькой. Девочке Розе было три года, а Рите что-то около года, она еще не умела ходить. Мне приходилось рано вставать и бежать к Кусержицким, заниматься с детьми.
Кормили меня отдельно от детей, но я была и этим довольна, так как дома, когда мать уезжала на долгое время, у нас кроме картошки ничего не было. У Кусержицких же я даже узнала вкус сыра. Очень черствого, но вкусного. Я ходила с Розой к раввину, когда резали кур, но самоё неприятное было в том, что Евгения Александровна всегда заставляла меня караулить квартиру из трех комнат, хорошо обставленную мягкой мебелью, с большими зеркалами, с очень красивыми кроватями, с подушками в кружевах. Она, видимо, боялась, что кто-нибудь залезет к ним, и потому я почти не гуляла по улице, а сторожила квартиру, сидя на большом сундуке, покрытом ковром. Иногда летом мне очень хотелось на улицу, и тогда я, забрав Розу и Риту, отправлялась к себе домой, там мы играли во дворе вместе с моим братом Сергеем и двоюродным братом Васькой. Так продолжалось больше двух лет. За все это время я только завтракала и обедала у Евгении Александровны. Никакой платы она за меня моей матери не платила. В 1924 году они уехали в Москву. Яков Захарович был каким-то акционером. Евгения Александровна и я с тремя детьми (у них родился сын Илья) жили на даче в Мытищах. Занимали дом с мезонином из четырех комнат с террасой и садом. Иногда из Москвы приезжал Яков Захарович с какими-то мужиками, хорошо одетыми и долго о чем-то совещались, спорили. Я с Розой и Ритой занимала комнату, куда каждый вечер Евгения Александровна приносила большую шкатулку, очень тяжелую, и ставила ее на мою постель под подушку. Мне было неудобно спать, и я передвигала шкатулку выше подушки к стенке кровати. Но Евгения Александровна сердилась и говорила, чтобы я не трогала шкатулку.
Утром она убирала шкатулку в свою комнату. Однажды Роза, которой уже было около шести лет, открыла шкатулку, и я увидела в ней очень много золотых монет, цепочек, браслетов и колец. Откуда все это у них было – я не знаю. В Калуге этой шкатулки не было. И все же кто-то знал, что они живут богато. Однажды ночью к нам забрались жулики, украли из буфета все столовое серебро, что-то украли из комнаты Якова Захаровича. Вот тогда я поняла, под какой угрозой находилась моя жизнь. Ведь если бы жулики проникли в нашу комнату, то, конечно бы, могли найти шкатулку с золотом, которая находилась в моей кровати. После ограбления Евгения Александровна меня, девчонку, не знавшую дороги в Москву, послала на станцию Перловка, откуда я дала по ее записке телеграмму Якову Захаровичу в Москву. Но никаких украденных вещей они не нашли, а в сентябре месяце собрались уезжать в Германию и начали уговаривать меня поехать с ними, обещая меня учить и сделать членом своей семьи. Я разревелась – соскучилась по Калуге, по своим домашним и отказалась ехать в Германию. Тогда Яков Захарович велел жене меня собрать, дал мне какое-то платье Евгении Александровны, несколько пар чулок, резиновый мяч – вот и все, и меня отвезли на Киевский вокзал, откуда я добралась до Калуги.
В 1928 году Кусержицкие вновь приехали в Калугу и сняли первый этаж из шести комнат на Смоленской улице.
Я уже была студенткой Института физкультуры. Они пришли к нам и опять начали уговаривать мою мать, чтобы мне ехать в Германию. Мать, конечно, отказала им, сказав, что я уже большая и учусь в институте, получаю стипендию и сама зарабатываю во время каникул деньги. Евгения Александровна стала мне рассказывать, как хорошо они живут в Германии, что Яков Захарович имеет собственную фабрику, но я была уже комсомолкой, и меня совершенно не интересовали ихние собственные фабрики в Германии. Прожив около одного года в Калуге, когда нэп пошел на убыль, Кусержицкие уехали в Германию, и я о них уже ничего не слышала. А вот откуда у них было столько золота в шкатулке – черт их знает. Видимо, оно осталось у них с дореволюционных времен, их совершенно не коснулись голод и разруха, которые испытывали в эти годы рабочие и интеллигенция России. И понятно, почему они сразу же после прекращения нэпа уехали в Германию. Те люди, которые приезжали к ним в Мытищи на дачу, по-моему, тоже были богаты. Они были хорошо одеты, с кольцами на руках, с золотыми цепочками и часами на жилетах. Помню, как однажды эти господа приехали даже на автомобиле. К сожалению, я не понимала, на каком языке они разговаривали, так как я кроме русского языка никакого другого не знала».
* * *
Однако «ифлийство» не было ни партией, ни масонской ложей. Оно было кастой. Когда Сталин узнал, что осенью 1941 года в «запасной столице» СССР – Куйбышеве для эвакуированных школьников из семей столичного бомонда организуются такие же особые школы, как в Москве, он в сердцах произнес: «Каста проклятая!».
А между прочим, до 1937 года и даже после него «каста проклятая» надеялась, что власть рано или поздно естественно и автоматически перейдет к ней. Особые школы, особый «красный» лицей, – все, казалось, было «на мази», но закончилось, по словам Елены Ржевской, «неосуществившейся иллюзией».
Эти потенциальные управители государства во второй половине 30-х годов проглядели плавный поворот истории. Сталинская верхушка без громких деклараций отказалась от курса на мировую революцию, вполне резонно сообразив, что вместо «красной» Европы, во многом сочувствовавшей нам в 20-е годы, она, эта Европа, постепенно превращается в коричневый материк и готовится к «дранг нах Остен». А потому ставка на коминтерновскую часть советского истеблишмента бесполезна и даже опасна, учитывая, что она, эта часть, тайно молится на Троцкого. Отсюда следовало, что и дети «пламенных интернационалистов», сгрудившихся в ИФЛИ, лишены политического будущего. Когда политические процессы 1936–1937 года вызревали в чреве истории, Сталин в это время уже запустил механизм по созданию новой государственной элиты из простонародья и сделал ставку на людей дела – Жукова, Чкалова, Шолохова, Стаханова, Косыгина, Байбакова, Судоплатова и им подобных. Надежды ифлийцев на то, что они скоро получат рычаги управления идеологией в свои руки, рухнули. А надежды эти были, ими питались даже такие «неполитизированные» люди, как Давид Самойлов:
«Чего мы хотели? Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение».
Далее Дезик перечисляет «неудачников» – Твардовского, Исаковского, Симонова, Смелякова, Павла Васильева. О Мартынове, Прокофьеве, Тихонове и даже Заболоцком – он не вспоминает. Ифлийцы не любили советских поэтов с русской национальной прививкой: «Все они для нас были одним миром мазаны, – продолжает Самойлов свои воспоминания. – Их мы собирались вытолкнуть из литературы. Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленческой.
Нам казалось, что государство ищет талантов, чтобы призвать, пожать руки и доверить. Мол, действуйте, пишите правду, громите врагов, защищайте нас. Те не годятся. Но теперь есть вы. Входите, ребята, располагайтесь в литературе. Вот как мы представляли себе схему ближайшего будущего и тщательно готовили себя к высокой службе государственных поэтов. Разочароваться не успели. С этими идеями ушли на войну»… «В наибольшей готовности находился Слуцкий. И долго еще находился. Уже после войны сказал мне:
– Я хочу писать для умных секретарей обкомов».
Конечно, эта программа уже была иной, нежели когановская – «Но мы еще дойдем до Ганга». Но тот же Слуцкий, написавший в 50-е годах: «готовились в пророки товарищи мои», вольно или невольно задним числом согрешил против исторической истины: «товарищи» готовились не к тому, чтобы пророчествовать, а чтобы управлять и властвовать. Они, в сущности, жили теми же чувствами, что и предшествующее поколение, о котором Аделина Адалис в 1934 году с восторгом писала: «Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, «интеллектуальное пиршество» фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали «управителями», «победителями», «владельцами» шестой части земли» [8]8
Однако в ту эпоху среди еврейства находились мыслители, на дух не принимавшие такого рода формулировки: «Все охамившиеся евреи, заполнившие ряды коммунистов, – все эти фармацевты, приказчики, коммивояжеры, недоучившиеся студенты, бывшие экстерны и вообще полуинтеллигенты – действительно причиняют много зла России и еврейству» (Пасманик Д. Русская революция и еврейство. Париж, 1923. С. 198–199).
[Закрыть] .
Одним словом, самые «продвинутые» ифлийцы готовы были строить социализм в отдельно взятой стране, но с условием, чтобы этот социализм был только для них. Идея «дойти до Ганга» зашла в тупик, куда ее совершенно сознательно направил опытный стрелочник. А если кто-то из ифлийцев, к примеру, Кульчицкий еще приветствовал присоединение к СССР Прибалтики («Ведь на карте, оставленной Сталиным, на еще разноцветной карте за Таллином пресс-папье покачивается, как танк»), то выглядела подобная картина историческим абсурдом. Место Троцкого в стихах Кульчицкого занял… Сталин: «Так встанут над обломками Европы прямые, точно Сталина доклад, конструкции, прозрачные, как строфы, из неба, стали, мысли и стекла». Вот какими иллюзиями жили ифлийцы! Если не до Ганга, то хоть до Таллина дошли. Однако, когда самые умные из них поняли, что произошло, что Таллин – это не факт «мировой революции», то Сталину за подмену коминтерновской идеи идеей патриотической они отомстили задним числом всеми средствами, которые остались у побежденных.








