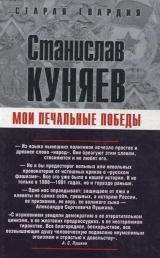
Текст книги "Мои печальные победы"
Автор книги: Станислав Куняев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В 1948 году Заболоцкий, давно отошедший от обернутое, не любивший ни футуризма, ни акмеизма, написал стихотворение и демонстративно назвал его «Читая стихи».
Я уверен, что в нем он выразил свое отношение к поэзии Осипа Мандельштама, к его вдохновенному косноязычию, к ироническому легкомыслию, в которое нередко впадал собрат по призванию, к его «приступам жеманства» и «скомканной речи»:
Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих,
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.
И в бессмыслице скомканной речи
Изощренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
И возможно ли русское слово
Превратить в щебетаньещегла [1]1
Выделено мной. – Ст. К.
[Закрыть],
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не смогла?
Конечно же, это об Осипе Эмильевиче, много раз уподоблявшему себя щеглу – «мой щегол, я голову закину», «до чего ты щегловит», «когда щегол в воздушной сдобе», «это мачеха Кольцова, шутишь: родина щегла». Но, несмотря на понятную для нравственного максималиста Заболоцкого неприязнь к поэзии Мандельштама, судьбы обоих поэтов во многом были похожи одна на другую.
Обоих не понимала и преследовала вульгарная рапповская и соцреалистическая критика, обоих породнила тюремная и лагерная участь, оба поэта жаждали участвовать в исполинском социальном эпосе – строительстве советской цивилизации, оба, каждый по-своему, в годы страданий нашли опору в «Слове о полку Игореве»… «Как Слово о Полку струна моя туга», – гордо вещал Осип Эмильевич из Воронежа, а Николай Алексеевич, переводивший в неволе поэму на современный стихотворный язык, писал из Караганды в письме к Н. Степанову:
«Есть в классической латыни литые, звенящие как металл строки: но что они в сравнении с этими страстными, невероятно образными, благородными древнерусскими формулами, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней! Читаешь это слово и думаешь: – Какое счастье, боже мой, быть русским человеком!»
К Николаю Заболоцкому судьба была, пожалуй что, более несправедлива нежели к Мандельштаму. Он не дразнил власть, как Осип Эмильевич, не сочинял убийственных стихотворных памфлетов. Наоборот, в 1936 году Заболоцкий написал «Горийскую симфонию» – живое и вполне искреннее стихотворение, в котором воспел Грузию, ее народ и молодого юношу из Гори. И хотя различные критики-функционеры (А. Тарасенков, Е. Усиевич, О. Бескин, С. Розенталь, Д. Данин – в основном евреи) всячески пытались доказать, что его натурфилософские стихи 30-х годов враждебны социализму, ничто не предвещало внезапного его ареста в марте 1938 года. Лишь спустя много лет выяснилось, что органы НКВД задумали создать «ленинградское дело», в центре которого находился бы известный поэт Николай Тихонов, и ради этого были арестованы многие литераторы северной столицы. Из них следователи стали выбивать «показания». Обвинительное заключение Заболоцкому было подписано помощником Ленинградского управления НКВД, неким Хатеневером.
Поэта пытали бессонницей при круглосуточном ярком электрическом свете, бесконечными допросами, избивали дубинками, терзали мощными струями воды, но он не дал ни на Тихонова, ни на кого другого никаких показаний, а когда впал в полное душевное расстройство, то был помещен в институт судебной психиатрии, сначала в буйное, потом в тихое отделение… Такого, слава Богу, Осипу Мандельштаму испытать не довелось. В октябре 1938 года и Заболоцкий, и Мандельштам были отправлены в битком набитых теплушках на Восток.
Мороз. Вши. Голод. Жажда. Грязь. Вот как вспоминал сам поэт об этом пути:
«Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледеневших оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную, занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья… Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света…» («История моего заключения»).
Мандельштам умер в декабре 1938 года в пересыльном лагере под Владивостоком (его жена в «Воспоминаниях» благодарит судьбу за то, что из-за слабого здоровья он не доехал до Колымы). А эшелон Заболоцкого, который отправлялся в ту же самую пересылку, где поэты могли встретиться, был внезапно повернут на Север к Комсомольску-на-Амуре, в котором началась его трехлетняя лагерная жизнь.
Лесоповал на морозе, отчаянные попытки выполнить норму, чтобы не угаснуть от дистрофии, потом работа в каменном карьере – кайло, лопата, долбежка шпуров для взрывчатки, сторожевые собаки. Шло строительство довоенного БАМа… Словом, жизнь Ивана Денисовича, но во время которой поэт успевал увидеть многое:
«По ночам черное-черное небо, усеянное скопищем ярких звезд, висит над белоснежным миром. Лютый мороз. Над поселком, где печи топятся круглые сутки, стоит многоствольная, почти неподвижная колоннада дымов. Почти неподвижен и колоссально высок каждый из этих белых столбов, и только где-то высоко-высоко вверху складывается он пластом, подпирая черное небо. Совсем-совсем низко, упираясь хвостом в горизонт, блистает Большая Медведица. И сидит на столбе, над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная полярная сова, стерегущая крыс, которые водятся тут, у жилья, в превеликом множестве…».
Три года такой жизни. А потом облегчение – работа чертежником, но начинается война, ужесточение режима, и опять земляные работы. В 1943 году лагерь перебрасывают на Алтай, где поэт вычерпывает со дна озера (там он, по собственным словам, «оставил свое сердце») содовый раствор. Затем его, уже вольнонаемного, но еще ссыльного, перевозят в Казахстан, где лишь в 1945 году он получает полное освобождение.
Семь лет неволи. Но какой силой духа нужно было обладать ему, если в письме жене в ответ на отчаянные женские жалобы о семи годах жестокой разлуки («жизнь так и прошла мимо») он со смиренным достоинством отвечает:
«Ты пишешь – «жизнь прошла мимо». Нет, это неверно. Для всего народа эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже многое пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах, – ты поймешь, что недаром прошли эти годы; они не только выматывали твои силы, но и в то же время обогащали тебя, твою душу, – и она, хотя и израненная, будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде.
Время моего душевного отчаяния давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю».
Да, до такой высоты мужественного смирения не подымались ни Солженицын, ни Шаламов, ни Домбровский, ни Волков…
И отношение к Сталину у Заболоцкого было своим, особым. Поскольку он не писал стихотворных фельетонов о нем, то не испытывал перед вождем никакой вины, и ему не было нужды впадать в истерическое покаяние. Сын поэта Никита Заболоцкий в книге «Жизнь Н. А. Заболоцкого» слишком самоуверенно решает за отца, что «никакого преклонения перед «вождем народов мира» поэт не испытывал». Но не случайно же, что имя Сталина появляется в первой редакции стихотворения «Творцы дорог», написанного уже после освобождения:
Кто днем и ночью слышал за собой
Речь Сталина и мощное дыханье
Огромных толп народных, – тот не мог
Забыть о вас, строители дорог.
И в этих строках я не слышу ни одного фальшивого звука. Жена Заболоцкого Екатерина Васильевна после его смерти вспоминала: «Он говорил, что ему надо два года жизни, чтобы написать трилогию поэм «Смерть Сократа», «Поклонение волхвов», «Сталин». Меня удивила тема третьей поэмы. Николай Алексеевич стал мне объяснять, что Сталин – сложная фигура на стыке двух эпох. Разделаться со старой этикой, моралью, культурой было ему нелегко, так как он сам из нее вырос. Он учился в духовной семинарии, и это в нем осталось».
Разговор происходил после 1956 года. Однако понимание эпохи социализма в творчестве поэта было еще более сложным, и сводить эту сложность к стихам о Сталине было бы легкомысленным упрощением.
* * *
В 1931 году Осип Мандельштам написал знаменитое стихотворение о «веке-волкодаве», в котором предъявлял счет эпохе. При всей вдохновенной экзальтированности текста в нем четко прописано, какие жертвы готов принести поэт на алтарь истории. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей», «за жизнь без наживы» он готов отказаться «от чаши на пире отцов» (то есть от своего иудейского избранничества, от частицы племенного величия); он приносит эпохе и свою личную жертву – «честь и веселье». Это – договор со временем (своеобразный мандельштамовский Новый завет), гарантирующий ему личное поэтическое бессмертие, и за него можно заплатить самую дорогую цену.
Заболоцкий же не ставил никаких условий, не помышлял о стоимости билета в грядущее, без осуждения и гордыни принимая «все, что Господь ни пошлет», не сводя никаких счетов с «веком-волкодавом». Он нес крест самопожертвования с соборным чувством общей судьбы и со смиренным достоинством:
Нас ветер бил с Амура и Амгуни,
Трубил нам лось, и волк нам выл вослед.
Но все, что здесь до нас лежало втуне,
Мы подняли и вынесли на свет.
В стране, где кедрам светят метеоры,
Где молится березам бурундук,
Мы отворили заступами горы
И на восток пробились и на юг.
Охотский вал ударил в наши ноги.
Морские птицы прянули из трав,
И мы стояли на краю дороги,
Сверкающие заступы подняв.
Стихи написание 1947 году, уже после освобождения, так что поэта нельзя подозревать в корысти, что сочинял их в расчете на смягчение своей участи, на лагерные льготы либо на досрочное освобождение… Нет, он писал их как свободный человек, поражаясь своему собственному участию в сотворении мира:
Поет рожок приятно и уныло —
Давно знакомый утренний сигнал!
Покуда медлит сонное светило,
В свои права вступает аммонал.
Над крутизною старого откоса
Уже трещат бикфордовы шнуры.
И вдруг – удар, и вздрогнула береза,
И взвыло чрево каменной горы.
Поет рожок над дальнею горою,
Восходит солнце, заливая лес,
И мы бежим нестройною толпою,
Подняв ломы, громам наперерез…
Стихотворение называется «Творцы дорог» – и в нем никакой речи о «шмоне», о «пайках», о «вертухаях», никаких номеров на лагерных бушлатах, никаких покойников с бирками на ногах, разборок с уголовниками, разговоров с «кумом» и прочих атрибутов низкого гулаговского стиля. «Громам наперерез», «сверкающие заступы подняв» – словно Боги, богатыри или титаны, а не какие-то Иваны Денисовичи.
В стихотворении нет и намека на мандельштамовский спор личности с эпохой, оно выражает (кощунственно сказать!) высшую героическую красоту общенародного артельного подвига, совершаемого ради будущих поколений, которым придется жить за счет рудников Норильска, освещать и обогревать жилье энергией волжских гидростанций, выходить к Охотскому морю по дорогам, пробитым через сопки руками поэта и его подневольных товарищей.
Самоотречение, подобное тому, которое живет разве что в древнегреческих трагедиях, в голосах античного хора…
Оба поэта и Заболоцкий, и Мандельштам, осмысливая XX век, не могли обойтись без постоянной оглядки на античные времена, когда рождалось понятие высокой трагедии. «Гомер степей на пегой лошаденке», «лысое темя Сократа», «читайте, деревья, стихи Гезиода», «Пифагорово пенье светил», «Одиссей и сирены» – это Заболоцкий. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «Останься пеной, Афродита», «Когда бы грек увидел наши игры», «Ахейские мужи во тьме снаряжают коня» – это Мандельштам, уверенный в том, что «поэзия – это чувство правоты», тоскующий по «большому стилю», в который невозможно войти, минуя трагедию, и поэт с ужасом и восторгом призывает ее:
Где связанный и пригвожденный стон,
Где Прометей – скалы подспорье и пособье?
А коршун где – и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?
Тому не быть: трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.
Мандельштам жаждет глотнуть воздуха трагедии, чтобы приобщиться к ее древним тайнам, и призывает к себе на помощь тени ее отцов Эсхила и Софокла, дерзко пророчествуя о том, что сегодняшние ее творцы и герои могут быть грузчиками или лесорубами… Да, он угадал направление поиска, но не успел выразить в творчестве эпическую, свободную от своевольных лирических излияний, чистую суть трагедии. За него это сделал другой поэт в буквальном смысле Софокл-лесоруб советской эпохи, работавший не где-нибудь, а на таежном лесоповале:
За высокий сугроб закатилась звезда,
Блещет месяц – глазам невтерпеж.
Кедр, владыка лесов, под наростами льда
На бриллиантовый замок похож.
Посреди кристаллически-белых громад
На седом телеграфном столбе,
Оседлав изоляторы, совы сидят,
И в лицо они смотрят тебе.
Запахнув на груди исполинский тулуп,
Ты стоишь над землянкой звена.
Крепко спит в тишине молодой лесоруб.
Лишь тебе одному не до сна.
Обнимая огромный канадский топор,
Ты стоишь, неподвижен и хмур.
Пред тобой голубую пустыню простер
Замурованный льдами Амур.
И далеко внизу полыхает пожар,
Рассыпая огонь по реке,
Это печи свои отворил сталевар
В Комсомольске, твоем городке.
Это он подмигнул в ледяную тайгу.
Это он побратался с тобой,
Чтобы ты не заснул на своем берегу,
Не замерз, околдован тайгой.
Так растет человеческой дружбы зерно.
Так в январской морозной пыли
Два могучие сердца, сливаясь в одно,
Пламенеют над краем земли.
(Слова-то все какие эпические: «огромный», «исполинский», «могучие»!)
Судьба привела Заболоцкого туда, куда Мандельштам направил свое «моление о чаше»: «в ночь», где, правда, течет не «Енисей», но «Амур» и где «до звезды» достает не «сосна», а «кедр»; где над тайгой сияют не «голубые песцы» – а «за высокий сугроб закатилась звезда», но зато есть – льды Амура, лежащие перед глазами «голубой пустыней». Все эти совпадения и переклички слов и образов наводят на мысль, что Заболоцкий знал стихотворение Мандельштама и в известной степени обратился к знакомому сюжету, чтобы изложить его по-своему…
Героика повседневного и естественного самопожертвования досталась в удел Заболоцкому и стала сердцевиной его дальнейшего творчества. Сразу же после освобождения из ссылки он пишет стихотворение «Журавли», в котором еще раз воплощает свое понимание трагедии и философию героизма.
Да, «черное зияющее дуло», словно символ безымянного, безликого, слепого рока, посылает в сердце вожака журавлиной стаи «луч огня», да, это – высокая трагедия, но не только потому, что «частица дивного величья с высоты обрушилась на нас», но еще и потому, что горе утраты преодолевается в очистительном катарсисе, в причастии к бессмертию «стаи», «племени», «народа».
Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.
У Заболоцкого его личная трагедия – победа – одновременно трагедия-победа артельная, коллективная или даже общенародная: «Срываясь с круч, мы двигались вперед», «Мы отворяли заступами горы», «И мы стояли на краю дороги». У него кроме двух сил – тиранической эпохи и его собственных – есть третья: античный хор, рок, судьба. Два старика замерзают «где-то в поле возле Магадана». Но, несмотря на все жестокие обстоятельства лагерного быта, естественные и главные у Солженицына или Шаламова («околоток», «наряды в город за мукой», «воровская шайка», «бандитские глотки» и т. д.), их смерть не бытовое явление, не лагерная обыденность, а величественная трагедия (подобная гибели вожака журавлиной стаи), последний акт которой завершается в таком театре и с такими «зрителями», что не снились никаким Софоклам и Эсхилам – чего уж говорить о наших лагерных бытописцах! На героев стихотворения взирают северные светила, сполохи полярного сиянья освещают необозримую сцену, вьюга отпевает последние мгновенья их жизни:
Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный,
До людей уже не доходил.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела…
Объяла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела…
Они уже неподвластны лагерной администрации, мирской власти, времени, истории, потому что уходят в вечность, в эпические миры, где блуждают души Антигоны и Эдипа, Гамлета и Отелло, Бориса и Глеба. Стихи звучат как гимн освобождения:
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.
Заболоцкий совершает чудо, выходя в пространство мирового эпоса, в отличие от Мандельштама, который мечтал прорваться в мир трагедии вплоть до последних дней жизни, но не успел осуществить свой замысел и утвердил за собою право говорить всего лишь о своей судьбе: «Мне на плечи бросается век-волкодав», «Сохрани мою речь навсегда», «Я лишился и чаши на пире отцов», «Куда мне деться в этом январе», «Это какая улица? Улица Мандельштама». Закваска вечного протестантизма; суть которой выражена у него в стихах – «против шерсти мира поем», – была неизживаема.
Эпическая роль «вожака» стаи или племени, неестественная для Мандельштама, для Заболоцкого была органична.
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно;
И заря над ним образовала —
Золотого зарева пятно.
Зарево, окаймляющее мученические и одновременно героические лики творцов лагерных дорог, магаданских стариков, которые умирают так же, как умирал Седов из стихотворения Заболоцкого, написанного в 1937 году:
Он умирал, сжимая компас верный,
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный
Через туман просвечивал с трудом.
И недаром стихотворение завершается мольбою автора судьбе, у которой он просит одного: «Так умереть, как умирал Седов».
Все тридцатые годы Заболоцкий неуклонно шел к героическому эпосу, под его пером даже обычные газетно-политические эпизоды советской жизни, имевшие, если говорить сегодняшним языком, лишь «пиаровское» звучание, преображались в сказочные картины:
Там тень «Челюскина» среди отвесных плит,
Как призрак царственный, над пропастью стоит.
Православное подвижничество Заболоцкого заключается в том, что его эпос не эгоистичен, но человечен. В нем, оттесняя автора на второй план, живет множество самых простых, земных, невеликих людей, в чертах которых поэт ищет и находит «образ Божий»: прачки из маленького русского городка, старухи, которая в ссылке протянула ему ломоть поминального хлеба, девочки Маруси, ходоков, пришедших к Ленину. Словом, «старые люди и дети».
Его демонстративно нравоучительные стихи о некрасивой девочке, пламень души которой «всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень», полны простого и высокого очарования. Но они и о себе. Душа поэта тоже перетопила все несправедливые обиды, все унижения в чистое вещество поэзии.
Однако я рискну сделать к этому бесхитростному стихотворению еще один комментарий.
Заболоцкий, – о чем Борис Слуцкий пишет в своих воспоминаниях, – «говорил, что женщина стихи писать не может. Исключений из этого правила не делал ни для кого».
Лидия Корнеевна Чуковская как бы подтверждает это, размышляя об отношениях Заболоцкого и Ахматовой в своих воспоминаниях:
«Бешеная речь Анны Андреевны против «Старой актрисы» Заболоцкого. Она вычитала нечто такое, чего там, на мой взгляд, и в помине нет:
– Над кем он смеется – над старухой, у которой известь в мозгу, над болезнью? Он убежден, что женщин нельзя подпускать к искусству – вот в чем идея! Да, да, там написано черным по белому, что женщин нельзя подпускать к искусству! Не спорьте! И какие натяжки: у девяностолетней старухи десятилетняя племянница. Когда поэт высказывает ложную мысль – он неизбежно провирается в изображении быта…
Она не давала отвечать, она была в бешенстве. Другого слова не подберу…
– Где там написано, что старухе девяносто лет, а девочке десять? – успела я только спросить. Ответом был гневный взгляд».
Но дело было не в том, «допускать» или «не допускать женщин к искусству»… Спор был мировоззренческим – с глубочайшими причинами. У Ахматовой есть стихотворение, написанное в 1942 году в Ташкенте.
Какая есть. Желаю вам другую —
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики.
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!
Над Азией – весенние туманы
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотою
Природы и с невинностью святою,
О, что мне делать с этими людьми!..
Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества,
Целительница нежного недуга.
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова.
Седой венец достался мне недаром,
И щеки, опаленные загаром,
Уже людей пугают смуглотой.
Но близится конец моей гордыне:
Как той, другой – страдалице Марине,
Придется мне напиться пустотой.
Однажды Александр Межиров, когда мы говорили об Ахматовой, прочитал вслух это стихотворение и сказал, что у нее «животное чувство красоты». Может быть. Но меня в стихотворении «Какая есть…» всегда задевало иное: чувство холодного высокомерия, почти презрения к миру простого человеческого бытия.
«Какая есть. Желаю вам другую» – неприятно-надменная интонация. «Пока вы мирно отдыхали в Сочи» – звучит как обвинение в том, что мирно отдыхающие и не подозревают, что за «ночи» ползут к ней. А от обычного, народного слова «люди» («добрые люди») – ее просто трясет, как нечистую силу от ладана: «о, что мне делать с этими людьми!», а заодно и с «чистотою природы», и с «невинностью святою»… Еще бы! Она приоткрывается как блюстительница «ночей» (уж не «египетских» ли?), во время которых «всегда вклинялась в запретнейшие зоны естества», враждебные «святой невинности». Не эта ли тьма своими лучами опалила ее щеки до потустороннего загара, и они «уже людей пугают смуглотой»? Стихотворение звучит как вызов простой «людской», «святой и невинной» жизни, брошенный от имени «ночи» и «гордыни». И потому неизбежно ее обращение к образу Марины Цветаевой, которая была как бы ее сводной сестрой по жизни «в запретнейших зонах естества», в апофеозе и культе смертных грехов, столь родных творцам Серебряного века русской поэзии. «Седой венец достался мне недаром…».
А ведь умный циник Валентин Катаев, младший из сыновей порочного Серебряного века, тоже додумался до того, что рано или поздно и он будет увенчан таким же седым венцом, о чем и написал в книге «Алмазный мой венец»:
«Мне вдруг показалось, будто звездный мороз вечности сначала слегка, совсем неощутимо и нестрашно коснулся поредевших, серо-седых волос вокруг тонзуры моей непокрытой головы, сделав их мерцающими, как алмазный венец… звездный холод стал постепенно распространяться сверху вниз по всему моему помертвевшему телу с настойчивой медлительностью, останавливая кровообращение… делая меня изваянием, созданным из космического вещества безумной фантазией Ваятеля…».
Ну что ж, вполне допустима и такая картина Ада, где раскаленные сковородки заменены адским абсолютным холодом… Чует кошка, чье мясо съела.
Да и Анна Андреевна догадывалась, из рук какого «ваятеля» этого венца ей придется принимать «не людскую» награду:
И ты придешь под черной епанчою,
С зеленоватой страшною свечою,
И не откроешь предо мной лица.
Но мне недолго мучиться загадкой:
Чья там рука под белою перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца?
Вот за эти-то ночные загадки, за темные тайны, за шашни с «ночными пришлецами», за жизнь «в запретнейших зонах», за высокомерное презрение к «обычному людскому естеству» Заболоцкий всю свою жизнь отворачивался от Ахматовой и старался не замечать ее, видимо, ощущая опасность темной, непросветленной нравственным светом, вызывающе-грешной, «животной» красоты ее поэзии. Не потому ли он демонстративно назвал одно из своих стихотворений «Некрасивая девочка». Оно – антиахматовское по замыслу, по идеям, по чувствам. Ахматова наслаждается жизнью в мире сатанинской, темной, чувственной красоты, Заболоцкий ищет спасения в мире красоты духовной, светлой, божественной. Его девочка, «напоминающая лягушонка», всего лишь «бедная дурнушка», у которой
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Но она «ликует и смеется, охваченная счастьем бытия», для нее «чужая радость также, как своя», она не знает «ни тени зависти, ни умысла худого», а потому образ Божий запечатлен в каждой ее черте, в каждом движении куда явственней, нежели на лице, окаймленном «седым венцом» со «смуглотой», неизвестно почему пугающей людей.
«Придется мне напиться пустотой», – с надменностью, под которой прячется страх, говорит о себе героиня ахматовского стихотворения. Заболоцкий также не может обойтись без роковых слов «красота» и «пустота», но его вера в то, что душа человеческая хранит в себе свет, спасает его от соблазна игры с темными силами.
Стихи Заболоцкого – простые, нравоучительные, почти декларативные, но в их простоте сила молитвы и стилистика Евангелия. Проще молитвенных слов у человечества нет ничего.
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
У поэта доставало смирения, чтобы вопросительной интонацией этих строк отдалить их от молитвы на почтительное расстояние… Жалко ему было искусства, которому он служил, но у него хватало сил ставить его в подчинение нравственному, то есть божественному чувству.
Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства.
Две последние строки о старой актрисе, но они могли бы быть написаны и об Ахматовой, о той, которая не без кокетства признавалась в старости перед смертью:
Как вышедшие из тюрьмы,
Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное. Мы в адском круге,
А может, это и не мы.
(1963)
Почему-то мы часто иронизируем над строчкой Маяковского «Товарищ Ленин – работа адовая…».
Но слова «адский», «адовый» в поэзии Ахматовой встречаются гораздо чаще, нежели у Владимира Владимировича.








