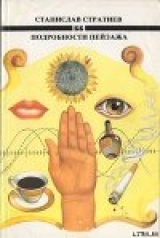
Текст книги "Дикие пчелы"
Автор книги: Станислав Стратиев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
В такой тележке прошло его детство. Летом она поскрипывала между виноградником и кукурузным полем, катилась мимо желтых подсолнухов, по пыльным дорогам и останавливалась у мальчишкиного дома, на самом берегу Дуная. Мать стирала на реке белье, равномерно взмахивая вальком, и он поблескивал на летнем солнце.
Воспоминания детства связаны с животными, которых держали на дворе, – овцами, курами, гусями и собакой, очень старой, с умными, как у человека, глазами. Вспомнились ему лютые холода и свистящий ветер, гнавший снег по замерзшей реке, мамалыга и горячее молоко, которое мама давала ему по утрам, когда на большой реке от мороза трещал лед. Он хорошо помнил три потрепанные книжки с картинками, сказки, которые вечерами ему рассказывала мама, вспомнил, как ловил с ребятами рыбу под корягами в реке, вспомнил купания и ночные костры, когда из всех звуков вселенной были слышны лишь кроткое дыхание овец да стрекот цикад.
Он настиг поезд, который догонял в детстве на горячих конях, теперь он сидит в нем, и мимо летят кукурузные поля, оранжевое пламя подсолнухов, скрипучие, запряженные осликами тележки, дети, которые машут ему и смеются.
Вдруг он подумал о человеке, сидевшем у окна поезда, что промчался мимо их тележки.
Где он сейчас и вообще жив ли? Как он жил? Был ли счастлив, обзавелся ли детьми? Любил ли свою жену? Страдал или прожил жизнь беззаботно, легко и весело?
Сидя у окна и глядя на бегущие мимо поля, он подумал еще вот о чем: через много лет мальчишка, который только что махал ему рукой из тележки, вырастет, подумает ли он о нем? О том, как прошла его жизнь? Задаст ли себе тот повзрослевший мальчишка те же вопросы, поинтересуется ли, как он жил, был ли счастлив, страдал ли, любил ли свою жену, везло ли ему в жизни?
Поезд мчался вперед. Ответа не было. Был ли он счастлив? Страдал ли? Везло ли ему в жизни?
Сценарист почувствовал, что невольно задает себе эти вопросы.
Был ли он счастлив, как прошла его жизнь? Глупости, к чему этот самоанализ, к чему подводить этот баланс. Какая-то чепуха!.. Был ли счастлив?
Закончив деревенскую школу, он поступил в городскую гимназию. Осенью и весной месил грязь, ходил за семь километров лесом, через болота, мимо большой реки, которая весной затопляла поля. Вечером возвращался в деревню. Зимой мороз сковывал все вокруг. Мели метели, и по льду реки рыскали голодные волки. Проделывать тот же путь было небезопасно, и он жил у дальних родственников в городе. За мешок кукурузной муки они сдавали ему комнатку. Жил он со своим товарищем, тоже гимназистом, отец которого расплачивался за угол мукой да еще салом. Уже тогда сценарист привык жить у чужих людей, проходить, затаив дыхание, мимо их комнаты, чувствовать себя постоянно виноватым, не совершив ничего плохого, улыбаться, когда ему этого совсем не хотелось.
Так что еще до приезда в Софию и поступления в университет он уже усвоил науку жизни – обитал у чужих людей, в мансардах и полуподвалах, стирал белье почти без мыла, мерз ночами под тонким одеялом и заискивал перед хозяевами. Он подчинился такой жизни, даже его организм приспособился к ней – больше одного раза он не ходил в вечно занятую уборную в больших студенческих мансардах, где образовывались очереди, где к тому же был один-единственный умывальник. В Софии он стал жить двойственной жизнью. В одной он носил старый вылинявший плащ, превратившийся в тряпку от частых стирок, питался фасолью и работал судомойкой в студенческой столовой, жил в маленькой мансарде, стирал рубашки в оцинкованном ведре и сушил их на крыше, следя, чтобы их не загадили голуби. Усталый и промерзший, он засыпал в теплой университетской библиотеке, но спал так, что об этом не мог догадаться даже сосед.
Зимой старый вылинявший плащ не спасал от холода. Под него приходилось надевать все, что было. Неудобство состояло в том, что он нигде не мог раздеться. Люди подумали бы, что он обокрал какого-то старьевщика. А сидеть по пять часов в теплом помещении во всех этих одеждах и плаще было свыше его сил, он выдержал так только несколько дней. Его спасала библиотека – теплая, надежная университетская библиотека – полчаса он дрожал от холода в трамвае, пока добирался до университета в своем вылинявшем плаще, но затем блаженствовал в тепле и уюте: читал, спал, мечтал…
Он экономил деньги на дровах, на теплой одежде и много читал. С тех пор запах книг ассоциировался у него со спокойствием и комфортом. Он с удовольствием погружался в него, книги стали его друзьями, защищали от реальной жизни. Среди них он чувствовал себя спокойно и уверенно.
Там, в библиотеке, он написал свой первый очерк, который отнес в студенческую газету. К его великому удивлению, очерк сразу же напечатали. Так началось его сотрудничество с редакциями, постепенно он углублялся в дебри журналистики, стал своим человеком в комнатах со стучащими пишущими машинками, в буфетах, где продавали кофе и сосиски с горчицей, привыкал к телетайпам и суете в коридорах, ему нравился острый запах типографской краски и шуршание только что отпечатанной газеты, и каждый раз ему доставляло удовольствие видеть на ее полосе свою фамилию.
Он ходил в театры, часами просиживал в кино, бывало выпивал с друзьями стаканчик вина в закусочной у Орлова моста и возвращался в свою мансарду.
Там, где ворковали голуби и шелестели листвой верхушки тополей, где дождь стучал по люку в крыше точно у него над головой, начиналась его вторая жизнь.
В ней он забывал о вылинявшем плаще, становился известным писателем, получал премии в Риме и Париже, раскланивался на своих премьерах в Нью-Йорке и Лондоне.
Постепенно вымышленный мир раздвигал свои границы, в нем появлялись новые люди, вещи, события. В нем все было так достоверно, все детали настолько подробны и взаимосвязаны, что если бы он рассказал обо всем кому-нибудь, ему поверили бы, без всяких сомнений. В сущности, его вымышленная жизнь переплеталась с реальной, повторяла ее, но все в ней начиналось с вымысла, вымысел лежал в ее основе.
Так он жил на границе между фантазией и действительностью.
На последнем курсе университета, когда он витал в облаках своей странной вымышленной жизни, его опустила на землю энергичная девушка, оканчивавшая факультет французской филологии, она женила его на себе.
Увидев его в готических коридорах старого крыла университета, она поняла, что этот симпатичный и физически сильный парень, в сущности, беспомощен.
– Как ребенок, потерявший маму, – говорила она.
Она сразу же спросила, не найдется ли у него лишней сигаретки.
Случайно нашлось, они закурили, и он по привычке сразу же стал фантазировать, как пригласит ее в кино, потом в кафе, а через две недели, может быть…
Больше фантазировать ему не пришлось, потому что девушка внимательно посмотрела на него, взяла за руку и сказала:
– Идем.
Она привела его в его собственную мансарду, и пока он мучительно думал, куда спрятать сохнувшие на крышке люка черные носки, она разделась, легла в постель и стала с интересом наблюдать, как он мечется по комнате, краснеет и не знает, что делать – снимать ли ботинки, расстегивать ли рубашку или бежать из комнаты.
Она засмеялась, поцеловала его и расстегнула ему рубашку.
А потом жизнь вошла в свое русло – они поженились, он спустился на землю и начал медленно, но верно продвигаться к успеху. Умный и упорный, он шел к поставленной цели, от своего не отступал, работал, не щадя себя, и все, что делал, доводил до совершенства.
Родители жены были шокированы ее выбором. Они так и не поверили, что она влюбилась, решили, что он вынудил ее выйти за него.
В доме с белыми гардинами, венскими стульями и кафельными печками, с пианино и писанными маслом портретами членов семейства, с мягкими коврами и шкафами, набитыми фамильным серебром, он буквально задыхался. Чувствовал скрытую неприязнь, улавливал ее в кривых усмешках многочисленных тетушек и дядюшек, бабушек и дедушек, приходивших рассматривать его, будто его поймали в джунглях. В их глазах читалась насмешка, насмешка и жалость к Марианне, так звали его жену.
Ему было плохо в этой семье, чувство вины не покидало его даже ночью, ему казалось, что он преступник, который забрался в дом своей жертвы.
Родственники жены были уверены, что этот брак недолговечен, и делали все возможное, чтобы ускорить развязку.
Но Марианна не разрешала вмешиваться в ее личную жизнь, к ужасу родни молодые ушли из дома и стали снимать угол.
Жили трудно, работали много, плата за квартиру была высокой, к тому же скоро у них появился ребенок. Но они выдержали, не вернулись в дом, который был чужд ему, в котором ему не простили крестьянского происхождения, тележки, запряженной осликом, и всего того, что было его сущностью. Воскресный кекс, два бесконечных часа в гостиной с гардинами и серебряными приборами, фальшивая улыбка, сходившая с его лица, как только за ним закрывалась дверь, – все, что запомнилось об этом доме.
Время шло, родилась вторая дочка. Он писал рассказы, яростные, острые, с конфликтами, как его собственная жизнь. Рассказы нравились. Тогда же он начал работать для кино, его рассказы экранизировали, фильмов становилось все больше, и кино стало его профессией…
Поезд убавил скорость, мимо окон проплыли товарные вагоны и запыленные стены элеватора, через открытое окно в купе ворвался пар – по соседней линии пропыхтел паровоз. Показался вокзал…
Сценарист купил завтрак в целлофане, торопливо развернул его и стал быстро жевать горячую жареную колбасу. Хлеб был черствый, наверное трехдневной давности. Сценарист уже давно установил закономерность вокзальных бутербродов: если колбаса горячая, значит хлеб черствый, и наоборот – если хлеб свежий, колбаса обязательно окажется холодной.
Поезд снова тронулся, колеса застучали по железному мосту над рекой. Внизу, в тростнике, кто-то купал коня. Конь нервно мотал головой, наконец вырвался и поплыл по течению. Поезд набирал скорость, позади остались и конь, и чертыхающийся человек. Снова за окном замелькали черные борозды полей, деревья с пожелтевшей листвой. В стороне от дороги валялись красные бочки из-под бензина.
"Наступает осень… – подумал сценарист. – А кажется, что еще вчера была пасха и на деревьях распускались почки… Непонятно, что происходит, жизнь буквально летит, а мы не замечаем этого…"
Вода и деревья в осеннем убранстве снова вернули его на большую реку, на катер, медленно плывущий среди осеннего великолепия. Перед мысленным взором предстало маленькое подсолнечное поле, залитое трепещущим светом, и мертвая девушка с открытыми глазами, и дикие, яростно жужжащие пчелы.
"Девушка… – думал он. – Девушка, которая не могла смириться с ложью… не хотела… Девушка, которая не согласилась…"
Он пытался представить ее себе подробнее, но кроме бледного лица с горящими черными глазами, лица, которое показывалось в окне второго этажа гостиницы каждый раз, когда группа возвращалась со съемок, кроме удаляющейся во мрак фигурки он ничего вспомнить не мог.
Потом подумал о режиссере, который сошел на маленькой станции. Вспомнил концы носового платка, которым была перевязана его рука, – они напоминали заячьи уши, и режиссер тоже был похож на зайца… испугался, вернулся…
Сейчас, наверное, сидит на складном стуле с брезентовым сиденьем, на котором большими буквами написано "Режиссер", и олицетворяет собой великого режиссера – строгого, ироничного, тонкого художника, отца актеров и всей съемочной группы…
Свежий ветер врывался в окно, в купе стало прохладно – сценарист наполовину прикрыл окно.
Сел, почувствовал, что сожалеет о том, как расстался с режиссером. В чем, собственно, виноват режиссер? Он снимает то, что для него напишут…
Эта мысль, как за ниточку, потянула за собой другую. На душе стало тревожно.
И как ни пытался он подавить в себе эту тревогу, она все нарастала. Он думал о своей жизни. И внезапно понял, что она была совсем не такой, какой он себе ее представлял. Чей-то безжалостный голос отвергал все доводы и аргументы, которые он выдвигал. В его жизни было много лжи, самообмана, зависти. Постепенно он отошел от простых людей, забыл свои корни. Он стал, сам того не желая, эгоистом, который радуется только своим успехам, интересуется только собственной жизнью, человеком, который идет на компромиссы ради собственного благополучия.
Вдруг он почувствовал неприязнь к этой девушке, которая нежданно ворвалась в его налаженную жизнь, внесла в нее смятение и тревогу. Он почувствовал, что ненавидит эту девушку с ее простой и страшной истиной, сразу все перевернувшей. Его доводы и логические построения рассыпались как карточный домик перед девушкой, лежащей с открытыми глазами там, где кончается речная галька и начинается трава.
Все так хорошо складывалось в его жизни – у него дом, двое детей, которые учатся в английской школе. Выходные дни он проводит с семьей на даче, в одном из ближних сел, в пятидесяти километрах от Софии. Удача сопутствовала ему в работе. Фильмы его ценили. Его считали честным человеком, и самое главное: он сам считал себя таковым, был доволен собой и жизнью.
Он хорошо устроился в этой жизни и не хотел, чтобы его беспокоила совесть, не желал ничего менять.
Хотел, чтобы и жизнь других людей отвечала его желаниям. Не хотел даже слышать об отчаянии, ему было хорошо, и его раздражало, что где-то все еще есть бедность, есть страдания, которые могут побеспокоить его чувствительную совесть. Поэтому он предпочитал не знать об этом, закрывать на это глаза. Больше всего ему хотелось, хотя в полной мере он и не осознавал этого, чтобы жизнь оставалась такой, какая она есть, чтобы она не менялась и приносила только добрые вести, чтобы она была как пчела без жала. Пусть тихо течет эта жизнь, не нарушая стонами его спокойствия и благополучия.
Но сегодня, в этот осенний день, в этом поезде, вдребезги разбилось его представление о самом себе, и он ничем не мог себе помочь.
За окном ярким пламенем полыхали кусты – осень нынче рано наступила. Позади остались села, одинокие будки путевых обходчиков, поезд вкатился в ущелье. Между скалами, тускло поблескивала, змеей извивалась речка. По подвесному мостку спешили люди. Время было обеденное.
Сценарист сидел у окна и думал. Внезапно его взгляд упал на лежавшие на противоположном сиденье таблички с надписью "Дом образцового содержания". Он собрал их и стал выбрасывать в окно. Таблички падали в траву, в придорожные кусты, между камнями реки, на высохшие подсолнухи…
Поезд выехал из ущелья и помчался по равнине, на которой дымил трубами стекольный завод. Потянулись химические предприятия с оранжевой вокруг них от отходов производства землей. Поезд летел, глотая километры, и через полчаса вдали показалась София.
Премьера фильма была торжественной. На улице валил густой снег. Перед кинотеатром собралась толпа. Машины подкатывали одна за другой. В Красном зале яблоку негде было упасть. Сверкали колье, пахло французскими духами, стараясь не выделяться, скромно занимали свои места кинозвезды.
После окончания фильма публика аплодировала стоя. На сцену вышли девушки в вечерних платьях, их голые спины сияли в свете юпитеров. Девушки вынесли корзины цветов, подарили букеты всем, кто был на сцене, поцеловали всех в щеку.
Сценарист, радостно взволнованный, стоял рядом с режиссером и кланялся залу, который продолжал аплодировать.
На состоявшемся после премьеры банкете настроение у всех еще более приподнялось, звучали тосты в честь хорошего фильма, пожелания дальнейших успехов автору.
К водке подали раков с лимоном, жареные ломтики хлеба с маслом, анчоусы, маслины, салат по-шопски, ветчину. Затем принесли виноградную и сливовую ракию, слоеный пирог с мясом и соус из толченого чеснока с уксусом. Была и форель, совершенно свежая, из тетевенских садков. С форелью подали какой-то паштет с очень сложным названием, но необыкновенно вкусный. Майонез и икру разносили в маленьких голубых розетках.
Потом был жареный молодой барашек с теплыми лепешками, фаршированный рубленными легкими, печенкой, брыжейкой и кишками с мятой, петрушкой и черным перцем. Рис был сварен, а потом слегка запечен. Вино – белое, выдержанный карловский мускат, пятилетний, а красное – мавруд. Некоторые предпочли виски. Тот, кто был в состоянии, после барашка ел еще свиное филе и антрекоты. Раздали еще по две котлеты.
Затем принесли шоколадный торт с миндалем и сливками, яблоки, апельсины, бананы и фруктовое мороженое, а в конце – кофе.
Сценарист был возбужден, весел, почти счастлив. Он пил легкое белое вино, шутил, со всеми находил общий язык и произнес чудесный тост с остроумными намеками и в то же время трогательный. Все смеялись, а расчувствовавшийся режиссер поцеловал его в лоб.
Расходились далеко за полночь.
На притихшие дома крупными хлопьями ложился снег. Он сыпал и сыпал, казалось, что этой зимней ночью и дома, и деревья, и призрачный свет уличных фонарей тихо поднимаются к небу, сквозь пелену неподвижного снега.
Сценарист шел по заснеженным улицам, на душе у него было легко и радостно. Чистый снег наполнял душу ощущением счастья и покоя.
Его догнало свободное такси. Он остановил его, попросил отвезти домой.
– Здравствуйте! – сказал шофер. Сценарист присмотрелся и узнал Милко.
– А, Милко! Здравствуй. Как живешь?..
– Как видите, катаюсь, – засмеялся Милко.
Когда подъехали к дому, сценарист дал ему пять левов и распрощался. Машина развернулась и исчезла за снежной пеленой.
Дома все спали. Сценарист, стараясь не шуршать целлофаном, в который был завернут букет, тихо прошел в свой кабинет.
Разделся, поставил цветы в вазу, постелил на диване, улегся и сразу же уснул спокойным, здоровым сном.
А ночью его разбудил аромат дикого меда.
Острый и горький, он заполнил всю комнату.
Сценарист включил лампу, осмотрелся, но не мог понять, откуда идет этот запах. Ему показалось, что от букета. Он встал, открыл окно и выбросил цветы на улицу.
Но аромат меда продолжал волновать его.
И тогда он понял: теперь в темноте ночи его всегда будет будить аромат дикого меда, напоминая о маленьком подсолнечном поле, трепетном свете, девушке, лежавшей с открытыми глазами, яростном жужжании диких пчел.
Долгими ночами не сможет он уснуть после внезапного пробуждения, и в его сердце будут яростно жужжать дикие пчелы.
Не успел он закрыть окно, а в комнате уже возникло маленькое подсолнечное поле.








