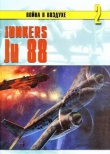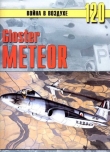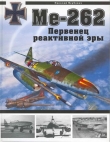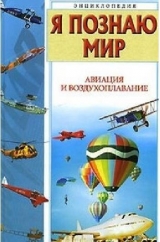
Текст книги "Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание"
Автор книги: Станислав Зигуненко
Жанр:
Энциклопедии
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Винт вместо крыла
Аэроплан или винтокрыл?Увлекшись достижениями авиации, мы с вами как-то совсем упустили из виду, что кроме самолетов в ней есть летательные аппараты и других типов.
Способность вращающегося винта подниматься в воздух, как мы уже говорили, была известна еще в Древнем Китае. И Леонардо да Винчи предлагал подниматься в воздух именно с помощью аппарата, способного «ввинчиваться» в воздух. И «аэродинамическая машинка» Ломоносова тоже по существу представляла собой модель вертолета.

Винтокрылые летательные аппараты: а – автожир; б – вертолет; в – винтокрыл: г – конвертоплан
По идее, такие летательные аппараты должны быть более удобны в повседневном использовании, поскольку не требуют для взлета и посадки специальных бетонированных полос, могут базироваться на любом пятачке и даже на плоских крышах зданий. Изобретать практические конструкции тоже начали почти одновременно с самолетами, и до 20-х годов нашего века трудно было сказать, какая из схем – самолетная или вертолетная – получит в конце концов большее применение.
Первая получила преимущество, пожалуй, вот по какой причине. Прежде всего конструкторов подвела теория. Если аэродинамикам худо-бедно удалось справиться с трудностями самолетного полета, уподобив (с большой, однако, натяжкой!) эти машины птицам, то летательные аппараты, у которых вместо крыла вращающийся ротор, требуют для расчетов еще более сложного математического аппарата. А вот тут теория и вообще буксует – точного описания вихрей не существует и по сей день.
Если посмотреть под микроскопом на крыло обыкновенной мухи, то с точки зрения нынешней науки оно представляет собой форменное аэродинамическое безобразие – все в складках, бороздах, каких-то волосках. Муха же этого не знает, а потому и летает в свое удовольствие, стартуя с места и закладывая такие пируэты, которые нашим летательным аппаратам и не снились.
А пока мы не сможем разобраться в тонкостях такого полета, нам, похоже, не то что орнитоптера или какого-нибудь мухокрыла, но и автожира толкового не построить. Судите сами...
Не до жиру автожиру...Так называют гибридный летательный аппарат, сочетающий в себе черты самолета и вертолета. Название происходит от двух греческих слов ( autos– сам и gyros– вращение) и довольно точно обозначает главную особенность машин такого типа. Вместо привычного крыла они имеют вертолетный винт и пропеллер на носу. Причем винт, как правило, вращается не от мотора, а просто под напором ветра, когда машина разбегается по полю, начиная взлет.

Автожир А-7 Камова
Такой способ полета был изобретен испанским конструктором X. Сиервой еще в 1919 году. Однако, несмотря на кажущуюся простоту схемы, ни один из построенных конструктором автожиров – а он их создавал до середины 30-х годов – так и не смог сравняться по своим летным качествам с тогдашними самолетами.
Да и сегодня в мире используются лишь легкие, одно– или двухместные, автожиры, в основном для спортивных целей. Строительство более тяжелых машин все время откладывается, поскольку аэродинамики никак не могут избавиться от ахиллесовой пяты этой конструкции: при некоторых режимах полета происходит срыв воздушного потока с несущего винта, и машина проваливается вниз, что уже неоднократно приводило к авариям и даже катастрофам.
«Летающий вагон» и другиеПытаясь усовершенствовать схему автожира, многие конструкторы решили и ротор раскручивать за счет мощности мотора. Но при этом им пришлось решать множество проблем. Чтобы понять их суть, давайте разберемся хотя бы в общих чертах, как летает вертолет.
Вот взревел двигатель, раскрутил вертолетный ротор, машина приподнялась и зависла над землей. В какую сторону она полетит? Да ни в какую – попросту закружится волчком. Потому как согласно законам физики на каждое действие есть свое противодействие. Это хорошо знают конструкторы и летчики винтовых самолетов – вираж в сторону вращения пропеллера такая машина совершает охотнее, чем в противоположную. Но там, по крайней мере, крутящий момент довольно просто компенсируется за счет большой площади крыла (опираясь о воздух, оно не дает раскрутить самолет) или постановкой на многомоторные машины пропеллеров, вращающихся в разные стороны...
Нечто подобное пришлось делать и в данном случае. На вертолетах, которые выпускает фирма имени Н.И. Камова, обычно один над другим ставят два ротора, вращающиеся в разные стороны для взаимного компенсирования крутящих моментов. На вертолетах же другой схемы, которой обычно придерживаются конструкторы фирмы М.Л. Миля, вращающий момент компенсируется за счет дополнительного винта, вынесенного далеко назад на хвостовой балке.

Основные схемы вертолетов: 1 – с перекрывающимися винтами; 2 – продольная схема «летающий вагон»; 3 – одновинтовая схема; 4 – соосная схема; 5 – поперечная схема
Иногда на тяжелых вертолетах ставят по нескольку роторов, каждый из которых вращается особым двигателем. Если винты эти расположены по длине фюзеляжа, подобная схема иногда называется «летающим вагоном». Наверное, из-за того, что такие вертолеты вмещают много груза.
Изобретение ЮрьеваДля того чтобы поднявшийся в воздух вертолет полетел в ту или иную сторону, фантаст Жюль Верн предлагал использовать дополнительный пропеллер, установленный по-самолетному. Куда он потянет, туда и полетит аппарат.
А вот наш соотечественник Б.Н. Юрьев решил задачу по-другому – проще и оригинальнее. Он предложил немного перекашивать, наклонять ось вращения вертолетного ротора таким образом, чтобы появлялась составляющая, двигавшая машину в том или ином направлении. Наклонили ось вперед, и вертолет двинулся вперед; назад или в сторону – и машина, соответственно, двинулась бы туда, даже не разворачиваясь.
В 1911 году он реализовал свою идею в виде простой, надежной конструкции, названной «автоматом перекоса». Она и по сей день используется практически во всех вертолетах.

Автомат перекоса
Впрочем, справедливости ради надо, наверное, сказать, что попытки подняться вертикально в воздух производились до создания этого автомата. Так, в сентябре 1907 года во Франции братья Л. и Ж. Бреге вместе с профессором Ш. Рише попытались поднять в воздух машину с четырьмя винтами-роторами. Братья надеялись, что смогут управлять полетом, меняя тягу того или иного винта. Однако на практике оказалось, что такая схема весьма неустойчива, и попытка потерпела неудачу.
Авиабусы ГроховскогоС 1929 года парашюты становятся обязательным элементом снаряжения летчиков и аэронавтов. С их помощью с небес спускают не только людей, но и различные грузы. Именно этим в первую очередь стал заниматься П.И. Гроховский – начальник и главный конструктор Экспериментального института Наркомата тяжелой промышленности по вооружениям.
Должность со столь громоздким названием предписывала заниматься новыми оригинальными системами, которые могли найти себе применение в Военно-Воздушных Силах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В частности, Гроховский создал первые в мире не шелковые, а куда более дешевые хлопчатобумажные парашюты для людей и грузов, парашютные контейнеры для десантников.
Но, пожалуй, наиболее оригинальной оказалась идея авиабусов – особых контейнеров для людей и грузов, которые могли сбрасываться на небольшой высоте без парашютов. В начале 30-х годов был построен авиабус на пять человек, имевший 4 м в длину и 2,5 м в ширину. Однако охотников испытать его не нашлось: «Какие-то чемоданы под крыльями развесили, и довольны. Да они, чего доброго, и крылья оторвут. А уж сидеть в них – извините!..» – заявляли летчики.

Подвесной контейнер для десантирования автомобиля
Скептицизм не рассеялся и после предварительных испытаний с манекенами. Тогда решено было провести испытания с участием животных. Первым стал пес по прозвищу Куцый. Его поймали, сунули в мешок, отвезли к самолету и запаковали в контейнер.
Самолет взлетел, прошел над аэродромом на высоте 12 м и сбросил кабину-авиабус. Поднялась туча пыли, а когда она рассеялась, стало видно, что контейнер невредим. А пес? Открыли дверку – Куцый сидит внутри и виляет хвостом.
После этого начальник института сам решил участвовать в испытании. Вместе со своим заместителем Титовым, решившим разделить участь начальника и друга, он залез в контейнер. Испытатели легли на разостланные полушубки. Авиабус снова прицепили к самолету, подняли в воздух и сбросили.
Испытатели уцелели, только Титов невзначай разбил нос о переборку. Однако идея псе же многим показалась рискованной, а тут еще начальника института арестовали, что довольно часто случалось в те годы, и судили «за вредительство».
В чем именно оно состояло, следователи даже не удосужились толком сформулировать. Но институт закрыли, а Гроховского расстреляли.
Потом выяснилось, он был репрессирован напрасно, да человека уже не вернешь. Но его разработки использовались десантниками в годы Великой Отечественной войны.
Крылья на крыльяхКак известно, бомбардировщикам лучше летать в сопровождении истребителей – тогда меньше риск, что бомбовозы будут сбиты авиацией противника. Однако истребитель не может совершать длительных перелетов, как бомбардировщик: топлива не хватает. И вот в те же 30-е годы инженер В. С. Вахмистров предложил увеличить дальность действия истребителей довольно оригинальным образом. Бомбардировщик ТБ-1 использовался в качестве носителя-авиаматки. А на его фюзеляж, на крылья и под ними прицепляли до пяти истребителей. Вот так, в качестве «пассажиров», они должны были прибыть в район боевых действий, там отцепиться и защищать эскадрилью бомбардировщиков от атак противника.

Звено Вахмистрова
В годы войны были попытки несколько раз использовать эту идею в боевой обстановке, но, в общем, она так и не прижилась. Самолет даже с двумя прицепленными истребителями был довольно легкой мишенью, его тоже приходилось усиленно охранять.
Однако сама по себе идея подвески самолета на самолете оказалась довольно перспективной для испытаний новых летательных аппаратов, перевозки крупногабаритных грузов на «спине» самолета-носителя. Например, и ныне можно увидеть, как подобным образом перевозят космические «челноки».
В полете – танк!«Прицепи мотор с пропеллером – и ворота полетят!» – шутят иногда авиаторы. Однако и они пораскрывали рты от удивления, когда увидели однажды, что на посадку заходит... танк.
Создал этот уникальный аппарат известный наш авиаконструктор О. К. Антонов. Вообще-то он в предвоенные годы занимался конструированием транспортных планеров, на которых можно было бы, буксируя их за самолетом, перевозить людей и военное снаряжение.
Планер отличается от самолета прежде всего полной бесшумностью полета. Так что, достигнув, скажем, линии фронта, летчик мог отцепить планер, а тот, планируя, способен был пролететь еще несколько десятков, а то и сотен километров, неся на борту разведывательную группу, а затем совершить посадку на какой-нибудь поляне, опушке леса или лугу.

Так предполагал транспортировать танки по воздуху Гроховский
В ходе работы над очередной конструкцией кому-то из военных и пришла в голову мысль: «А что, если оснастить крыльями танк? Можно ли транспортировать его по воздуху?..»

«Летающий танк» Антонова
Антонов согласился провести эксперимент и за несколько вечеров создал довольно простую конструкцию. К легкому танку прицепили крылья и хвостовое оперение из дерева и полотна, за рычаги управления сел опытный летчик-испытатель С. Н. Анохин, и диковинная конструкция, буксируемая бомбардировщиком, благополучно взлетела. Сделав несколько кругов, Анохин отцепился от самолета и совершил благополучную посадку. Однако в серию конструкция запущена не была: где взять столько Анохиных, чтобы управлять такими «мастодонтами»?
Впрочем, сама по себе идея не была забыта окончательно. Говорят, ее взяли за основу немецкие конструкторы, несколько лет спустя, уже в годы войны, создавшие десантный планер на гусеницах. Они полагали, что с таким шасси он сможет приземляться где угодно, хоть на болоте. Однако практика показала, что обычная посадочная лыжа (ими оборудуется большинство планеров) все же надежнее.
Вставай, страна огромная!

Оружие отчаяния
Иду на таран!Что бы там ни говорили ныне историки, вторая мировая война застала нашу страну врасплох. Внезапный удар уничтожил уже в первые дни войны большую часть танков, самолетов и другой техники, имевшейся в Красной Армии. Оставшаяся же сплошь и рядом оказалась недостаточно совершенной, уступала аналогичным образцам вооружения противника. Вот и пришлось нашим воинам на первых порах обходиться подсобными средствами, вспоминать боевые приемы из арсенала предков. Одним из таких приемов был таран.
Вообще-то этот прием известен издавна, даже само слово «таран» пришло к нам из древнегреческого языка, где обозначало бревно с металлическим наконечником, которым проламывали крепостные ворота и стены.
Таран использовали и на море, ударяя им в борт вражеской галеры или ладьи. А с появлением авиации стали использовать и в воздухе. Одним из первых, как мы уже говорили, применил воздушный таран штабс-капитан П.Н. Нестеров. Однако сам прием был придуман не им. В 1912 году лейтенант флота Н.А. Яцук издал книгу «Воздухоплавание в морской войне», где впервые упоминает о таране как о средстве ведения воздушного боя.
Первый в мире ночной воздушный таран совершил лейтенант Е. Степанов – советский доброволец, сражавшийся в небе Испании. Осенью 1937 года он атаковал на своем истребителе И-15 итальянский трехмоторный бомбардировщик «Савойя-Маркетти-81», а когда кончились патроны, сбил его таранным ударом.

Схема ночного тарана Талалихина в ночном небе Подмосковья
Методика тарана продолжала совершенствоваться в боях с японцами в районе Халхин-Гола. Во время одного из боевых вылетов старший лейтенант В. Скобарихин заметил, что на поврежденную машину его однополчанина набросились сразу два японских истребителя. Выручая товарища, Скобарихин ударил левой плоскостью своего самолета и винтом по ближайшему врагу.
Причем иной раз, при точном расчете, летчику при таране удавалось сохранить свой самолет. Так, командир звена В. Раков срубил винтом хвостовое оперение японского самолета и благополучно приземлился на своем аэродроме...
Накопленный опыт весьма пригодился нашим летчикам в первые дни Великой Отечественной войны. Доведенные до отчаяния превосходством фашистской авиации, они стремились остановить врага любой ценой. Счет таранам открыл старший лейтенант
В. Иванов. Его часы, остановившиеся в момент столкновения, показывали 4 часа 25 минут 22 июня 1941 года. С начала войны прошло меньше получаса... В 5 часов в небе Белоруссии Д. Кокарев срезает хвостовое оперение «мессершмитту». В 5 часов 15 минут в небе Западной Украины Л. Бутелин бросает свою «Чайку» на вражеский бомбардировщик... Еще через 5 минут один «хейнкель» уничтожен пулеметным огнем, а другой – тараном С. Гудимова...
Этот список можно продолжить, поскольку только в первый день войны советские летчики таранили врага 19 раз!
В начале войны была даже разработана уникальная инструкция, рассказывающая, как лучше всего таранить противника. «Таран применять по хвостовому оперению, так как удар по крылу или фюзеляжу не всегда приводит к уничтожению самолета, – говорилось в ней. – Удар наносить винтом. На длинноносых истребителях (Як, МиГ, ЛаГГ) это совершенно безопасно для летчика...»
Освоив эту науку, за годы войны наши летчики нанесли свыше 600 таранных ударов! Со стороны же противника не было сделано ни одной попытки совершить таран.
Невеселая арифметикаОбычно в рассказах о таранах принято подчеркивать уникальность этого приема, обязательно говорить, что на его исполнение отваживались лишь советские асы. При этом как-то уходил в тень главный вопрос: «А почему они это делали? »
Да потому, что воевали на устаревших машинах, имели, как правило, меньший опыт и умение ведения воздушного боя, нежели противник. Как ни горько сознавать, но это правда. Таран – оружие того же сорта, что и попытка пехотинца закрыть амбразуру вражеского дота собственной грудью. Что же делать, когда нет гранат? Что остается, когда из-за неумения рассчитывать боезапас в самый разгар боя выясняется, что магазины пусты, патроны кончились?..
В свою очередь, такое неумение объяснялось плохой подготовкой советских пилотов. Если немецкий пилот попадал на фронт, имея за спиной как минимум многие десятки, а то и сотни часов налета, то наши новички сплошь и рядом имели не более 30 часов. А это оборачивалось тем, что до трети личного состава нашей авиации гибло уже в первом боевом вылете.
Вот вам еще несколько красноречивых цифр. Трижды Герои Советского Союза летчики-истребители А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб сбили соответственно 59 и 62 вражеских самолета. А вот немецкий ас Э. Хартман сбил за годы войны 352 самолета! И он был не одинок. Кроме него в люфтваффе были такие мастера воздушных боев, как Г. Баркхорн (301 сбитый самолет), Г. Ралль (275), О. Киттель (267)... Всего 104 пилота германских ВВС имели на своем счету более сотни сбитых самолетов каждый, а 10 лучших уничтожили в общей сложности 2588 самолетов противника!
Таран же сплошь и рядом приводил одновременно к потере собственной машины, несмотря на все инструкции, а то и к гибели пилота. Не случайно наши летчики прибегали к этому крайнему средству по большей части лишь в начале войны, когда противник имел подавляющее превосходство в воздухе. Если в первый год войны было произведено 192 тарана, то в последний – всего 22...
В воздухе – камикадзе!В том, что таран – оружие отчаяния, продемонстрировали в конце второй мировой войны японцы. Они организовали эскадрильи камикадзе – пилотов-смертников. Не имея уже возможности качественно готовить пилотов, они решились на отчаянный шаг. Молодых летчиков наскоро обучали взлету, а потом сажали в самолет, напичканный взрывчаткой. Такой самолет-бомба обычно оставлял шасси на аэродроме и летел искать себе цель покрупнее.
Обычно пилотов-камикадзе нацеливали на американские авианосцы и линкоры. Однако те обычно были прикрыты мощной зенитной артиллерией, собственной истребительной авиацией, так что нападение на них было делом нелегким; чаще всего камикадзе сбивали еще на подходе к цели. Так что такие полеты оказывали скорее психологическое давление на американцев, нежели действительно несли им ощутимые потери.
Еще одна страна, использовавшая тараны в качестве оружия последней надежды, – Англия. Пилоты британских ВВС, доведенные до отчаяния налетами первых крылатых ракет – «Фау-1» и «Фау-2», в начале войны пытались таранить их. Однако вскоре обрели необходимый опыт, сноровку. И тогда выяснилось, что с проклятыми «фау» вполне можно справиться и обычными средствами, с помощью пушечного и пулеметного огня.
Слагаемые победы
Сети над столицейВскоре после начала Великой Отечественной войны над крупными городами нашей страны стали поднимать в небо аэростаты заграждения. Для чего они понадобились?
При известных условиях аэростаты, оказывается, способны защитить охраняемые наземные объекты от авиации противника. Чтобы было понятно, как это происходит, сошлемся на один конкретный пример.
«В ночь на 11 августа 1941 года немецкие самолеты совершили очередной массированный налет на Москву, – сообщала сводка информбюро. – Вражеские самолеты были рассеяны огнем зенитных батарей и летчиками-истребителями...»
В ту ночь было сбито 5 самолетов противника, причем один из них – аэростатом. Вот как это случилось.

Фашистские бомбардировщики подошли к городу на высоте 5 тыс. м. Разделившись на группы, они стали наносить удары по тем или иным объектам, одновременно совершая противозенитные маневры и отбиваясь от наших истребителей. А один из бомбардировщиков, незаметно отделившись от группы, снизился и пошел, ориентируясь по извивам Москвы-реки, непосредственно к центру столицы, к Кремлю.
Однако дойти до цели ему так и не удалось. В темноте пилот бомбардировщика не заметил заграждения, подвешенного к аэростату, и прямым ходом угодил в сети. Ударившись о трос, самолет на какое-то время потерял управление, а тут еще рядом взорвалась автоматически спускаемая с аэростата мина (см. схему). И «Хейнкель-111» рухнул в воду.
Интересно, что этот способ борьбы с авиацией противника не потерял актуальности и в наши дни, поскольку может быть использован для ловли... ракет! Впервые воздушные заграждения для этой цели попытались было использовать англичане во время той же, второй мировой войны. Им удалось, развесив вокруг Лондона на аэростатах заграждения обычные рыбацкие сети, поймать в них несколько ракет «Фау-1» и «Фау-2», которые так и не смогли долететь до цели.

Так был сбит аэростатом заграждения «Хейнкель 111»
В наши дни отечественными изобретателями создана система «Бастион». Ее основу опять-таки составляют аэростаты и подвешенные к ним сети. Только на сей раз – синтетические. Капрон, нейлон, кевлар, композитные волокна, сравнимые по прочности со стальной проволокой, не только не обнаруживаются радарным лучом, но и практически незаметны для наблюдения даже в солнечный день. Системы автоматического наведения не замечают их, и крылатые ракеты попадают прямо в тенета. Запутываются и падают на землю, не добравшись до цели.