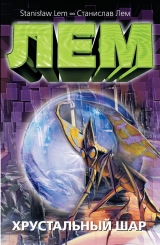
Текст книги "Хрустальный шар (сборник)"
Автор книги: Станислав Лем
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Станислав Лем
Хрустальный шар (сборник)
Stanisіaw Lem
KRYSZTAŁOWA KULA
Печатается с разрешения наследников Станислава Лема и Агентства Александра Корженевского (Россия).
© Stanisław Lem, 1946-1955
© Перевод, составление, послесловие и примечания. В. Язневич, 2012
© Перевод. В. Борисов, 2012
© Перевод. А. Штыпель, 2012
© Издание на русском языке AST Publishers, 2012
Предисловие автора
Рассказы, вошедшие в сборник [1] 1
Настоящее предисловие предваряло изданный в Германии в 1989 г. сборник «Лем С. Блуждающий» («Stanislaw Lem. Irrläufer». – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1989, 242 s.), в который вошли рассказы «Сад тьмы», «Чужой», «Exodus», «Человек из Хиросимы», «День Д», «Атомный город» и «План “Анти-Фау”». Это было первое книжное издание ранних произведений Станислава Лема; подобное в Польше вышло только в 2005 г. В равной степени предисловие соответствует и настоящему сборнику. – Примеч. сост.
[Закрыть], в основном были написаны в 1946 и 1947 годах. Они являются не только моими первыми шагами на литературном пути, но также свидетельствуют о блуждании между жанрами, практически неизбежном для двадцатипятилетнего автора. Ведь молодые авторы еще, возможно, не знают, а скорее и не могут знать своих слабых и сильных сторон. В двух рассказах сборника, «Сад тьмы» и «Чужой», речь идет о достижении некоего идеала, что, впрочем, является основой и для всех остальных рассказов. Что касается первого рассказа, то все объясняют строки Рильке уже в эпиграфе. В то время я любил Рильке, и сорок лет ничего не изменили в моем восхищении этим поэтом. У меня до сих пор хранятся его книги стихов, опубликованные в 1942 году в Лейпциге в самый разгар войны.
Еще один рассказ в сборнике был написан под впечатлением «Хиросимы» Джона Херси. В наши дни этот текст вряд ли еще кто-то помнит. В свое же время ужасающий репортаж Херси, привезенный им из Японии, занял целый номер журнала «Нью-йоркер» [2] 2
От 31 августа 1946 г. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть]. Херси рассказал о судьбах конкретных людей, которые пережили атомную бомбардировку и испытали на себе значение фразы «в один миг город был стерт с лица Земли».
Сегодня мне не хватает мужества писать рассказы на основе тех страшных событий, у меня просто не поднимается рука. Но тогда мне, писателю-дебютанту, еще полному иллюзий, казалось, что я избран судьбой и могу стать певцом катастрофы, аналогов которой не знала история.
Мотивы создания литературных произведений нередко туманны, они не обязательно благородны и возвышенны. Некоторые рассказы я написал, будучи бедным студентом-медиком, которого война, отняв родину и дом, закинула за сотни километров на запад. Только нужда в деньгах вызвала появление этих юношеских попыток обратиться к писательству. Это не высокая литература со своими моральными установками: речь идет о шпионских историях с легким налетом фантастики (как в рассказе «План “Анти-Фау”»). Я пробовал свои силы на этих текстах без малейшего предчувствия того, что некоторые из этих литературных троп так никуда и не приведут, зато другие непостижимым для меня образом укажут мне творческий путь на все следующие сорок лет.
Кроме сборника рассказов, есть еще «Человек с Марса» – небольшой роман, который я писал во время войны исключительно для себя самого – для того, чтобы на несколько часов забыть о войне, о том геноциде, что царил в Генерал-губернаторстве [3] 3
Название Польши в период фашистской оккупации.
[Закрыть]. Об этой работе периода primum iuvenilium [4] 4
Ранняя молодость ( лат.).
[Закрыть]я вспоминаю потому, что недавно неизвестные поклонники нелегально, подпольно этот роман издали, поставив меня перед свершившимся фактом [5] 5
Роман «Человек с Марса» впервые был опубликован в 1946 г. отрывками в журнале «Nowy Świat Przygуd» (Катовице), №№ 1—31. В 1985 г. в Польше был издан неофициально в книжном виде. Первые официальные издания: на немецком языке – в 1989 г., на польском – в 1994 г., на русском – в 1998 г.
[Закрыть]. Я вспоминаю эту книжечку еще и потому, что сейчас читаю ее с точно такими же смешанными чувствами, как и другие свои рассказы того периода. Я перечитал эти вещи как что-то совершенно чужое, полностью забытое, и был отчасти удивлен этой своей отстраненностью, а отчасти поражен, что некоторые сюжетные линии и лейтмотивы, которые неоднократно повторяются в моих зрелых работах, сначала появились в виде крохотных, еще не проросших семян уже в том незамысловатом прологе к моей литературе, а значит, и ко всей моей жизни. Я упоминаю об этом, так как при встрече 67-летнего автора со студентом 24 лет – в независящем от наших желаний выборе тем и проблем – возникли непреодолимые границы.
Я не знаю, каждый ли писатель с самого начала несет в себе свое творческое предназначение, в молодости скрытое как орех в скорлупе, который, будучи посаженным в землю, может вырасти в большое дерево, но при этом это будет именно ореховое дерево. Я не знаю, как это было у других. По крайней мере в моем случае это было так, и это является причиной или оправданием того, почему я все-таки осмелился доверить мои первые литературные опыты книгопечатному станку. Голос мой был еще не окрепшим, стиль – неуверенным, почерк – неуклюжим, но казалось, что в этих историях что-то должно вот-вот появиться; это развивалась способность писать, как у ребенка – способность ходить: это то, что дается свыше в виде задатков потенциальных навыков и что будет – или что может быть – воплощено: в вещах хороших или, наоборот, плохих, безвкусных, дешевых или драгоценных. В общем, можно сказать словами римского поэта: «Hoc erat in votis» [6] 6
Это было предметом моих желаний ( лат.) – Гораций, «Сатиры».
[Закрыть]. В этом высказывании я и вижу основной аргумент в пользу издания данной книги. Вполне возможно, что я пребываю в плену сентиментальных иллюзий, но если мне и есть в чем позавидовать автору этих рассказов, то позавидую только одному – его молодости.
Вена, апрель 1988 г.
Часть 1
Рассказы
День седьмой
Когда уже было создано множество цветных и выпуклых вещей, а также холодных и звонких, Бог подумал, что хорошо было бы их оживить, чтобы земной шар знал, что является пространственной полнотой, а его тональность – дрожью ожидания.
Но когда он посмотрел с высоты на плоскость времени, испещренную морщинками мгновений, шелестевших как трава, он подумал, что в созданном мире уже не может изменить ни блеска капель росы, ни размеров скал, ибо тогда его Творение впало бы в неописуемый хаос.
Поэтому он создал человека.
И сказал, что всякая вещь меж небом и землей в свете человеческих глаз будет отбрасывать тень, и это будет слово. А слова были большие и мясистые, как мезозойские бабочки, они летали, тяжело содрогаясь, и были темными от крови. Когда они садились рядом с человеком, позволяя взять себя в руки, то разбухали и надувались, и были они сильными, и благоухали, как настоящие цветы. Их можно было приколоть к папирусу и вырезать в камне, и они не менялись.
Но вскоре люди открыли, что слова – это только тени вещей, и презрели их. Потом они пытались отвергнуть тени и пренебречь словами. Они посылали свои чувства в кончики пальцев, в отверстия ушей и глаз и там расставляли силки, в которые должны были попасться Вещи.
Однако же это им не удалось, потому что они все время наталкивались на преграды, и это их очень сердило. И тогда они пробили потолок данного им мира и докопались до его дна, проникнув тем самым за пределы неба и под землю.
Наверху были мириады пылающих миров и их отражения в вогнутом зеркале времени. Поэтому они создали учение о Страшном суде, представили себе бесконечность и испугались в первый раз.
А под землей они натолкнулись на ее горячее, слепое ядро, на следы погибших животных и кости, которые противоречили акту Творения, – и они испугались во второй раз. Тогда они сказали так:
– Вначале была туманность без предела и дна, без границы и знания.
– Неправда, что начало и конец переплетаются, как человеческие руки: это не нужно. Время – это змея, которая пожирает собственный хвост.
– Пространство было вырвано из рамок порядка и сворачивает в никуда сразу же за ближайшей звездой, оседлав верхом световой луч.
– Материя – это волна, а волна – это материя, но это не достоверно, а только вероятно.
– Достоверно ничего не известно, однако, возможно, что-то существует.
Говоря так, они боялись, поэтому бросали в трясину смех, как плоские булыжники, по которым можно будет преодолеть пропасть.
Меня, когда я их встретил и услышал, огорчили эти слова, потому что, сжатые в ладонях, они хрустели, как скорлупа, некоторые же были червивыми.
И я уже видел сияние, которое было перед Творением, свет смерти: темноту.
Она не страшная, ее не надо бояться.
Так же долго я плыл по ночи в лодке сна, подобного умиранию, и это не было страшно.
Я смотрел в человеческие лица, видя, как по мере сползания с них мускулов и сала выплывает их костный скелет, похожий на известковую скалу, и это не было страшно.
Единственно важным является игра, это сияние, и для меня, и для тебя, и всякой живности.
Прозрачные амебы с блестящими ядрами высовывают ложноножки, оставляя на дороге серебряный шнурочек слюны.
Так астроном касается звезд присоской своего телескопа.
Так ребенок гладит мех, покрывающий толстую ногу великана эдакого зеленого лохмача, живущего в приливе и отливе дней (некоторые называют его деревом).
Я хотел успокоить людей, которые трепыхались, нанизанные на остроконечные углы улиц. Я спел им:
Террасы скал нисходят к морю каменистым смехом.
И облака – не мрамор, а лишь вздох отшедшего ребенка.
Неспелый взмах руки, взывающей к тиши во имя
Созерцанья, оставит радужный свой след, подобный
Кармина пламени и лилии, зажатым между двух
Воздушных стен: мы их творим, поскольку так прекрасней [7] 7
Перевод Андрея Денисова.
[Закрыть].
Но каждый уходил, унося с собой небо, как улиточный домик, и я даже не знал, шумело ли море в голубой раковине?
А когда я звал их, они смотрели на меня, как жесткокрылые жуки, выглядывающие из глазниц черепа фараона.
Тогда я вспомнил слова апостола Павла [8] 8
Послание к римлянам, гл. 9, ст. 18: Итак, кого хочет, [Бог] милует, кого хочет, ожесточает.
[Закрыть], а я не знаю более великих слов.
Поэтому я побежал за ними, крича: «Слушайте, я дам вам…» – но уже никого не было.
Я остался наедине с любовью, и было мне стыдно, хотя не надо этого стыдиться.
Я думал, что любовь бесполезна, когда ты один, и хотел ее оставить под опавшей листвой, как божью коровку.
Но я не сделал этого, и мне кажется, что поступил правильно.
Потому что не надо от нее отказываться.
Перевод Язневича В.И.
Укромное место
Молодой Шломо узнал об этом первым. Каким образом – неизвестно и по сей день. Было еще темно, когда он замолотил кулаками в кривую деревянную дверь, которая быстро открылась и поглотила его темную худую фигуру.
Он о чем-то там пошептался с отцом, и в комнатке, провонявшей испарениями тел и остатками прокисших блюд, началось движение. Старый Гринберг вскочил с кровати, быстро надел штаны, а оба его сына уже застегивали пуговицы на одежде, и все это происходило в сосредоточенном молчании, потому что каждое шумное движение или слово старик обрывал разъяренным шиканьем и резким взмахом узловатой лапы.
Когда старик оделся, а его жена положила в ручную корзинку немного еды, Гринберг осторожно выглянул в коридор. За боковым, высоко расположенным окошком снаружи переливалась синева встающего дня. Коридор был серый, запыленный и тихий.
– Можно, – прошипел старик.
Они гуськом двинулись в направлении противоположной квартиры на этом же этаже.
Гринберг осторожно и тихо постучал в дверь, неумело сбитую из шероховатых досок. Потом второй раз, громче и нетерпеливей.
Двери заскрипели, приоткрылись, и из темнеющей щели высунулась взлохмаченная голова старого переплетчика Вайнштейна. Глаза у него были еще затуманенные и теплые со сна, он быстро заморгал красными веками.
– Что случилось?!
– Тихо, ша! – Старик отодвинул Вайнштейна и протиснулся внутрь, за ним проскочили его сыновья.
Переплетчик все время жался к Гринбергу, хватал его за рукав сюртука, а в это время в помещении, плотно заставленном кроватями, началось движение, разбуженные дети запищали и заскулили, но Гринберг осаживал всех острым взглядом своих голубых глаз.
– Облава началась! – сказал он, и сдавленный плач взорвался с новой силой. Люди выскакивали из кроватей, трясущимися руками хватали ненужные лохмотья, бессмысленно закутывались в одеяла, жена переплетчика схватила самого младшего ребенка и каким-то звериным, судорожным движением прижала к груди.
В это время Гринберг подошел к большому шкафу, стоявшему в углу комнаты, открыл его и начал выкидывать на пол одежду, тюки, смятое белье, пока не достиг дна. Тогда он повернулся, посмотрел искоса на пятна склоненных лиц, окружавших его тесным кольцом, и нажал на доску. Деревянное дно шкафа сдвинулось вбок, посыпались камешки, и показался черный прямоугольник пустоты, от которой веяло сырым, подвальным холодом.
Старик наполовину втиснулся в отверстие, вслепую нащупал ногами ступеньки приставленной лестницы и начал спускаться. Ступеньки скрипели и гнулись; наконец ноги коснулись грунта. Чиркнул кремень зажигалки.
Желтоватое пламя осветило четыре кирпичных стены, обозначивших небольшое пространство. Это была угловая часть подвала, отрезанная от его остальной части искусственно возведенной стеной, глухо закрытая со всех сторон. В подвальном своде, который одновременно являлся полом квартиры Вайнштейна, виднелось неровное, выбитое неумелой рукой отверстие с крошащимся по краям красным кирпичом.
Теперь сверху начали подавать какие-то тюки, свертки, узелки, несколько стульев. Гринберг зажег прикрепленную к столу толстую свечу и хозяйничал внизу, аккуратно все укладывая, в то время как сыновья и переплетчик помогали ему, просовывая через лаз отдельные предметы.
Но как-то неожиданно эта работа нарушилась и прекратилась – старик поднял голову, над отверстием никого не было. В то же время оно не зияло пустотой: было видно закрытое доской дно шкафа. Он услышал доносящиеся сверху невыразительные голоса, потом послышалось что-то вроде возни и сдавленный крик.
Он стал на первую ступеньку лестницы. Дно шкафа неожиданно отскочило, и бешеное, сверкавшее искрами отраженного света потное лицо толстой жены пекаря с первого этажа заплясало у него перед глазами.
– Ах вы, воры! Ах вы, бандиты! Бандиты! – заходилась она криком, вырываясь из рук людей, которые напрасно пытались оттянуть ее назад.
– Это вы думали, что я ничего не знаю? Пусть все знают, пусть вся улица знает, что вы сделали себе убежище, чтобы спастись, а другие пусть подыхают…
Гринберг поднимался по лестнице, выпихивая наружу жену пекаря. Наконец все собрались в комнате.
– Тихо, – начал он, но женщина не переставала кричать.
– Тихо! – рявкнул он, понимая, что иначе с ней не справиться.
Она сразу замолчала.
– В чем дело? – заговорил неестественно спокойным голосом Гринберг. – Кто сделал убежище? Я. Я соорудил стену в подвале, я выпилил пол, я сделал дыру, все я… Но сколько будет места, столько людей спрячется. Я сам хотел идти к вам, слово даю, – объяснял он, торопливо моргая маленькими голубыми глазками.
Жена пекаря сразу успокоилась.
– Так я пошла за мужем, – крикнула она и выбежала.
– Тихо, тихо, ша, ради Бога, никому не говорить, – сказал ей Гринберг, но ее уже не было.
Теперь, когда они опять остались одни, Гринберг с немой яростью смотрел на лица окружающих.
– Черт побери, кто-то разболтал. Отличное убежище: каждый о нем знает…
Все молчали.
– Пан Гринберг, – осторожно начал Вайнштейн, – может, кто-то из ваших клиентов?
– Кто из моих, что из моих? – набросился на него с хриплым криком старик.
Гринберг был вором. Своим ремеслом он занимался уже много лет. Он никогда не крал там, где жил. Со времени прихода немцев свою профессию он не скрывал, зная, что, не будучи интеллигентом, имеет больше шансов уцелеть, чем любой другой житель дома. И в этом его поддерживали «знакомые» и «коллеги» арийской крови. Стоя в дверях своей квартиры, он обычно высовывал ноги до половины коридора и в ответ на недовольные замечания жильцов, спешивших на работу, молчал, криво и иронично усмехаясь: «Зачем мне работать, если у меня есть ключи от всего Львова?» Однако теперь остроумному Гринбергу было вовсе не до шуток.
Злой и встревоженный, он метался по тесной квартире старого переплетчика, каждую минуту выглядывая в окошко, завешенное полотенцами.
Улицы еще были пусты, только редкие прохожие быстрым и громким шагом пробирались вдоль стен.
Опять кто-то постучал. В дверном проеме показалось красное толстое лицо жены пекаря, растрепанная черная голова ее мужа, а за ними… Гринберг замер.
Почти весь дом: все жители двух этажей с тюками, детьми, вещами стояли, толкаясь и пихаясь, волоча обрывки страха и ужаса в распахнутых глазах. У каждого был свой собственный, личный страх, однако, собравшись вместе, они объединялись в одном желании жить.
Начались препирательства, крики, проклятия и ругань.
Наконец прозвучал резкий, поющий дискант. Кто-то вопил:
– Что, ты хочешь спастись, ты, вор, а меня должны вывезти на мыло? Как бы не так! Как только придут немцы, я сразу скажу, где убежище!
В глазах Гринберга загорелся нехороший огонек. Но он был бессилен что-либо изменить: отброшенный в сторону, с яростью и отчаянием он смотрел, как люди перелезают через порог шкафа, карабкаются и забираются вовнутрь, как в ограниченном пространстве, не больше чем три шага на два, становится все тесней и людней, как выбрасывают наверх стулья, потому что уже нет места для сидящих, как за стульями вслед летят тюки, а люди толкаются и пихаются, чтобы влезло больше, чтобы было плотнее, а тут новые все идут и идут…
Старик посмотрел вниз.
Там в желтоватом свете свечек колыхалось море голов, несло резким смрадом от вспотевших, немытых тел…
Когда наверху оставалось всего несколько человек, кто-то сказал:
– Ну хорошо, а кто закроет шкаф? Да, кто закроет шкаф?
Нужно было его закрыть сверху: сначала укладывался вынутый квадрат кирпичей, затем деревянное дно, и, наконец, следовало закрыть дверь.
Пустые от страха лица. Люди смотрели друг на друга в поисках поддержки и не находили ее.
– Не надо, может, удастся как-то закрыть отсюда? – сказал кто-то внизу.
– Нет! – Гринберг радовался уже и своему, и чужому несчастью. Его распирала неимоверная, мстительная радость. Как это? Он сделал убежище на шесть человек, а забирается в него тридцать?.. Нет… «Получите, мерзавцы», – подумал он и со злой радостью сказал:
– Если шкаф не закроется, то все напрасно. И дно надо заложить: снизу не получится.
Наступила тишина.
– Пан Фиш, у вас хороший аусвайс, – начал кто-то, спускаясь в подвал, но тут же сник и затрясся как студень.
– Самому остаться наверху?..
Гринберг сунул голову в шкаф.
– Вылезайте, – заговорил он, – ничего из этого не получится. Некому остаться наверху, никто не хочет, а шкаф надо закрыть. Нечего давиться и делать под себя.
Люди зашевелились, задрав к потолку лоснившиеся от пота лица, но молчали. Старик впал в ярость.
– Ну что сидите, скоты, как стадо волов?
Молчание усиливалось, сгущалось. Донесся далекий и слабый выстрел. Кто-то пискнул:
– Уже началось.
– Ну? – Гринберг полоснул их сверху злым горящим взглядом. – Ну, что будем делать?
– Жребий надо тянуть, – сказал кто-то.
– Жребий? Зачем жребий? Когда его возьмут, то он и так всех нас выдаст, чтобы себя спасти, – сказала жена пекаря.
Тишина. Внезапно раздался голос из угла:
– Не надо никакого жребия… Я останусь наверху.
Все повернулись на голос.
Ах, это Хана сидела там, маленькая рыжая Хана. Хромая девушка, которая носила по улицам гетто большую корзину, полную булок, кренделей, рожков и липких цветных конфет.
– Я останусь, – сказала она.
Поднялась со стула, на краешек которого присела, и, волоча кривую ногу, вышла на середину.
Наступил момент, о котором она мечтала, когда, сидя на заляпанном грязью уличном камне, присматривала за своей корзиной, скользя взглядом по глади стеклянно-зеленых луж.
И вот теперь все оробевшие взгляды остановились на ее склоненной худой фигуре, на запавших веснушчатых щеках, и ни у кого не вызывали отвращения ни ее сухие жесткие волосы, стоявшие пламенной копной над бледным лбом, ни красные потрескавшиеся руки…
– Ну хорошо… останься, – сказал в конце концов Гринберг, не глядя на нее, и, словно все уже было договорено, подошел к лазу.
В эту минуту застрочил автомат, но так близко и громко, словно у самого дома. Люди в панике бросились к шкафу.
Рыжая Хана ждала, пока все не спустятся, потом согласно указаниям старого Гринберга заложила люк кирпичами и досками и, наконец, закрыла шкаф на ключ.
А затем она уселась на стуле напротив двери и попыталась запеть какую-то тихую еврейскую песенку, но ни один звук не вышел из пересохшего горла.
Долгое время в подвале стояла тишина. Небольшое пространство, замурованное с четырех сторон, вздымалось теплом дыхания сбитых в кучу людей. Стоя рядом так близко, что их грудные клетки поднимались с трудом, люди не могли держаться на обеих ногах и сливались в какую-то однородную, движимую ритмом дыхания потную массу. Рты с трудом хватали густой отвратительный воздух, у стен слышались шепоты, кто-то старческим, ломким голосом жаловался, что нельзя выпрямиться, чей-то ребенок заплакал…
– Тихо! – рявкнул вдруг режущим голосом Гринберг.
Наверху что-то происходит. Сначала слышны шаги в коридоре: раскачивающаяся, тяжелая, железная поступь. Потом – резкий удар в дверь. И голоса. Высокие немецкие голоса. Все замерло. Кто-то задул свечи: может, в полу есть где-нибудь щелка? И замерли так, сдавленные, в полном напряжении всех чувств в бездонной темноте.
Наверху стучат двери, снова слышны шаги – в этот раз отдаляющиеся, они слабеют и исчезают. Шкаф, скрипя, открывается. Доска поворачивается боком, и рыжая Хана шепчет в пульсирующую внизу рассеянным дыханием темноту:
– Это были немцы. Полиция. Уже ушли.
– Не взяли меня, – добавляет она как бы с некоторым удовлетворением.
Большой, с красным лицом немец посмотрел на калеку, когда она хотела подать ему свой грязный жирный аусвайс, мелко потряс головой, окинул взглядом пустое помещение, сказал «не надо» и вышел. Горящий ледяным пламенем страх уступает место приятному теплому облегчению.
Крышка опускается. Хана медленно и осторожно закрывает шкаф, после чего подходит к окну. Девушка прижимает лицо к холодному стеклу.
По улице бегут люди. Они мечутся, кидаются то в одну сторону, то в другую, из закоулков и улочек сыплются дробные, все сильней гремящие автоматные выстрелы, тут и там раздается резкий, рваный крик, неожиданно обрезанный как ножом. Тут же перед домом кто-то падает на четвереньки, но движется дальше: это старый темный еврей, который тащится, ползет на четвереньках, только бы вперед, только бы подальше от опасности. Растрачивая остаток жизни в резких, бессильных движениях, оставляя за собой густой след впитавшейся в сыпучий песок крови.
Улочка опустела: с тяжелым топотом ботинок пробежали два немца – в зеленых мундирах «Зондердиенст», с автоматами, низко висевшими для стрельбы от бедра. Один показал товарищу высокий белый дом: «Туда, Ганс». Крикнул еще что-то непонятное, но прогнувшийся бегущий человек мелькнул за углом, и они побежали за ним вместе, стреляя на ходу.
Хана с удивлением, забыв на минуту о страхе, смотрела на бледный огонек и прозрачный дым, извергавшиеся из ствола.
Откуда-то доносится грохот взрыва ручной гранаты. Люди в подполе застывают, слыша далекие и нечеткие выстрелы, иногда что-то шуршит за стенами, иногда им кажется, что светлые круги появляются на стенах, в воздухе, что отсвечивают зеленоватым светом лица и кошачьи глаза, и ледяные иглы дрожи будто обдают неожиданно кипятком. Груди словно сдавлены тисками, каждый стоит в толпе как палка, воткнутая в землю, люди сливаются в шестигранную живую массу и прислушиваются. Слушают, слушают, потому что…
Вновь раздается железный шаг на крыльце и приближается по коридору.
Стук в дверь. Высоко над головами гремит бас немца. И срывается в ответ тихий, тонкий голос Ханы.
Какой-то более громкий крик или звук, двери хлопают. Тишина…
– Взял ее? Забрал ее? – раздается сдавленный шепот.
Девушка наклоняется к днищу шкафа.
– Я тут, пока еще тут… – говорит она, не осознавая в эту минуту более глубокого значения своих слов. Действительно – пока.
Кто-то тремя длинными прыжками вбегает на крыльцо. Мерный стук подкованных ботинок.
– Öffnen [9] 9
Открывайте ( нем.).
[Закрыть], – рыкнул немец и с размаху ударил по двери ногой в тяжелом ботинке. Доски громко трещат. Хана закрывает шкаф и бежит открывать.
Немец подозрительно осматривает помещение. Останавливается, широко расставив ноги, покачивает понимающе головой в шлеме:
– Ah, du bist allein… [10] 10
Ах, ты одна… ( нем.)
[Закрыть]
Входят второй немец и третий: оглядываются. Повеяло запахом нагретого сукна, пота и одеколона. И чем-то вроде гари.
– Где остальные? – спрашивает немец.
– Какие остальные?
– Не прикидывайся! Где все остальные из этого дома?
– Уже были ваши – их уже забрали, – начинает Хана, но высокий блондин со смуглым лицом и синими девичьими глазами широко и злорадно улыбается. Белые зубы влажно поблескивают.
– Не ври! Говори, где они спрятались! Говори сейчас же, а то… – Он снимает с плеча небрежно висевший автомат. Железное колечко дула черно и холодно заглядывает в бледное лицо Ханы. Немец зажмуривает глаза. Девушка сжимает губы.
– Но никого нет… – говорит она наконец беспомощно и по-детски.
Немец делает неуловимо быстрое движение карабином, и девушка, получив удар стволом в лицо, неловко падает на пол. Она медленно садится, плюет кровью с выбитыми зубами. Трое высоких вооруженных мужчин берут ее в грозное кольцо холодно изучающих взглядов.
– Ну, где они спрятались? Тут? – спрашивает один, наугад подходя к большой кухонной печке.
– Нет их, – бормочет Хана. Губы у нее распухают.
Немец бьет кованым прикладом в железную плиту, заглядывает через дверцы, но пачкает себе руку сажей. Взбешенный, он вытирает ее о валяющееся одеяло.
– У нас нет времени! – кричит он резко, подходя к Хане так быстро, словно хочет наступить большим ботинком ей на грудь. Девушка съеживается. Комом к горлу подкатывает тошнотворный страх.
– Скажешь – так останешься, а нет – заберем тебя, – решает блондин.
Лицо его прекрасно, мужественное, такое, как на цветных обложках немецких журналов.
За окном мелькнуло несколько черных силуэтов. Последним бежит аптекарь с противоположной стороны улицы с поднятыми вверх руками. Перебирая ногами, он бежит быстро, очень быстро…
Немцы подбежали к двери. Загрохотали шаги по ступенькам. И сразу раздались торопливые выстрелы, словно кто поленья колет на полу.
Хана встает, в голове шумит и трещит, но она уверенно идет к шкафу.
– Ушли, – говорит она в его направлении, но понимает, что все равно ее не слышат, – ушли.
В этот момент немец опять появляется в дверном проеме. Лицо у него твердое и жесткое, под черным козырьком шлема глаза отсвечивают стальной глазурью. Голодное лицо человека, который отведал крови.
Тишина, растянутая над головами людей, сдавленная вонючей темнотой, лопается громким мертвым криком. Что-то резко ударяется о стену шкафа – и тишина. Великая тишина.
Оцепенение проходит.
– Что это, – спрашивают люди друг друга шепотом. Ждут долго, долго. Выстрелы отдаляются, затихают, исчезают. Все замолкает. Только жажда жжет губы, отвратительное чувство голода сушит рот, груди судорожно вздымаются, воздух, втягиваемый в легкие, имеет вкус помоев. Одежда, рубашки, тела – все влажное и липкое, по кирпичным стенам стекают струйки тепловатой, сконденсированной из паров дыхания воды.
Старый Гринберг, который все время стоял на самой нижней ступеньке лестницы, поднимается выше. Медленно и осторожно приближает лицо к перекрытию и тихо зовет:
– Хана! Хана!
Никто не отвечает.
– Хана! – зовет он громче.
Тишина.
– Забрали ее, – глухо бросает старик в темноту.
По телам пробегает слабая дрожь. Но замирает и останавливается, потому что на крыльце снова звучат шаги, кто-то открывает дверь и сразу выходит. И так раз за разом: постоянно стоит в ушах грохот твердых, железных шагов, стук дверей обрывает их, иногда раздается рокочущее эхо голосов, и опять тишина, иногда издали доносится треск выстрелов.
Проходили минуты. А может, часы?.. Кто-то следит за светящимся в темноте циферблатом. Воздухом, уплывающим через небольшие щелки перекрытия, становится невозможно дышать. Многоногий и многоголовый клубок тел начинает двигаться, мучимый спазмами удушающей тошноты. В судорогах корчится, скручивается, сжимается и оседает, расширяется и дрожит, облитый холодным потом страха и яростным, обнаженным, горячим желанием жить.
Наконец кто-то взрывается криком, его подхватывают другие: «Не хочу так – не хочу – мне все равно – пусть меня заберут – я хочу выйти – выйти!»
Ему отвечает враждебная, глухая тишина. Но начинается невидимая возня, в темноте что-то бурлит, переворачивается, слышны тупые удары, борьба, кто-то вскрикнул, захрипел, и лестница начинает трещать – трещать – кирпичи грохочут – пыль и штукатурка сыплется на головы…
Днище шкафа со стуком поднимается. Молодой Гринберг, ибо он и есть тот, кто первым вырвался наверх, с силой нажимает на створку двери. Что-то тяжелое передвигается, слышно мягкое шлепанье тела, и в шкаф и внутрь подвала врывается первая волна воздуха. Настоящего, чистого воздуха. Легкие вздымаются, глаза горят. Наверху Гринберг, ослепленный светом, вылезает на четвереньках на пол и спотыкается о труп Ханы, который лежит, касаясь шкафа. Он отодвинул тело, открывая дверь.
Он поднимается – ноги у него дрожат. Девушка лежит навзничь, ее руки вытянуты в сторону шкафа в ничего уже теперь не значащем, лишенном смысла жесте.
– Хана здесь лежит, ее застрелили, – громко говорит Гринберг и осторожно подходит к окну.
Наступают сумерки. Крыши домов чернеют на фоне высокой синевы, страшной и прекрасной, как всегда. Улица уже пуста, тут и там видны перечеркнутые белой повязкой евреи.
Гринберг высовывает голову в дверной проем.
– Что слышно? – спрашивает он молодого человека в рабочем комбинезоне, который, видимо, возвращается с работы.
– Уехали уже, – говорит тот и идет, не задерживаясь, дальше. Гринберг припадает к шкафу, с трудом выдавливая из себя слова. Как заклинания. Клубок людей в вонючей глубине начинает распутываться. Смятые, дрожащие, ослабевшие люди выползают наверх, как большие червяки, извиваются в отверстии, некоторые не могут выползти сами, у них подгибаются колени, дрожат руки, глаза, ослепленные бледным светом сумерек, отчаянно зажмуриваются. Легкие усиленно работают, привыкая к удивительному блаженству и облегчению, к воздуху. К восхитительному, необычному воздуху.
– Мы выжили… – говорит пекарь, словно удивляясь этому факту, и смотрит на отодвинутый в сторону труп Ханы.
В ее слегка приоткрытых глазах, уже немного помутневших (день был очень жаркий), сверкает голубая искра: последний отблеск сегодняшнего дня.
Перевод Язневича В.И.








