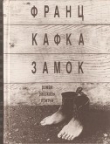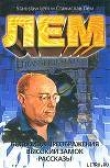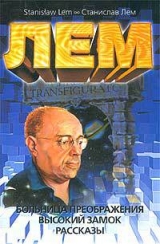
Текст книги "Больница преображения. Высокий замок. Рассказы"
Автор книги: Станислав Лем
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
Как же близко в ранней, бюрократической фазе моего творчества я подошел к тем сакральным родникам, из которых бьет искусство! За исходный пункт – более того, за непоколебимую основу – я принял Удостоверение, так же как Микеланджело принимал Рай, Престол и Серафимов. Чудовищно ошибся б тот, кто решил бы, что в тот период я свободно фантазировал. Я был добровольным невольником канцелярской литургии, чиновником Генезиса, из толстощекого школяра превратился в переписчика декалога, [118]118
Декалог – десять заповедей.
[Закрыть]принявшего обличье современного кодекса поведения, в бюрократа, регламентирующего в административном вдохновении Служебную Милость. Сегодня, в печальной фазе сознательного творчества, я, вероятно, сразу бы довел и суть и тему до абсурда, придумывая разрешения на движение галактик, а геологическим эпохам выдавая свидетельства зрелости. Но тогда, как Микеланджело о ногтях, я не спрашивал о том, почему соответствующие учреждения присвоили себе право выдавать новорожденным свидетельства, удостоверяющие их личность. В том безгрешном состоянии, в котором мне это даже в голову не приходило, я помимо воли приравнял Удостоверение к Абсолюту и тем самым оказался на пороге искусства. Оберегая буквы и печати, соблюдая порядок нумерации бланков и полномочий, аккуратность подписей, придающих документам исполнительную власть, я действовал в полном согласии с канцелярской прямолинейностью, которой абсолютно чужды всяческие сомнения и колебания, так же как и понятия, не имеющие конкретного значения.
Первые мои шаги были мелкими, робкими, но шли в нужном направлении. Я никогда не превышал своих правомочий, может быть, именно потому, что не знал, кто есть кто и чьей рукою являюсь я сам. Поэтому вначале я не заполнял на чье-либо имя уже готовые бумаги – удостоверения личностей королей и канцлеров. Это не входило в мои обязанности, я оставлял пустые места для фотографий, имен и подписей будущих владельцев. Документы же, выписываемые на предъявителя, я держал в специальном, застегивающемся на две пуговицы отделении ранца, чтобы они не попали в посторонние руки. В финансовых вопросах я был особо осмотрительным, стремясь уже в зародыше пресечь самое возможность злоупотреблений или мошенничества. Я уточнял суммы, количество, платежную силу монетарных средств; от некоего отвлеченного «золота вообще» перешел к кирпичикам, плиткам, слиткам (ассигнации представляли собою нечто вроде описания слитка золота, который я принял за эталон, используя знания, полученные на уроках физики). Образцом мне служил платино-иридиевый эталон метра, хранящийся в Севре под Парижем и в сечении напоминающий букву «X». Я определял даже размеры нуггетов – золотых самородков, сведения о которых почерпнул из романов Мая и Лондона, [119]119
Карл Май – немецкий писатель, известный своими приключенческими романами из жизни индейцев;
Джек Лондон и его роман «Сердца трех».
[Закрыть]– используемых для расплаты и хранимых в кожаных мешках, перевязанных лассо, разрубленным на куски. Получив же, благодаря «Чудесам природы» профессора Выробка, необходимые сведения, я выписывал разрешения на выдачу рубинов, халцедонов, шпинелей, хризопразов, опалов, агатов, бриллиантов, оговаривая на контрольных талонах блеск, форму шлифа, количество штук; изготовлял я также купоны на специальные награды в виде золотых – из стопроцентного золота – цепочек, при этом я сталкивался и с довольно сложными проблемами. Так, например, удобно ли в официальном порядке награждать, скажем, платиновым сервизом? Спросив об этом свою чиновничью совесть, я решил, что так делать не полагается; счастливый инстинкт подсказал мне, что вообще такие слова, как «дар», «одарить», в прагматике [120]120
В прагматике – здесь: на практике.
[Закрыть]не могут иметь места; иное дело «выдать», «выплатить», «выделить». Золотую цепь с горем пополам можно носить на шее, а кто станет есть с платинового сервиза? Вещь совершенно неподобающая в сфере чистого канцелярского мышления. О, мной руководствовала не какая-нибудь там алчность, когда я рассыпал дожди (но пересчитанные до капли) жемчугов, щедрые лавины изумрудов, нет – просто финансовые проблемы представляли собою один из неизбежных элементов создаваемого мною бытия. Изготовлял я и особые пропуска, тоже складывающиеся в прагматическую иерархию и дающие право прохода через Внешние ворота, Средние, а затем через Первые двери, Вторые, Третьи, опять же со специальными купончиками, отрываемыми стражей. Следующие же, все более внутренние проходы, тщательно охраняемые пассажи, вначале открыто называемые обыденным канцелярским языком, а потом известные только под шифрованными намеками, постепенно, но неизбежно приоткрывали проступающий из небытия контур, Дом домов, Замок невообразимо Высокий, с никогда не произнесенной, даже в приступе наивысшей смелости, не названной Тайной Центра, которой можно было бы, пройдя сквозь все двери, пороги и посты, предъявить свое удостоверение.
Легко об этом говорить сегодня, но как же далеко от этого Центра я находился тогда, создавая с муравьиным трудолюбием и кропотливостью минускулы, [121]121
Минускула – древнегреческое или латинское письмо, состоящее из букв строчного написания.
[Закрыть]и маюскулы [122]122
Маюскула – то же, но состоящее из букв прописного написания.
[Закрыть]добросовестный, смиренный писарь, почти что средневековый каллиграф, инкунабулы, [123]123
Инкунабулы – первые книги, напечатанные наборными буквами в начальном периоде книгопечатания и подобные по оформлению книгам рукописным.
[Закрыть]которого неведомо как и когда пересекают грань, отделяющую книжку от Книги, поделку писаря от произведения писателя, копировщика от артиста! Обретая беглость формы, употребляя даже красную тушь для расширения шкалы служебных ступеней, я предусмотрительно, но, видимо, инстинктивно, осторожно относился к их содержанию. Я не только легкомысленно не разбрасывался раздачей королевств, но не допускал даже и того, чтобы кто-нибудь мог возвыситься чрезмерно. Что могло быть проще, чем выписать какую-нибудь охранную грамоту, которая открывала бы все, то есть абсолютно все, двери дворцовых стен и сокровищниц? Так вот, и пусть это будет мне похвалой, я так и не создал подобного документа. Правда, бывали моменты, когда в эгоистической заботе о собственном величии я об этом подумывал. Мне вспоминается книжечка-удостоверение, специально изготовленная для инспектирующего посланника с чрезвычайными полномочиями. Каждый очередной бланк, выписанный карандашом иного цвета, расширял круг его правомочий. Я живо представлял себе, как он предъявляет самым низшим чинам первый листок Удостоверения-Пропуска, этакий совсем обычный, с двумя треугольничками печатей, и ключники с некоторым промедлением начинают отодвигать перед ним засовы первых дверей; а вот он, слегка отвернувшись, вырывает второй листок – зеленый; и, увидев его, замрут офицеры; но тут он бросает на стол стражи третий листок и четвертый – белоснежный, с кровавой Главной печатью, и высшие офицеры вытягиваются в струнку, сдерживая дрожь в коленях, а он проходит мимо отдающих честь стражей к Высоким дверям, и тут уж сам генерал-ключник [124]124
Генерал-ключник – придворная должность в старой Польше.
[Закрыть]еще секунду назад воплощение неприступности, в мундире, источающем золотое сияние, взопревший от служебного рвения, обеими руками настежь распахивает перед ним двери, так что лязг открываемого замка сливается с бриллиантовым звоном генеральских орденов, и, замерев, отдает честь – этот монументальный старец – блеском добытой в бою шпаги не особе, переступающей порог, а невзрачному корешку книжечки пропусков, которую Посланник небрежно держит в руке.
Разве не щекотала нервы мысль об этом восхитительном аукционе Пропусков, об этом все возрастающем, по-гурмански отмеряемом могуществе абсолютно законных полномочий? Никакой батальный пейзаж родом из Сенкевича, [125]125
Сенкевич Генрик (1846–1916) – романист, новеллист. Перу Сенкевича принадлежат, в частности, такие произведения, как «Огнем и мечом», «Крестоносцы», «Камо грядеши?» и др.
[Закрыть]никакой гром орудий не мог сравниться с тихим шелестом Купонов Могущества, падающих на серый стол среди серых стен Замка! Какая же магия скрывалась в Главной печати, которой никто – даже я сам! – не в состоянии был понять и разгадать, поскольку в центре ее стоял Знак, Тайный Сам в Себе, то есть Шифр Без Ключа, свидетельствующий без обиняков, что предъявитель сего является посланцем Неназываемого!
Уж не был ли он Инспектором, ниспосланным Творцом, экзекутором самого господа бога? Этого я не знаю. Он прибывал ниоткуда и – выполнив свою задачу – опять должен был уйти в ничто.
Действительно ли я представлял себе все это так подробно и искусно? Более или менее, ибо в принципе, только выписывая Удостоверения, я одновременно отдавался под их начало, между мною и ими возникала своеобразная разность потенциалов, которая уже сама по себе определяла дальнейшее направление событий, мне оставалось только домыслить его. Откровенно говоря, я не придумывал никаких историй, не конструировал фабул иначе как в виде туманных приближений и намеков, они возникали сами, заполняя пустоты между отдельными документами. Возникающие одна вслед за другой бумаги были лишь узловыми пунктами запутанной служебной драмы, источником сил, приводящих в движение – как солнце приводит в движение планеты – троны, стражу и шеренги. Поэтому, даже и не желая этого, я всегда был обязан присутствовать – своими удостоверениями – в любой момент и в любом месте, где течение событий создавало критическую ситуацию, где – если не показать соответствующих бумаг – вещи, государство, мир могли бы завять, замереть, замкнуться в себе; в этих условиях удостоверения не были всего лишь цезурами ни разу не названных событий, но их создателями, двигателями существования и дальнейшего развития. Обратите внимание, сколь современный характер носило это мое гимназическое открытие. Вначале, хоть я и не был посвящен в законы творческого искусства, я усиливал выражение и впечатление, ничего, то есть никакой личности, никакой сцены, не описывая в лоб; все, что я воздвигал в самоусложняющейся драме существования, было производной, вовлечением, додумыванием, продолжением; из отдельных удостоверений, пропусков, доверенностей можно и нужно было делать выводы о лицах, незримо стоящих за ними, так же как по ветвистой тени делают вывод о солнце, дереве, лучах света, законах неба и земли. Далее, немного подобно тому, как и антироман второй половины двадцатого века, я все внимание концентрировал – как невольный предтеча – на предметах, признавая тем самым, что движение, жест, слово, страсть люди для своих сообщений, эмоций, переживаний, конфликтов черпают из предметов, а не из себя самих; но в этом аскетическом универсализме я пошел дальше, чем антироман, – я ведь не писал антироманов, – поскольку в неизбежном и окончательном самоограничении выдавал лишь формуляры in bianco! Делая же это, я отказывался от излишних фабулярных усложнений и старосветских описаний чьих-то рук, глаз, урбанистического или же природного фона, от устаревшей психологизации действующих лиц, анахронизма романтических ходов, долбя печатями, графитом, зубчаткой все время только в самое суть, ибо благодаря столь всестороннему отказу, упущениям столь же тотальным я доказал, что весь мир можно выразить молчанием. Я действительно мечтал об этом на уроках латыни или математики, когда под прессом царящей на них дисциплины не мог действовать и вынужден был притворяться, будто внимательно слушаю профессорские лекции; тогда я мысленно подсчитывал уже выданные в тот день удостоверения, складывающиеся, правда, в единое целое, но такое, вокруг которого воображение могло понастроить, вообще-то говоря, неисчислимое множество вариантов конкретного развития событий; таким образом, эта последовательность книжек с бланками была жесткой осью, направленной своим продолжением в сердце Замка, но избирательный дух мог свободно наматывать на нее воистину бесчисленное множество драм, ибо – говоря языком теории литературы – мое творчество позволяло прочесть его бесконечным количеством способов. Взять хотя бы относительно простую историйку с уже упоминавшейся Инспекцией. Ее увертюрой были несколько доверенностей на получение золота в слитках, удостоверений, снабженных пропусками на машины, окованные броней, – необходимое средство перевозки. Поражало то, что количество ценного металла резко возрастало, достигнув, наконец, массы, для перевозки которой требовался уже чуть ли не весь подвижной состав какого-нибудь армейского корпуса. Отсутствие некоторых документов после того, как были использованы эти ассигнаты, могло свидетельствовать о том, что соответствующие инстанции отнеслись с почтением к продиктованному им количеству звонких брусков, подлежащих выдаче, а охранники, не пикнув, выдали эту тысячу сундуков, надрывающих мускулы людям и вьючным животным. Затем появляется некое полномочие самого низшего разряда, дающее право лишь на то, чтобы переступить линию внешних стен, а также на осмотр караульного помещения и трех фортов. Какая задача была у этого низшего контролера? Не известно – во всяком случае, кто-то где-то приказал ему обследовать сторожевые пункты, а может, и кое-что побольше. Опять пробел, и перед нами уже приказ (не разрешение!) войти в хранилище Нижнего Этажа, выданный на предъявителя, с продолговатой зеленой печатью. А затем уж внутренняя проверка, устроенная потому, что где-то наверху возникло недоверие, может быть, подозрение. Наконец – уже упоминавшаяся Верховная Инспекция, результаты которой абсолютно никому не известны, и – апофеоз всей этой истории – словно гром с ясного неба, после долгого молчания канцелярского механизма – новый документ, личное удостоверение монарха! И к тому же – на предъявителя! Теперь рыхлая стопка документов резко уплотняется, превращается в набор бумаг прямо-таки невероятного значения, резкий свет падает вспять, освещая минувшие события, да еще какие, коль после вывоза золота появилась необходимость сменить короля, и, будто этого еще мало, новый владыка вступает на трон тайно, как аноним, имени, лица которого никто не знает и никому знать не положено! О, какие же дьявольские махинации должны были свершиться на участке между тронным залом и подземельями сокровищниц, сколь долгий ряд покорно склонившихся дворян, посредников, бравых начальников стражи, привратников, генерал-ключников, тайных агентов, вступивших в предательские сношения с Кем-то вне Стен и Врат, помог опустошить дворцовые подземелья, свершив акт измены, одобренный самою короною – вершиной государственной иерархии! Какая же изощренность в этой постепенно возрастающей жажде выплат – сатанинская радость после каждой удавшейся операции; что за продажность самого трона, а как знать, не еще ли хуже… Потому что, посудите сами, что стало с Низшим Инспектором? Он пошел в Замок, предъявил удостоверение и словно канул в Лету. Может, он обнаружил что-то, что возбудило у него подозрения? Или какой-нибудь унтер-офицер из периферийной стражи, недовольный низким жалованьем, рассчитывая на повышение, нашептал ему какие-то сплетни, слухи, в которых чувствовался намек на Высочайшее обвинение?!
А если бы это дошло куда не следует – в случае, если унтер был провокатором, – то тинистая, темная, отдающая гнилью вода во рву могла без единого всплеска принять ночью тело чиновника, сомкнуться над ним, и опять только часовые перекликались бы на башнях, а бумаги днем и ночью циркулировали бы в управлениях, спокойно и благородно, как звезды и солнце на небе.
Но ведь Канцелярии бодрствовали… Они не хотели больше посылать своих людей на смерть и гибель – ex ungue распознали leonem, [126]126
Ex ungue leonem (латин.) – по ногтю льва (сравнение русское: птица видна по полету).
[Закрыть]набравшись мужества, которое представляет собою не более чем приверженность бессмертной букве, догадались, кем мог быть ультимативный свершитель такого поступка…
И вот в один туманный день раздается стук в ворота – и как солнце, поднимающееся над горизонтом, сначала показывает лишь розоватый, зыбкий краешек и заглядывает им в глубокие бойницы, в оконца, пока, наконец, в зените явит миру весь свой раскаленный до полной белизны диск, так и Посланец в нужном месте нужным людям предъявил прямо в лицо пурпур круглой печати, которая извлекла из них мерзость предательства, прикрытую неожиданной гримасой страха. Но, быть может, не было произнесено ни слова, не задано ни вопроса, не брошено ни обвинения – защищенный, как непроницаемым панцирем, Удостоверением, крепче, чем эфес шпаги, сжимая в руке корешок книжечки с бланками, уже пустой, уже исполнившей свои функции, но все еще пышущей могуществом, он ушел, минуя все ворота, прошагал по бревнам моста, исчез в светлом тумане – после чего спустя несколько дней неожиданно грянул гром, ниспровергающий короля и одновременно короля создающий! История, как говорится, примитивная… полная пробелов, наивности, слишком простая для наших утонченных вкусов – возможно. Но ведь я нарисовал всего лишь один из придуманных мною – тринадцатилетним школяром – вариантов прочтения лишь нескольких бумаг, говорящих сухим языком канцелярий. К тому же я запомнил не все документы, наверняка даже в этом деле их должно было быть гораздо больше, не говоря уж о других, где цепь улик, составленная из удостоверений, полномочий, пожалований, отличий, награждений и доверенностей была столь невероятно сложной, что сам выдающий их мог в них запутаться и даже не вспомнить о тех нагромождениях гипотез, которые можно было бы возвести вдоль остова канцелярской деятельности. Воображение должно было работать внутри воображения, это было усиление могущества, взлет на все большую высоту, полет, однако, не теряющий опоры, грунта, поскольку он вырастал всегда из бесспорных материальных фактов, в существовании которых невозможно усомниться, как невозможно усомниться в существовании деревьев, камней и бури: из несокрушимых, как сама природа, формуляров…
Не запутывался ли я сам в безграничье этой канцелярщины?.. Трудно сказать. По чисто техническим соображениям я не вел, разумеется, никаких картотек, они просто не уместились бы в ранце, да и, откровенно говоря, мне не хотелось этого делать (что я самым старательным образом скрывал от себя самого). В результате это иногда приводило к столкновениям противоречивых документов, взаимоисключающих друг друга бумаг, к Crirnen Laese Legitimationis, [127]127
Смысл сего: «Преступление, выражающееся в дискриминации документов – удостоверений».
[Закрыть]– но ведь это может случаться и в реальности, а поэтому с помощью селективной работы воображения можно было объяснить даже мои ошибки, более того, они, эти просчеты, создавали условия для нового неожиданного, порой адского усложнения драмы, давая понять, что даже внутри самих канцелярий нет всеобщего, единомыслия и однородности, что и там скрытно, исподтишка борются друг с другом антагонистические силы, что одни Конторы подкапываются под другие, что и они не являются единственными обладателями Главной печати и всех печатей низших, ей подвластных, но кружатся вокруг нее, вокруг них, перепутавшись до невозможности, в неотвратимом рвении, и эта извечная пульсация молчаливых, беззвучных битв еще раз – уже последний – доказывает, что сила и закон Канцелярий не в чиновниках, служащих – одним словом, не в людях, а в пространстве, отделяющем лица от бланков, руки от печатей, глаза от Двери. Однако почему – спросит кто-нибудь – я смею требовать особой благосклонности к бумагомаранию толстого гимназиста, ведь и у шутки должен быть предел? Отвечаю: уж слишком стыдливо мы умалчиваем об абсолютно необходимой благосклонности человека к искусству. И нас воспитывали, и мы воспитываем в наших подопечных убеждение, будто творения искусства лишь немногим отличаются от лежащих в полутьме граблей. Наступивший на них получает такой удар по лбу, что у него из глаз вылетают снопы искр; так же, а не иначе, должно обстоять дело и с великими произведениями: человека, приобщившегося к ним, оглушает – охватывает – неожиданный восторг! Эта благородная ложь столь распространена, что когда по прошествии нескольких лет после описанных здесь событий я вынужден был бежать от гестапо из «погоревшей» квартиры, оставив среди личных вещей тетрадь с собственными стихами, то к сожалению о невосполнимой потере, понесенной национальною культурой, примешалась твердая уверенность в эстетическом шоке, который должны были испытать те из моих преследователей, которые владели польским языком. Некоторое время спустя, поумнев, я краснел при одном воспоминании об этом, но исключительно лишь потому, что понял, сколь чудовищно графоманскими были мои сонеты и октавы – таким образом, я стыдился именно отвратительного качества, все еще не понимая, что качество поэзии не имело в той обстановке абсолютно никакого значения. Совершенно иначе выглядел бы наш мир, если б в нем можно было воздействовать на гестаповские души пусть даже самой высокой поэзией. Повергнуть кого-либо искусством невозможно – оно пленяет нас, если мы соглашаемся быть плененными. На то, что становится тогда элементом взаимного стимулирования, падения на чужие колени и соревнования в восторгах, то есть мошенничества и коллективного самообмана, нам открыл глаза уже Гомбрович, [128]128
Гомбрович Витольд – один из известнейших писателей предвоенной Польши, резко выступавший против мещанства; впоследствии перешел на позиции, враждебные народной Польше.
[Закрыть]но есть во всем этом и еще кое-что, причем в лучшем роде, а именно – читательский талант. Прочесть «Золушку» как добродетельную сказку сумеет и ребенок, но как же без утонченности и Фрейда усмотреть в ней пляску извращений, созданных садистом для мазохистов? Вопрос о том, содержится ли в сказке закамуфлированная непристойность, свидетельствует сегодня лишь о наивности вопрошающего. Потом он неизбежно будет утверждать, что робгрийетовский, [129]129
Ален Роб-Грийе – один из создателей антиромана, француз.
[Закрыть]детектив из «Резинок» – типичный партач, ибо таково буквальное звучание произведения, а несвязность поведения Гамлета проистекает из того, что Шекспир решил соединить воедино слишком много разнообразных элементов из предыдущих версий этой драмы. Вместо ответа современный теоретик укажет вам пальцем на небо, на котором – если рассуждать буквально – звезды рассыпаны совершенно бессистемно, а между тем всем известно, что они складываются в зодиакальные фигуры богов, животных и людей. Ведь в принципе для того, чтобы возвысить, облагородить любое произведение или, наоборот, счесть его банальным, плоским, достаточно во время знакомства с ним установить на сцене своей души такой фон, такую декорацию, которую мы сочтем наиболее подходящей. Это не инертный фон, а система отсчета, в которой неестественно переломленный прутик может оказаться древнеяпонской стилизацией ветви, а достаточно выщербленный камень – скульптурой, олицетворяющей дух нашего разрывающегося на части времени. Стало быть, по одному и тому же поводу можно кричать: «ошибка!», «несообразность!» или наоборот: «гениальный диссонанс!», «бездна, показанная путем удачного разлома логических связей!» Не каждый позволяет себе произвольно придать произведению совершенно новый фон, этим занимаются специалисты, которые частенько тоже не знают, что к чему; отсюда споры, распри и совещания, а также все возрастающие заботы. Ибо авторы, стремясь превратить плоды своих усилий в семантические калейдоскопы, начинают изъясняться все менее внятно, выражая свои замыслы не то что полунамеками, а уж какими-то четвертьнамеками. Конечно, массы и власти в принципе не особенно благосклонны к воплощенческим начинаниям гимназистов, но коль уж мы знаем механизм явлений, то можем по крайней мере на равных с другими правах надеяться на благожелательное отношение, и не только в собственных интересах, ибо мы подозреваем, что в глубине запыленных библиотек хранится уйма неоткрытых Канетти [130]130
Канетти – писатель, современник Т. Манна, лет сорок тому назад написал роман, в свое время забытый, а сейчас пользующийся успехом.
[Закрыть]и Музилей [131]131
Музиль Роберт – австрийский писатель.
[Закрыть]множество произведений, которые никогда не покажут всего своего великолепия, если мы не поможем им указанным уже образом.
Но всего этого я в то время не знал. Старательно ограничивая полномочия, даже монаршие, сам безымянный в этой муравьиной работе, я растворялся в созданном мною творении, не превышал меры, не допускал инфляции Бумаг, а благодаря столь абсолютно практикуемой скромности объединял сакральное с реалистическим. Сакральное, ибо я инстинктивно предположил, что вначале было Удостоверение; реалистическое. поскольку эти действия нашептывал мне сам Genius Temporis. [132]132
Genius Temporis (латин.) – дух времени.
[Закрыть]Если же где-то в отдалении и светило мне Всеудостоверение Личности, Наисветлейший Документ, тяжелый от опечатывающих его красных восковых солнц, весь в гирляндах многоцветных шнуров, зачатие Summis Auspiciis [133]133
Summis Auspiciis (латин.) – сумма примет.
[Закрыть]хаоса, в котором параграфы и картотеки витали еще в состоянии, свободном от Служебной Лестницы (той, что в другом контексте превратилась в Лестницу на небо [134]134
Лестица на небо – лестница из библейского сна Иакова.
[Закрыть]), я отбрасывал от себя эти искушения, эти святотатственные мечты, это цепкое желание проникнуть в Суть, словно бы я предчувствовал тщетность подобного намерения, попытки, заранее обреченной на провал, и только – упорный, в мелочном уточнении, – создавая в ходе канцелярствования то пачку ассигнаций на сто мешков крупнозернистого золотого песка на предъявителя (да, но только такого, который одновременно предъявит Полномочие Пятой Степени), то книжечку Палача II категории, сшитую серебряной проволочкой, объединяя на своей парте Бытие с Повинностью, отгородившись стенкой из учебников, я возвысил мертвую по природе и бесплодную бюрократическую деятельность до уровня артистизма. Я вознесся на крыльях Удостоверений над серой юдолью и уже в свободном полете одним росчерком пера и прикосновением зубчатого колесика от будильника вырывал из небытия необъятные миры. Итак, будучи неполных тринадцати лет, я создал, скрестив литературу с графикой (и то и другое необходимо для создания документов), новое направление, а именно – удостоверизм, то есть сакрально-бюрократическое творчество с двуединым додуманным метафизическим патронатом, святым Петром и Полицейским в одном лице, ибо удостоверения, как известно, существуют затем, чтобы их предъявлять.
Я, разумеется, не верил в собственное детище – в конце концов я лишь играл на уроках истории, географии и даже – о позор! – польского языка… и все-таки… Никогда никому я не показывал даже краешка своих бумаг и поверг себя в такое состояние духа, что, найди я, предположим, на улице удостоверение на предъявителя, доверяющее выкопать сокровища из-под Песчаной горы, я, вероятно, обрадовался бы, но не удивился… Потому что – мне очень трудно это выразить – все было немножко так, будто, зная, что я не изготовляю настоящих документов, я одновременно чувствовал, что все-таки какой-то отсвет истины на них падает, что все это не полностью и абсолютно бессмысленно, хотя одновременно и является таковым – но только условно: ведь я знал, что за мои ассигнации никто не даст не только горсти рубинов, но и вообще ломаного гроша; однако если я не создавал этих звонких ценностей, то, может, изготовлял какие-нибудь другие? Какие? Ценности в себе, как соборы Орвиета и Сиены, которые атеист пытается как-то принизить, говоря, что они-де не более чем очень большие строения, перечеркнутые попеременно белым и черным, как пижама в полоску… Разумеется, бесконечно легче было бы высмеять и свести к нулю мой собор, который не был настолько, как те, материален не вследствие неустойчивости строительного материала, а исключительно из-за того, что те попросту существуют, а мой был всего лишь приравнен к ним. Или, как сказал бы уже современный кибернетик, он был аналоговой многозначной моделью отношений, которые можно обнаружить в мире. Но до этого-то уж я действительно и додуматься не мог. Чувствуя кожей, что того, чего даже я не могу выразить, никто не поймет, а увидит во всем этом всего лишь мой инфантилизм, я молчал, оберегая Тайну. Увы, произведения того периода погибли, даже самые ценные – например, такие, как «Декрет о гимнастике», с оттиснутой двугрошовой монетой серией Малых печатей и снабженный для придания весомости кусочком желтого шнурка, который я на большой перемене оторвал от ботинка, или же разрешение брать в рабство приглянувшихся, с приложенной к нему книжкой паролей, относящихся по сложности к Тайному ключу I класса (о шифрах я знал в основном благодаря «Приключениям бравого солдата Швейка»). Мой труд погиб, но путь остался как весьма многообещающее, четко указанное направление.
Поскольку всю мою обширную канцелярию я приводил в движение исключительно в гимназии (мне жаль было тратить на это время дома – впрочем, у меня просто не хватило бы терпения сидеть над ней специально, а в классе я просто был вынужден отсиживать), постольку эти интенсивные занятия не отнимали домашнего времени. В то время я очень много читал. Помню «Остров Мудрецов» Буйно-Арктовой, представлявший собою что-то вроде предшественника современной science-fiction; как-то я так и не удосужился переложить этот пухлый роман на удостоверения.
После всего рассказанного, вероятно, будет понятно, почему, будучи столь занятым, а в связи с этим рассеянным мальчишкой, я никогда не мог, исполняя функции казначея в школьном самоуправлении, сбалансировать кассу, и отцу приходилось добавлять мне один, а то и два злотых в месяц. Я не растрачивал общественных средств, просто грошовые взносы как-то перепутались в моем сознании с возами золота и сундуками бриллиантов, которыми я мысленно ворочал, а возникающий в результате балаган приводил к дефициту в реальном бюджете.
Строго придерживаясь, как истинный бюрократ, времени, отведенного на труды канцелярские, дома я даже не смотрел на Бумаги с Удостоверениями; в перерывах между репетитором, француженкой и ужином я занимался творчеством совершенно иного рода: делал изобретения. В школе я вообще о них не думал, поглощенный канцелярщиной, дома же, словно переставив железнодорожную стрелку, все свои мысли я направлял в другую сторону; это было совсем просто. Я, пожалуй, не могу сказать, которое из двух занятий считал более важным – этим я напоминал мужчину, ухитряющегося отлично поделить себя между двумя поклонницами; и тут и там я был искренним, как он, отдавался с легкостью и без остатка, поскольку все было подробно распланировано, или, вернее, потому, что все прекрасно сложилось. Возвращаясь домой, я знал, куда мне надо зайти, чтобы купить провод, клей, парафин, шурупы, наждачную бумагу; причем, если отцовской дотации не хватало, я или уговаривал щедрого по натуре дядю, брата мамы, тоже, как и отец, врача, или же комбинировал. У дяди, которого я звал по имени, почти как товарища, иногда бывали приступы расточительности, которые моим родителям не нравились. Несколько раз я получал от него пятизлотовку с Пилсудским, которую не клал в портмоне-подковку, а на всякий случай вообще не выпускал из кулака. Помню, как, идя по городу со вспотевшей монетой в руке, я чувствовал себя замаскированным Гарун аль-Рашидом, а мой взгляд, наталкивающийся на витрины магазинов, в доли секунды разменивал серебряный металл на неисчислимое множество выставленных вещей, однако ни одну из них я пока не собирался облагодетельствовать, купив ее, зачерствевший внутренне в неожиданной скупости миллионщика. Как правило, я вкладывал свои сбережения в изобретения, которые, совсем как у настоящих изобретателей, ухитрялись любую сумму поглотить без остатка – и без результата. Будучи работящим чиновником, я сохранял спокойствие, поскольку канцелярствовать с вдохновением невозможно, техника же горела во мне жарким, святым пламенем. Я приносил ей кровавые жертвы из вечно кровоточащих пальцев, облепленных пластырями, упорный в поражениях, с разбитым сердцем и обломанными ногтями, но все время ищущий, обуреваемый новыми замыслами, новыми надеждами. Я долго конструировал электрический моторчик, внешне напоминающий старую паровую машину Уатта с балансиром; вместо цилиндра с поршнем у него была электрическая катушка – соленоид, магнитное поле которого всасывало внутрь железный сердечник. Специальный прерыватель посылал в обмотку катушки импульсы тока. Это было, как оказалось впоследствии, изобретение вторичное, ибо подобные моторы уже существовали, а точнее – уже перестали существовать, как непрактичные, непроизводительные и малооборотные. Но это, разумеется, не имеет значения. Знаю, что в то время я, пожалуй, впервые проявил чрезвычайно длительное упорство и переделывал эту модель десятки раз, прежде чем она, наконец, заработала, А когда моторчик, неуклюжий, собранный из кусочков жести, выпрошенной у жестянщика (он содержал небольшую мастерскую в нашем доме), наконец, заработал, я уселся среди пережженных батареек, путаницы проводов, масляных пятен, отходов, а также молотков и плоскогубцев (на них едва успела пообсохнуть кровь совсем недавно изничтожаемых игрушек) и смотрел на скрежещущие, медленные, не совсем равномерные обороты, на колебания кривошипа, на маленькие искорки в прерывателе, грязный, измученный и торжествующий. Если потом я и хвастался перед домашними, демонстрируя им мотор, то делал лишь то, что делает на моем месте каждый мальчишка; однако самой торжественной была минута, когда исполнилось, когда был завершен творческий акт и мне уже нечего было делать – мотор работал, спотыкаясь, пожалуй, до темноты, а я только смотрел. Это было, если я не ошибаюсь, совершенно особое удовольствие, не требующее никаких похвал извне или свидетелей. Мне не был нужен никто, поскольку – свершилось! Ни Уатт, ни Стефенсон не могли испытать более бурных ощущений. Ясное дело, этим я ограничиться не мог. Я жаждал новых свершений. Очень долго и терпеливо я занимался электролизом воды, подсыпая в нее самые различнейшие вещества, отнюдь не рассчитывая, что в один прекрасный момент на электродах появится золото. Во-первых, я знал, что этого случиться не может; а во-вторых, мне было нужно не золото. Речь шла о создании субстанции, вообще до тех пор не существовавшей; я соскребал с электродов коричневые, красные, серые порошки и старательно прятал их в баночки. В конце концов я убедился в недостаточности моих познаний. Я начал более систематично строить электрические аппараты, в качестве руководства избрав толстую немецкую книгу, напечатанную готическим шрифтом, «Elektrotechnisches Experimentierbuch». Правда, в течение двух лет я уже изучал в гимназии немецкий язык, однако на этом языке не мог прочесть, то есть понять, ни одной фразы. Поэтому я начал разгадывать немецкий текст с помощью словаря, немного напоминая этим Шампольона, разгадывавшего египетские иероглифы; это был сизифов труд. Как бы там ни было, он принес результаты, поскольку в конце концов я проштудировал книгу от корки до корки и построил машину Вимшерста и индуктор Румкорфа: по непонятным причинам я обожал мощные электрические разряды. Я был очень неряшлив по натуре, страшно нетерпелив, небрежен, и тем более странно, что ухитрялся подвигнуться на самоограничение, на мозольное повторение попыток, когда десятки их не приносили никаких результатов. Дважды повторялся многомесячный, кровавый труд, кровавый буквально, потому что пальцы и костяшки рук были у меня – неловкого манипулятора – все в порезах, перевязанные грязными бинтами, когда я наматывал на склеиваемые собственноручно бумажные катушки несколько километров обмотки, каждый слой которой заливал парафином, перекладывал восковкой; еще хуже дело шло с электростатической машиной, поскольку я не мог найти нужного материала для дисков. Вначале я пробовал использовать старые граммофонные пластинки диаметром чуть ли не шестьдесят сантиметров, оставшиеся после кинематографа и записанные только с одной стороны, но они оказались непригодными. Наконец я достал пластины от очень старой и уже не работающей машины Вимшерста, с помощью лобзика вырезал из них пластины поменьше, отбрасывая позеленевший от старости эбонит, обточил их на электромоторчике, весь в клубах зловонного дыма и черной пыли, залезавшей в глаза, волосы, скрежетавшей на зубах, забивавшейся под ногти. В конце концов машина была построена. Забавно то, что одновременно у меня была масса неприятностей на уроках труда, поскольку все, что я там делал, было немного кривым, неустойчивым, неаккуратно выполненным, и мне постоянно ставили плохие отметки.