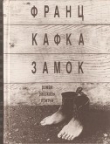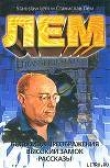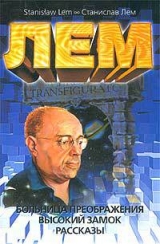
Текст книги "Больница преображения. Высокий замок. Рассказы"
Автор книги: Станислав Лем
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Я так много времени уделяю этим пустячным мелочам потому, что они почему-то кажутся мне занятнее, чем мои более поздние воспоминания и действия. С течением времени ребенок все отчетливее, все однозначнее становится членом определенного коллектива – в школе, в гимназии – и своим поведением уподобляется ему, во всяком случае, пытается по мере сил это сделать. Поэтому его активность оказывается в значительной степени вторичной и, как я думаю, может сказать о его природных особенностях, о демонах, полученных им в наследство с помощью набора генотипов, меньше, чем поступки первичные, часто совершаемые в одиночестве. Наиболее интересными и достойными внимания кажутся мне первые предпочтения и неприязни – они берутся неизвестно откуда, – а не более поздние, привнесенные, порой представляющие собою простое механическое копирование. Ведь дети, как известно, не боятся даже самых ужасных телесных недостатков близких людей, они просто их не замечают. Необходимо некоторое время, чтобы дети впитали в себя нормы окружающего их мира. Вероятнее всего, мы появляемся на свет, не имея никаких критериев, позволяющих отличить уродство от совершенства, – но это не более чем туманное предположение; не известно, можно ли действительно приучить ребенка к какой-то «обратной» по отношению к обычной эстетике повседневности.
Возвращаюсь к миру предметов. Одежда была из них исключена, я ею не интересовался. Этот вывод я делаю на основании того факта, что не помню ни одного наряда, за исключением кожаных тирольских штанишек на зеленых бретельках. Спереди у них был широкий клапан, застегивающийся на роговые пуговицы. Одежда весьма небезопасная и очень неудобная, потому что можно было попросту… не успеть; помню я еще и то, что мечтал стать обладателем настоящей, застегивающейся на пуговицы ширинки, а не клапана, словно у маленького дитяти.
До сих пор я почти ничего не сказал о двух комнатах нашей квартиры, примечательных тем, что я не имел к ним легального доступа. Это была ожидальня и приемная отца. Ожидальню украшали кресла в чехлах; помнится, дерево было совершенно синим; это выяснилось, когда однажды у одного из них отломился поручень. Стоял там еще застекленный шкафчик с безделушками, но не первосортными: какие-то подносики, серебряные корзиночки – подарки от благодарных пациентов, там же за стеклом лежал разваливающийся стилет в псевдояпонском стиле. Был там еще львовский батьяр [89]89
Батьяр – уличный мальчишка, сорвиголова, что-то вроде парижского гамена.
[Закрыть]на деревянной подставке, безымянный, потому что не мой, да и вообще вроде бы ничей, – большая кукла с вытаращенными голубыми глазами, в виртуозно залатанной курточке, штанах и полосатой рубашке. Мне запрещено было прикасаться к нему, поэтому он прожил долго, до самой войны, пережил даже первые ее годы и пал лишь в результате массированных, методически повторявшихся налетов моли. А моли на Браеровской хватало, и каждый домашний обязан был при виде ее пускаться в преследование и остервенело хлопать ладошами, чтобы уничтожить зловредное насекомое. Я же, брезгая этим, всегда хлопал мимо.
Приемная отца была местом запретным, по крайней мере теоретически. Именно поэтому я добросовестно изучал ее при первом удобном случае. Стены были оклеены обоями, имитирующими кафельную плитку. В приемной стояли тощенький твердый диванчик, деревянный шкафчик с лекарствами и небольшим количеством книжек, небольшой врачебный письменный стол, обогревательная лампа, металлический столик с инструментами, а также белое кресло для больных и круглый винтовой стул отца. Обстановка более чем аскетическая, за единственным исключением: на шкафу стоял черный ящичек, разделенный на маленькие отделения, и в нем хранились старательно разложенные экспонаты – все, что отец с помощью больших трубок ларингоскопа Брюннинга извлек из дыхательных путей, пищеводов, бронхов. Эти вещи, сами по себе невинные, поражали воображение, стоило подумать, где они находились. Была там искусственная челюсть с четырьмя зубами и крючком, открытая английская булавка, выловленная из дыхательного горла ребенка, разные шпильки, фасоли, которые уже успели немного прорасти, словно и действительно намеревались в своей растительной невинности навсегда осесть в чьем-то носу, позеленевшие монеты, а также большой кусок киноленты. Когда я подрос, отец иногда рассказывал об обстоятельствах и условиях, при которых добыл эти трофеи, об охоте с пистолетной рукояткой трахеоскопа Брюннинга в руке, показывал мне специальные наборы длиннющих крючьев, хитроумных клещей и зондов. Совершенно необычной была история одного больного, которого привезли задыхающимся, ежеминутно теряющим сознание, синеющим. Зеркальце на лбу отца показывало свободное, широко открытое отверстие гортани, и только по специфическому блеску отец сообразил, что ее все-таки что-то закрывает – может быть, стеклышко. Оказалось, это был кусочек киноленты, которую этот пан, кинооператор, съел с блинчиками (с творогом! – и это я помню); неведомо как в начинку попал один кадр пленки и, осев в дыхательном горле, душил кинооператора, действуя, как клапан. Предметов банальных, множество которых отец все время вытаскивал из пациентов, в черном ящичке не было вообще: например, рыбьих костей. Мы никогда не могли пообедать вместе – обязательно в дверь кто-нибудь звонил, отец тут же облачался в белый халат и, поблескивая своим зеркальцем, словно огромным третьим глазом, исчезал в приемной.
Позавидовав отцовским лаврам, в которых меня привлекала их спортивная, а не медицинская сторона, я в величайшей тайне подбирался к сложнейшей аппаратуре Брюннинга, составлял длинные никелированные трубки, включал, если было нужно, осветительные лампочки и предпринимал смелые попытки извлечь посторонние тела из шланга пылесоса, предварительно засунув их туда. На белом винтовом стулике отца я время от времени крутился до седьмого пота и головокружения, включал огромный соллюкс, который не только грел, но и светил (однажды, кажется, у какой-то пациентки загорелись волосы, потому что в них была скрыта целлулоидная шпилька или гребень, но этого я не помню, так как это случилось еще в то время, когда меня не было на этом свете). Если же я уж совершенно ничего не мог придумать, то наполнял пол-литровый шприц, которым отец пользовался при вымывании из ушей так называемых пробок, и брызгал через раскрытое во двор окно вверх, на четвертый этаж, или вниз, на крыльцо хозяев.
Я уже говорил, что писать и читать научился рано. Я рисовал красивые, усеянные множеством цветочков, поздравительные открытки матери и отцу, да и первые мои занятия были типичными, обыкновенными – сказки и стихи вроде тех, о комаре; уже после войны мне в руки случайно попал какой-то сборник стихов для детей, в котором я обнаружил то, что читал тридцать лет назад; и меня удивило, чего только я в этих стихах не находил, будучи шестилетним мальчонкой. Какие-то драмы, неправдоподобные и невероятные, эмоции, уже совершенно отсутствующие у меня теперь, удивления, страсти и смех таились в то время для меня в сочетании невиннейших слов. Почему история пятна на полу, с которым не могла справиться метла, была полна угрюмости, даже угрозы? Почему подсчет бесхвостых ворон превращался в действо чуть ли не магическое, чуть ли не в рискованный вызов, брошенный каким-то скрытым силам, в искушение неведомого лиха? Тем более странно, что я никому не признавался в этих эмоциях, страхах, драматических переживаниях, никому о них не говорил. Вероятно, я не сумел бы этих состояний выразить, описать. Но кроме того – будь я в состоянии в то время подумать об этом, – я, видимо, счел бы, что реакция, подобная моей, является единственно возможной и совершенно естественной. Во всяком случае, тогда я был более отзывчивым инструментом, нежели сегодня, не требовалось многих раздражителей, ударов, чтобы вызвать во мне, или, точнее, чтобы возвести в моей голове, целые небоскребы чувств и переживаний; определенно, авторы книжек для детей сами не ведают, что творят, не представляют себе, каким легковоспламеняющимся – правда, лишь психически – материалом жонглируют. Им кажется, что они рассказывают поучительную историю, а между тем во время чтения она превращается в загадку или в запутанную драму; стремясь рассмешить, они учат мистическим тайнам. Они складывают ямбы, а в какой-нибудь семилетней голове эти ямбы трансформируются в возвышенный гекзаметр. Самыми необыкновенными были эти первые, полузабытые чтения. Потом незаметно и втихую я утонул в книгах.
Я, конечно, был Зверобоем, Маугли, капитаном Немо, в мою память запали обрывки самых неожиданных текстов; покупая после войны книжку Уминского «Путешествие без денег», я старательно ее перелистал, чтобы найти одну из прелестнейших ее фраз: «Пуля, с характерным грохотом пронзив пространство…» – речь шла об охоте на крокодила или носорога, но, увы, мне попалось переработанное издание, и изумительная пуля вместе с ее характерным грохотом, к великому моему разочарованию, исчезла из книжки. А «Замкнутое ущелье»? Чего только я не пережил, читая ее! Что же тогда говорить о «Духе джунглей»: такие книги нельзя было читать, лежа под окном и ловко балансируя стулом или забравшись с ногами на стул и облокотившись о крышку стола. Нет, нужна была твердая уверенность, что рядом находится кто-нибудь из взрослых, но все равно бывало страшно. Диккенса я читать не хотел – он был словно беспросветная дождливая осень, а в Дюма я просто-напросто заблудился, затерялся – началось невинно с «Трех мушкетеров», а спустя некоторое время оказалось, что для того, чтобы прочесть все его книги, не хватит жизни.
Позже, в гимназии, я уже читал все, что попадалось под руку: Фредро и Мая, Сенкевича, Жюля Верна и Уэллса, Словацкого и Питигрилли; это был сущий винегрет.
Читая, я обычно что-нибудь ел; я, кажется, уже дал понять, что был обжорой, но обжорой любвеобильным – тут уже пришла пора вспомнить о первых женщинах. Удивительно зигзагообразно все это шло. Первой была Миля, наша прачка; мне было лет, может, пять и, как обычно в таком возрасте, я сразу же хотел жениться. Бедняга страдала расширением вен. Электрических стиральных машин не было, стирка превращала дом, и уж во всяком случае кухню с примыкающими к ней помещениями, в подобие парного ада; на середину выезжала огромная бадья, в котлах вулканически кипело, потом появлялся деревянный рубель для катания белья и половина дома заполнялась гулом и грохотом; во время стирки я неизменно торчал на кухне, тарарам мне нисколько не мешал.
Позже я был влюблен в учительницу начальной школы – не помню, как она выглядела. Однажды она побила моего соседа по парте – в принципе в начальной школе можно было получить только линейкой по вытянутой ладони, но этот парень был упрямым, холодным, ужасно строптивым и наглым, моя возлюбленная выколотила из его штанишек тучи пыли. Он даже не пикнул и слезы не уронил, что мне ужасно понравилось.
Понемногу моей специальностью становилась несчастная любовь. Я до умопомрачения влюбился в девочку, которая была старше меня года на четыре, то есть почти в девушку, если учесть, что мне в то время было около десяти лет. На эту девчонку я глазел издали в Иезуитском саду, почти не двигаясь, словно загипнотизированный. Я был довольно толст, особенно пониже спины; фигура моя уже в то время несколько напоминала грушу, хотя максимального сходства с ней я достиг позже, в гимназии. Лицо у меня было толстощекое, глаза немного навыкате, потому что я по природе был любопытен, ко всему прочему я частенько любил раскрывать рот, кажется, считая, что это придает мне обаяние. Я не располагал тогда особыми шансами, да и, откровенно говоря, не представлял себе каких-либо реальных шагов, ибо не знал, что еще можно делать с девчонками, кроме как бегать за ними вечером по саду от куста к кусту и пугать фонариком. Моя любовь к девчонке из Иезуитского сада, лишенная сколько-нибудь четкой структуры действия, не была отмечена печатью развития и тем не менее была невероятно интенсивной. Кажется, я признался в этом родителям, иначе мне не удавалось бы пребывать достаточно часто в той отличной точке, из которой я мог за нею наблюдать. Она обо мне, пожалуй, и не подозревала, я не обмолвился с ней ни словом, и, однако, линия ее профиля, подбородка, губ врезались мне в память настолько основательно, что их след остался и по сей день.
Любопытно, что бурность такого рода платонических увлечений отнюдь не мешала мне в «любвишках» (если это были «любвишки») более – как бы это сказать? – вульгарных. Однажды, когда мне было, вероятно, лет восемь, отец, войдя на кухню, застал меня за тривиальным занятием: я щипал служанку. Смутившись, я пробормотал что-то вроде «ах да» или «ах, простите» и вышел. Интересно также, что я могу вспомнить кое-что из моих тогдашних действий и даже эмоций, но ничего – из мыслей; вполне возможно, что я вообще не выходил ими за круг непосредственных, данных органами чувств ощущений.
На улице Словацкого, напротив Главной почты находилось бюро пароходной компании «Cunard Line», и в каждом его окне стояло по огромной модели океанского парохода. Они преследовали меня, снились мне, эти восхитительные корабли, У них было все как положено, даже бронзовые винты около рулей, такелаж, мачты, бесчисленные ряды иллюминаторов, палубы, мостики, миниатюрные шлюпки, трапы и спасательные круги. Я мечтал о них безнадежно и пылко – вероятно, столь же платонически Джек Потрошитель мечтал о девушках, которые не попали к нему в руки. Его мечтания были, наверно, столь же невинными, как и мои у окон «Cunard Line», лишь их осуществление открывало путь к преступлению. Поэтому, может быть, и хорошо, что ни к одному из этих двухметровых чудес мне так и не удалось приблизиться на расстояние вытянутой руки, ибо раньше или позже она потянулась бы за молотком.
Ребенок, которым я был, интересует меня, а одновременно и беспокоит. Правда, я не убивал никого, кроме кукол и граммофонов, но при этом следует учесть, что я был физически слабым и опасался репрессий со стороны взрослых. Отец меня никогда не бил, мать иногда шлепала, это все, но ведь было множество иных, менее прямолинейных методов и средств, начиная от словесного внушения и кончая лишением сладкого. Если б четырехлетние дети по силе равнялись взрослым, мир наш выглядел бы иначе. Они в самом деле образуют совершенно иную касту, определенно не менее сложны, чем взрослые, только эта сложность сидит у них в другом месте. Разве не с отчаянием в сердце я превращал в хлам игрушки? Разве не жалел потом (независимо от кар) об их утрате? Почему, будучи таким пугливым, я обожал рискованные ситуации? Что меня все время толкало по возможности дальше высунуться из окна? Я ведь хорошо знал, хотя бы благодаря истории с «человеком-мухой», к чему может привести падение с третьего этажа. Я также помню, как напугал дядю, когда зимой во время каникул в Татарове неожиданно влез под паровоз, чтобы срочно отломить свисающую с цилиндра ледяную сосульку. Я ужасно боялся, что поезд тронется и отрежет мне ноги, но, видимо, эта сосулька была мне чрезвычайно нужна. Может, это было то, что психологи именуют «вынужденное действие», что-то вроде навязчивой идеи? Я проходил – это известное явление – через периоды счета окон, дверей, через фазы сложных ритуалов, должен был ходить так, чтобы ступать только на плиты тротуаров, не касаясь ногами мест их соединения, а уж с дыханием у меня были самые невероятные заботы. Я пробовал не дышать, пока возможно, или же делать это как-нибудь по-особому, придумывая какие-то совершенно необыкновенные вдохи и выдохи, особенно перед тем как заснуть; я как-то хитроумно укладывал думки и подушки под голову, строил из одеяла какой-то не то курятник, не то собачью конуру, и так далее.
Бывали у меня – иногда во время болезни, а порой и когда я был совершенно здоров – особые переживания, именуемые – как я узнал тридцать лет спустя – нарушениями схемы строения тела. Я лежал в постели, сложив руки на груди – и вдруг кисти рук начинали расти, в то же время сам я делался совершенно маленьким под их неправдоподобно большим грузом; это повторялось всегда одинаково, кажется, и наяву. Кулаки вырастали до размеров воистину гигантских, пальцы превращались в какие-то замкнутые горные цепи, все в них делалось слоноподобным, менструальным; я немного боялся этого, но опять же не особенно, это было очень странно – я об этом никому не говорил.
3
Теперь я вижу, что был ребенком скорее одиноким, но об этом я совершенно не знал. Мне очень хотелось иметь братишку или сестренку, а вернее – опасаюсь – маленького невольника. Я охотно читал объявления в газетах, в которых шла речь о передаче детей в собственность. Такие анонсы появлялись довольно часто. Мне мечталось, что было бы отлично, если б мы взяли в дом такого ребенка; неопределенность подобного желания представляется мне сейчас несколько подозрительной.
Сверстники приходили ко мне не очень часто. Это не значит, что их вообще не было, но их посещения были исключением из правила, если не редкостью.
По воскресеньям, летом или осенью, мы обычно ездили за город, всегда в одно и то же место, а именно – в ресторационный городской сад пана Руцкого, лежавший на Стрыйском шоссе, около шлагбаума. Сбор пошлины был забавным и любопытным перерывом в езде, во время которого я, конечно, сидел на козлах. Извозчик, точнее кучер, всегда был один и тот же. Звали его не то Крамер, не то Кремер, но я именовал его Толстяком. Так оно и прижилось. Он был коренастым, краснолицым и очень терпеливым. Именно от него я получил основы знаний по коневодству, между прочим, узнал, что лошадь уважает, слушается и боится человека потому, что у нее большие глаза, которые все увеличивают, поэтому человек кажется ей гораздо больше ее самой. Вот почему лошади так пугливы – ведь им все кажется таким громадным!
Мне приходилось придумывать себе занятия на те долгие часы, которые отец, дядя Фриц и остальные проводили под фруктовыми деревьями, играя в карты; была у Руцкого кегельная, но мне не хватало силы бросать огромный деревянный шар – в конце концов и до этого я дорос тоже. Иногда мне удавалось не только вести с Толстяком теоретические беседы, но и убедить его выпрячь лошадь, на которой я немного ездил; а если он отказывал – впрочем, вполне вежливо – или просто спал в дрожках, закинув ноги на козлы, я забирался в малинник, где росло огромное количество жестокой крапивы, и подкрадывался к играющим. Дядя носил котелок, который страшно меня интриговал, так как был твердым. Я изо всех сил пытался сломать у него донышко, но оно сопротивлялось, словно под черным фетром была прикреплена стальная пластина.
Видимо, мне вполне хватало самого себя, так как я не помню, чтобы когда-нибудь скучал. Ведь у меня было все: игрушки, книги, пластилин – я лепил из него слонов, лошадей (они всегда получались хуже), сардельки, колбаски, а то и кукол. У кукол я выбирал из живота пластилин и вкладывал внутрь кишочки, желудки, легкие – тоже пластилиновые; я уже немного знал, как там все внутри устроено. Лучше всего это получалось, когда пластилин был разноцветный, потому что потом можно было залепить живот пациенту и мять его руками до тех пор, пока из него не получалось забавное месиво с перепутавшимися, размазавшимися слоями разноцветного пластилина; из этой смеси изготовлялась очередная жертва, и так до бесконечности.
Будучи до самой гимназии не очень самостоятельным, я, если не считать ближайших окрестностей, плохо знал Львов; немного – улицу Казимировскую, район тюрьмы Бригиток – мрачного здания с толстыми стенами, неподалеку оттуда начиналась боковая улица Бернштейна, где у дяди Фрица была адвокатская контора. Ну, еще Грудецкую, по которой ездили на каникулы, то есть на вокзал, красивый и огромный, расположенный в конце аллеи Фоша.
Дядя Фриц жил на улице Костюшки, неподалеку от Браеровской, и я мог дойти туда сам, чего, впрочем, на практике не случалось. Его квартиры я немного побаивался; причиной тому была медвежья шкура с головой, ощерившей разинутую пасть. Шкура лежала посредине гостиной, и много воды утекло в Пелтви, пока я решился сунуть в пасть этому медведю пальцы. Дядю я очень любил, хотя однажды он жестоко подшутил надо мной. Он принес мне в подарок огромный пакет, на который я тут же набросился, чтобы развернуть упаковку. Это длилось долго, минут пятнадцать, так что, наконец, вспотевший, дрожащий, я оказался среди пораскиданных на все стороны бумаг, держа в руке малюсенькую, меньше фасолины, куколку. Дядя долго смеялся над своей шуткой, не подозревая, как сильно ранил мое сердце.
Если я вообще соглашался ходить на улицу Костюшки, то, пожалуй, только из-за пианино, черного, огромного, на котором, кажется, никто не играл. Я любил измываться над его клавиатурой, потому что обожал мощные удары, бурную и безудержную какофонию; слух у меня никогда не был блестящим, и, к моему счастью, родители даже не пытались подвергать мою музыкальность, дубовую от природы, испытанию наукой игры на каком-либо инструменте.
Кроме бесчисленного множества тяжелых и длинных гардин, в которых души не чаяла вторая жена дяди, тетя Нюня, на улице Костюшки имелась весьма пышная, кажется, «а-ля Луи», мебель. Я помню золоченое зеркало на чьих-то ногах (кажется, льва), грифона на подставке, деревянного и раскрашенного, с маленьким, сидящим на нем верхом негритенком, подсвечник, изукрашенный тысячью кусочков радужного стекла, а также любопытный предмет: стоящую в темной нише огромную бочку из червоной меди, абсолютно бесполезную и потому интригующую.
Этому дяде я многим обязан, потому что он позволил мне перетащить на Браеровскую улицу энциклопедию восьмидесятых годов Брокгауза и Майера, которая вздымалась у него в конторе. Я носил эти огромные тома по одному, настолько они были тяжелы. Разумеется, читать их я не мог, ведь я не знал немецкого, но они были заполнены цветными вклейками, черно-белыми гравюрами на дереве – я проводил над этими тяжелыми и пыльными томищами много времени. Мир, который рисовала энциклопедия, был уже тогда, в двадцатые годы, немного окаменевшим, почти все отдавало анахронизмом, но, во-первых, я об этом не думал, а во-вторых, это нисколько мне не мешало. Поезда восьмидесятых годов, железные мосты с чугунными гирляндами, локомотивы с обильно украшенными металлическим кружевом трубами, равно как и управляющие ими особы, бородатые и усатые паны, все это казалось мне восхитительным, насыщенным невыразимым очарованием. Тогдашние динамо-машины – архаические сооружения с колесами, спицы которых были, разумеется, изукрашены резьбой, электрические моторы, а также различные «новейшие» изобретения, вроде черпавших энергию из аккумуляторов дрожек без лошадей, – все это составляло содержание последнего, дополнительного тома; самым же забавным казалось мне то, что в этих фолиантах было все, и к тому же все это соседствовало друг с другом – слоны, птицы, растения, мамонты, прусские ордена на цветных вклейках, портреты «сильных мира сего», негритянские физиономии, кувшины, драгоценности. Я с головой погружался в энциклопедию; каждый очередной том листал старательно от корки до корки, силясь ничего не пропустить. Не помню, знал ли я вообще, что это за издание и чему оно, собственно, должно служить. Пожалуй, это меня не интересовало. Так что даже и не понимая, что здесь сосредоточен весь мир, каталогизированный и описанный, или же его разрез, сделанный вдоль восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, я, думается, воспринимал все правильно: все там было для меня одинаково хорошо, хотя, естественно, не все одинаково интересно. Энциклопедия была отличным дополнением к зондированиям, проводимым мною в отцовской библиотеке. Многие из имеющихся в ней гравюр послужили мне, надо думать, источником вдохновения в тот период, когда меня охватила страсть к изобретательству; кроме того, энциклопедия, завоевавшая в нашей квартире права гражданства и расставленная в старом белом шкафу в комнате рядом с кухней, служила мне своеобразным тайником. Между книгами и задней стенкой шкафа было достаточно места, чтобы поставить там флакончики с тайными микстурами или просто с винами, в величайшей тайне сливаемыми из стоящих в буфете бутылок.
Насколько же мне легче рассказывать о предметах раннего детства, нежели о людях! Но, если так можно выразиться, лишь предметы были в то время со мной искренни. Они отдавались мне полностью, ничего не утаивая; это относится и к тем, которые – отданные на мою милость – я уничтожал, равно как и к тем, с которыми я ничего не мог поделать. Конечно, у родителей и близких были вполне понятные причины не поверять ребенку свои проблемы и заботы. Это нормально, иначе быть не может. Но отголоски этих проблем и забот или же их последствия все равно рано или поздно доходили до меня в отрывках, не полно, не совсем понятно; ни о чьей злой воле тут не может быть и речи. Впоследствии мне многое стало ясным, и я мог бы привести свой рассказ – односторонний и зачастую лишенный ключа, помогающего восстановить истинные (с точки зрения взрослых) пропорции описываемых событий, – в необходимый порядок, введя в него нужные пояснения и коррективы. Но именно этого-то я и не хочу делать, поскольку стремлюсь по возможности избежать двойной перспективы. Ведь я пишу не историю своей семьи или ее отдельных представителей. Мои намерения скромнее. Меня интересует только ребенок, которым был я. Ведь ребенок не считает свой мир несовершенным, полным провалов, требующим ретроспективных пополнений в каком-то неопределенном будущем – и поступает так, разумеется, инстинктивно, поскольку своего особого положения в мире взрослых не осознает. Тот, кто описывает общество, поклоняющееся магии, не должен на каждом шагу корректировать его верований, приводя различные опровержения, комментарии, рационалистические разъяснения, непрерывно отрицая преувеличения, подвергая сомнению правомочность заклятий и результативность чар. Если они и не оказывают реального воздействия на материальный мир, то наверняка влияют, и к тому же вполне однозначно, на тех, кто в них верит. То же и с ребенком. В этой субъективной перспективе учитываются лишь переживания, а не истинные интерпретации фактов, и селекция отделяет не истинные версии от версий фальшивых, а превращается в молчаливую исполнительницу приказов памяти, которая зарегистрировала то, что зарегистрировала, без какой-либо возможности апеллировать к прошлому.