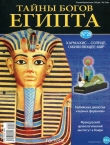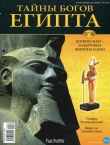Текст книги "Лес богов"
Автор книги: Сруога Балис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
– Вы литовцы, пся крев, захватили наш Вильно. Я покажу тебе, гаду-захватчику. Я покажу тебе, свинья, Вильно. Если ты оборванец, солгал и не справишься с работой, живым отсюда не выйдешь, и Вайт несколько раз поднес к моему носу свой свинцовый натренированный кулак, да так выразительно, что нос мой опечаленно и удивленно дрогнул.
Нужно сказать, что арестантская больница имела неважную репутацию. Узники-ветераны рассказывали, что в ней арестантов просто отравляли. Гаупт отравлял их и сейчас, но только по особому распоряжению. Сначала существовал такой порядок: больной, еще не пробывший в лагере трех месяцев, вообще не имел права обращаться в больницу, что бы с ним ни случилось. Да и теперь в больнице с заключенными не церемонились. Их нещадно били, убивали, и это ни для кого не было секретом. Порог больницы можно было переступить только в том случае, если термометр показывал не менее тридцати девяти. Более низкая температура не котировалась. Арестант получал кулаком в морду, сапогом под дых и вверх тормашками вылетал во двор. Позже эскулапы смилостивились. В больницу принимали уже с тридцатью восемью, а осенью 1944 года – даже с тридцатью семью.
Вступая на пост писаря и принимая волнующие поздравления Вайта, я был почти что здоров – у меня было только 38,4 – вполне нормальная в лагерных условиях температура. Правда чуть-чуть кружилась голова, и какой-то весенний ветерок гулял в ней, глаза заволокло легким красновато-вишневым туманом пустяки! Сквозь туман я довольно отчетливо различал лица, только путались буквы на пишущей машинке, как будто кто-то осыпал их мякиной. Но самым страшным наказанием был ужасный насморк, черт бы его побрал!
Должно быть, не так уж легко представить себе что это значит – иметь страшный насморк: растрескавшийся от холода, изувеченный, кровоточащий нос, словно начиненный динамитом или порохом. Глаза полны слез, а надо сидеть за машинкой, клавишей которой ты не видишь и работать. Работа идет медленно, а от ее успеха зависит твоя жизнь. Да тут еще и платка носового, как назло, нет. На меня было жалко смотреть. Я выглядел, как сорванный и брошенный под забор огурец. Лучше отведать сто ударов палкой, чем иметь такой нос!
Кроме меня, в канцелярии сидели еще трое: капо канцелярии, молодой и спесивый поляк, чья порядочность не превосходила порядочности Вайта; чех, самый высокорослый человек в лагере, и еще один поляк – старый чиновник-педант. Капо и чех, близкие дружки Вайта, встретили меня воинственно. Тепло новичка принял только старый поляк, который до конца остался моим хорошим приятелем. Однако в больнице он мало чем мог мне помочь. Его самого молодые сослуживцы травили, чуть не верхом на нем ездили.
Капо посадил меня на особом месте. С одной стороны – пышущая жаром печь, с другой – дверь во двор. Над головой окно, настежь открытое на предмет проветривания. Апрельские ветры расхаживали по моему телу сверху вниз и снизу вверх, вдоль и поперек, все время у меня было такое ощущение что склад пороха, расположенный в моем носу, вот-вот взорвется.
В груди безостановочно квакали какие-то лягушки.
Проработав в таких условиях неделю, я однажды все-таки повысил утреннюю температуру до 39,6 и обрел права больного.
Всемогущий Вайт только этого и ждал. Он тотчас внушил Гаупту, что я не гожусь для канцелярской работы. Кроме того, неясно чем я болен. Может быть сдохну, а ему до зарезу нужен работник.
Я лег в больницу. На мое место – правда, не на сквозняк, – был немедленно посажен новичок, молодой поляк.
Моя попытка сделать карьеру в больнице, дослужиться, на худой конец, до чина регистратора, потерпела полный крах. И все из-за моего неумения выполнять столь сложную работу.
ФИЛОСОФИЯ МОРДОБИТИЯ
Ко мне доктор Гейдель особенно благоволил. Ему, видно, импонировали моя ученая степень и профессия.
Я избавился от ангины и гриппа. Температура совсем спала, но Гейдель не отпускал меня из лазарета, где и без того не хватало места для настоящих больных.
Мне выпало редкое счастье, фактически такой случай произошел впервые в истории Штутгофа.
Мои друзья оставшиеся в блоке, работали до кровавого пота и получали тумаки, а я лежал себе как барин, в кровати. И еще как лежал! Один. Простыни белоснежные. Подушка есть, а вшей и блох нет. Никто меня не бьет. Никто не обливает грязью. Знай себе спи. Да и кормят здесь лучше. Суп вкуснее, и дают больше. Я свел знакомство с врачами и они кое-что вдобавок подкидывали. Порой и повар лишний кусок подбросит. Иной больной, собиравшийся отправиться к Аврааму, тоже не съедал своей порции и за какую-нибудь дружескую услугу охотно уступал ее мне. Окрепнув, я научился убирать палату мыть полы, коридор; и тут мне кое-что перепадало из съестного. Словом, можно было жить и даже отдыхать. Шатаясь этак по коридорам, я получил даже некоторое повышение.
В больнице производилась перепись новичков: записывали, что они предпочитают из спиртного, кто их родственники, проверяли зубы... Я был приглашен на должность переписчика – в порядке товарищеской помощи. Председатель нашей "комиссии" был санитар, по лагерному "пфлегер" старый каторжник Гервинский. Он обладал недюжинной силой. Большая часть зубов и у него самого была выбита. Бывший боксер, бывший фельдфебель. Исправный кулачных дел мастер. На первых порах существования Штутгофа здесь был создан отдельный блок для немцев-уголовников: воров, грабителей, убийц. Совладать с такой публикой – дело, конечно, весьма трудное. Не слушаются, ругаются, дерутся.
Гервинскому поручили навести порядок среди уголовного сброда. Его произвели в начальники блока. Власти глубоко ценили его искусство мордобоя. Не одному он расквасил морду, не одного отправил прежде времени к праотцам. Рука у него была тяжелая.
Сейчас Гервинского приставили ухаживать за больными. И надо сказать, что ухаживал он совсем недурно – сам не воровал и другим не позволял. Что больному причиталось. то он и получал. Подопечные Гервинского выздоравливали в ускоренном темпе.
У меня с ним были отношения добрососедские. Они носили даже какую-то своеобразную философскую окраску.
С этим самым Гервинским мы и переписывали новичков. Он и тут не забывал своего любимого искусства: ни с того ни с сего возьмет и ударит новичка наотмашь, да так, что тог летит вверх тормашками.
– Какой национальности? – спрашивает он новичка.
– Украинец, – выдавливает из себя новичок.
– А, украинец – зловеще щурится на гостя Гервинский и отпускает ему затрещину. – Какой национальности?
– Украинец.
– Какой национальности?
– Украинец.
После каждого ответа бедняга украинец не знал куда спрятать голову. У него была разбита губа, кровь струилась по пиджаку.
Украинец попытался сказать "православный" но у него ничего не получилось.
– Я тебя о национальности спрашиваю, а не о вероисповедании.
Бедный украинец выплюнул зуб.
– Мало... рос... – прошамкал несчастный.
– Так бы и сказал, что русский – Гервинский приступил к записи. – Где была твоя Украина до войны, пся крев? Не было ее и не будет,
В официальных документах лагеря смешивали национальности и подданство. И то и другое объединялось одним названием. Все граждане СССР без исключения назывались русскими. Украинцы, белорусы, татары, мордвины, грузины – все фигурировали как русские.
Гервинский, знакомый с лагерными уставами, мог сразу отнести украинца к русским и не бить его. Но ему нравилось именно бить.
– Скажи пожалуйста, за что ты колошматишь его, – спросил я у Гервинского, когда украинец выполз за дверь. – Он же тебе правильно ответил. Ты у него национальность спрашивал? Он украинец. Не солгал он тебе. За что же ты избил его?
– О, он, бестия, заслужил большего – пробормотал Гервинский, – он еще счастливо отделался.
– Давно ты его знаешь?
– Нет, первый раз вижу...
– В таком случае, чем же он перед тобой провинился? За что ты его так бил? Его ведь только сегодня пригнали в лагерь он и порядка не знает...
– А ты знаешь, дружок профессор, что эти украинцы делали с нами, с польскими воинами, когда война началась? – Гервинский вдруг нахохлился. Стреляли в нас! Исподтишка. Черт знает откуда вылезали черт знает где прятались. Предательски палили. Знаешь ты какой убыток они нам причинили, сколько войска укокошили! Подлецы они, я тебе говорю, а не украинцы. Без истории народ, без культуры, без традиций государственности. Где, когда, какого государственного мужа породили они, холуи крепостные?
Гервинский начал горячиться и сжав кулаки пошел на меня.
"Вот черт, неужели и меня он сейчас отделает?!"
– Но, дорогой приятель, – произнес я максимально любезным тоном этот-то уж наверняка не стрелял. Рохля настоящий. Бьюсь об заклад, что он пушку от штыка не отличит.
– Все они одним миром мазаны. Я его за то и бил, что он рохля.
– Вот тебе и на! Вот, оказывается ты его за что бил! – я осмелел и стал донимать Гервинского.
– Но ты дорогуша, и поляков не жалуешь. Поляки-то наверняка в тебя не стреляли.
– Бью и поляков. Непременно нужно бить. Не бить нельзя.
– Как себе хочешь, голубчик, но я не могу постичь твоего поведения. Вообще вы, поляки здесь какие-то странные. Прибывает скажем, новая группа ваших соотечественников. Испуганные, подавленные такие, не знают, что делать как держаться, куда идти, – еще бы, в такой ад попали! Казалось бы, нужно их приласкать, ободрить, поддержать по-братски. А вы, старые каторжники что делаете? Без роздыху колошматите... Убиваете своих соплеменников.
– Ха-ха-ха, – расхохотался идеолог мордобития. – Ты прав. Человек, прибывший в лагерь не знает, куда он попал. Мы его и посвящаем в суть дела. Закаляем, пока он силен и здоров. Не дай бог опоздать. Избивать следует его с самого начала, чтобы у него выработалась осторожность. Только так он научится избегать опасности, оберегать себя. Не бей его пока, он здоров моментально разнежится и окочурится. Нет, нужно с самого начала озлобить новичка. Избивая, я пекусь о его благополучии, учу жить, глаза раскрываю...
– Однако же твоя наука чертовски несладкая.
– А что? Литовских интеллигентов никто сначала толком не избивал. Мне остается только пожалеть вас: никудышная у вас закалка. Что с вами будет через месяц? Хорошо, если через три месяца останется человек пять.
– Ну-ну, не пугай...
– Не пугаю. Знаешь, сколько ваших сегодня в больницу положили? Восемь. Слышишь восемь. Ты девятый. Нас пригнали полтора года назад. Было сто девяносто три человека. Знаешь, сколько уцелело? Не знаешь. Я один остался, вот что. Один-одинешенек. Понимаешь? Увидишь, как начнете вылетать в трубу. Один за другим. А то и целой компанией.
– Знаешь что, уважаемый учитель? Чтоб тебя черт взял вместе с твоей философией!
– Что, не нравится правду слушать? Конечно, она не из красивеньких. Ясно, жестокая эта правда. Но она необходима. Новичок нуждается в просвещении и закалке с самого начала. Чтобы он не был болваном, чтобы в любой момент был готов перегрызть другому горло, защищая свою жизнь. Чтобы не забывал, где находится...
– Слушай, апостол рукоприкладства, – сказал я, – объясни мне, пожалуйста, другую вещь: почему узник узника бьет и убивает? Страшно и непостижимо. Что было бы, если бы они перестали сживать друг друга со света, зажили бы по-братски, по дружески. Жизнь, наверное, стала бы вдвое легче.
– Ха-ха-ха-ха, – смачно заржал Гервинский. – Какой ты, милашка профессор, наивный! Книжник! Жизнь плохо знаешь. Тут дело не в людях, а в системе. Систему ввели не мы, а немцы, эсэсовцы. Вначале и мы так рассуждали. Вначале арестант арестанта не бил. Били одни эсэсовцы, и как еще били! Мы бьем с оглядкой. Поколотим и перестанем. А они дубасили без жалости. Каждому жить хочется... Желаешь остаться в живых – шагай через трупы ближних. Опять же, если бы все люди были одинаковы, если бы, скажем, в лагере содержались одни только настоящие политические заключенные, тогда можно было бы кое-как ужиться, объединиться. Но тут полная мешанина. Тут разношерстная публика. Политические разных национальностей, разноплеменные уголовники. Воры, грабители, палачи, убийцы, садисты... И сколько еще, кроме них, всякой дряни. Попробуй, сговорись с ними, установи взаимопонимание! А что самое главное – люди смертельно голодны! Ты, должно быть, видел, что делают доходяги? Роются в мусорных ямах. Грызут на свалке кости. Глотают навоз. Сосут ржавые гвозди. Грязная картофельная шелуха – для них самый дорогой деликатес. Из-за корки хлеба человек готов идти в огонь, готов купаться в уборной. Ближнего своего убил бы без всяких угрызений совести. Прошлой осенью я сам расквасил одному бродяге морду за то, что он у неостывшего покойника печень вырвал и начал жрать. Я ему морду расквасил, но виноват ли он? Знаешь ли ты, что это значит, когда человек скатывается в такую пропасть? Нынче в Штутгофе людоедством уже не промышляют. А в прошлом и позапрошлом году такие случаи были. Я сам был начальником блока. Умрет ночью заключенный, и гляди в оба, чтобы его не слопали. Печень, сердце, как пить дать, вырвут.
Несчастная книжная крыса, можешь ли ты себе представить положение человека, если он обалдевает и доходит до того, что становится людоедом? Думаешь, он таким и родился? Нет! У него был отец, была родина... А что из него в лагере сделали? Думаешь, я преувеличиваю? Нисколько. Я еще слишком мягко рассказал тебе. Спроси у других старожилов Штутгофа – они тебе подтвердят. Человек в лагере превращается в зверя. Впрочем, куда зверю до него. Но он не может стать другим. Он должен, как зверь, защищаться и нападать. Иначе он сыграет в ящик. Его сожрут другие. Откроют пасть, цап – и нет человека. Вышиб я разине-украинцу половину зубов, ну и что из того, пустяк. Просто говорить не стоит, нечего зря языком молоть. Ты, вижу, возмущен. Что-то мелешь о гуманизме, о сочувствии, об утешении. Ты еще дитя, несмотря на седины. Когда улетучишься через трубу, может, поймешь, что Гервинский говорил правду.
Мороз прошел у меня по коже от такой философии. Черт бы его взял! Я не рискнул продолжать спор. В самом деле, чего стоят все мои книги, если в середине XX века, в цивилизованной Европе человек вдруг становится людоедом?
Летом 1944 года нам нанесли визит комендант, начальник лагеря, доктор Гейдель и еще какие-то высокопоставленные лица. Потребовали к себе всех арестантов-моряков.
Моряки были все без исключения немцы. Почти все – воры. Порядочных людей было всего несколько. В лагерь их пригоняли потрепанными, истощенными и нищими. Но тут они быстро оживали. Куда бы их ни назначали, они везде находили возможность что-нибудь слямзить. Мастера! Редкие знатоки своего дела.
Вызвал к себе комендант моряков и выстроил. Кликнул палачей, и те начали избивать их. Палач сечет моряка по заду, а он, моряк, должен громко вести счет и торжественно рапортовать вышестоящему начальнику: столько-то и столько-то получил.
Пороли их группами. Пятьдесят человек получили по пятнадцать ударов за то, что они были моряками. Пятьдесят человек получили по десять ударов за то, что попали в лагерь. Третьей группе досталось только по пять ударов чтобы не забывали, что они находятся в концентрационном лагере.
Выпорол комендант своих моряков-немцев и ушел себе, как будто сигару выкурил.
Среди наказанных был один австриец, морской инженер, очень умный и порядочный человек, по фамилии Бремер. В лагерь он попал за анархистские убеждения и за предосудительное поведение во флоте.
Бремер всегда пребывал в хорошем расположении духа. Как бы ни было ему тяжко, он никогда не расставался с улыбкой и насмешкой. Хорошо, шутил он, что его заперли в лагерь: после войны ему не будет стыдно попасть в порядочное общество. Какой-де немец, не побывавший в заточении, может спокойно смотреть людям в глаза?
На свободе у Бремера остались молодая супруга и сын. Инженер был ярым врагом коричневорубашечников, а его жена вступила в нацистскую партию. Стараясь досадить мужу, она и сына отдала в фашистский пансион. Наконец фрау Бремер решила снова выйти замуж. Разумеется, за национал-социалиста, и потребовала от мужа развода. Находясь в лагере, он два года судился с ней, не давая согласия.
Обо всех своих мытарствах он рассказывал с поразительным чувством юмора, как настоящий венец.
– Ну. Бремер – обратился я к нему после палочного крещения. – сколько получил во славу Третьей империи? Пять или пятнадцать?
– Горе с вами. с иностранцами, – улыбнулся он. – Вы не понимаете и вряд ли когда-нибудь поймете немецкую душу. Вам истязания кажутся каким-то страшным кощунством унижающим достоинство человека. Для нас, немцев, побои обычное явление. Они вошли в нашу плоть и кровь и занимают главенствующее место в системе нашего воспитания. Найдите в Германии, будь то гитлеровская, будь то кайзеровская, гимназию, где бы ученики не подвергались телесному наказанию. Не найдете. Лейпциг испокон веков слывет центром педагогической мысли. В нем провозглашаются новейшие педагогические идеи. В толстых томах, изданных в Лейпциге, авторы клеймят позором избиение школьников. Но идеи эти мы производим только на экспорт. В самом же Лейпциге – колыбели педагогической мудрости – нет ни одного учебного заведения, в котором не избивали бы детей. Вы возмущаетесь, а мы на это не обращаем внимания, как на укус блохи. Немного неприятно, немного свербит... и все. Пора бы и вам понять основы немецкой цивилизации...
Трудно было сказать, шутит ли Бремер, или говорит серьезно. Тем не менее правды в его словах было более чем достаточно.
ПОД СЕНЬЮ КРЕМАТОРИЯ
Во время моего пребывания в больнице больные вдруг посыпались сюда, как муравьи в горшок с медом. В лагере вспыхнула эпидемия: свирепствовали тиф и чрезвычайно опасное расстройство желудка, получившее весьма неблагозвучное название. Смертность от желудочной напасти была выше, чем от всех других болезней вместе взятых.
В больнице негде было яблоку упасть. Пациенты не помещались. Их стали укладывать на койку по двое, по трое. Укладывали как попало. Открытый туберкулез соседствовал с брюшным тифом. Воспаление легких – с дизентерией. Позже, после установления диагноза, больных рассортировали. Желудочников перевели в отдельную комнату и уложили по два, по три. Вонь оттуда густой волной прокатывалась по всей больнице. Мимо этой комнаты трудно было пройти. Казалось, легче умереть, чем болеть и лежать в комнате желудочников. Узники, очутившиеся в ней, недаром спешили как можно скорее покинуть мир сей.
Для тифозников оборудовали даже отдельный барак. С эпидемией началась кое-какая борьба.
Бороться с ней вынуждала крайняя необходимость. В лагере был объявлен карантин. То есть: новых арестантов принимали, а из лагеря никого не выпускали. Но не это обстоятельство заставляло администрацию сражаться с эпидемией. Арестантов никто не щадил: этого добра было предостаточно, хоть отбавляй. Произошло другое, более щекотливое дело. Во всей окрестности вплоть до Гданьска пошли слухи о том, что в лагере свирепствуют ужасные болезни. Немцы, жители близлежащих населенных пунктов, как и все немцы вообще, не хотели без толку умирать. Одно слово "эпидемия" кидало их в дрожь. Ну и начали они во все горло кричать, что лагерь разносит ужасную заразу.
Кто из обитателей лагеря навещает гражданское население? Заключенные? Нет. Отлучаются одни эсэсовцы.
Кто уходит поторговать, кто – попьянствовать, кто – пофлиртовать, кто так себе, полакомиться.
Окрестные жители, особенно вдовы и солдатки, подняли вой, что эсэсовцы лагеря наделяют их разными бациллами. Тут-то власти и вынуждены были принять крутые меры. Карантин был распространен на всех лагерных донжуанов – им на время эпидемии запретили выходить из лагеря.
Вот и попробуй, переправь супруге сахар и маргарин, попробуй, раздобудь бутыль самогону или переспи с соломенной вдовушкой ноченьку. Положение и впрямь катастрофическое.
Волей-неволей начальство лагеря приступило к борьбе со злополучной эпидемией. Не сидеть же эсэсовским рыцарям все время под замком. Чего доброго, и они начнут умирать. Тем более, что трое явили собой заразительный пример – взяли и померли.
Но, сначала в лагере царило мирное сожительство бацилл разного рода.
Ко мне в кровать положили больного брюшным тифом. Ценой своей дневной порции, которую я положил к ногам санитара палаты, мне удалось избавиться от приятного соседства.
Некоторые литовцы-интеллигенты, попав в больницу, нашли более простой выход: они стали дружно умирать. Первым умер заключенный-литовец с первого этажа, – он лежал подо мной. В больнице кровати были двухэтажными. Я, как выздоравливающий, перебрался на второй этаж.
Итак, список покойников-литовцев открыл ученый землемер Пуоджюс, бывший военный, высокий крепкий 47-летний мужчина. По правде говоря, он давно начал угасать. На утренних проверках мы обычно стояли с ним рядом и, словно договорившись, вместе падали в обморок. Его привезли в больницу с температурой свыше тридцати девяти. У него оказалось воспаление легких. Эскулапы осмотрели Пуоджюса только на третий день. Прописали ему аспирин и велели делать компресс, который положили через сутки когда пациент стал терять сознание.
Человека при такой температуре одолевает ужасная жажда. Но в больнице ее нельзя было утолить. Пить сырую воду запрещалось, а кипяченой и в помине не было. Три ночи мучился бедняга, моля дать ему хоть каплю воды, – но и эту каплю в больнице получить было немыслимо. В бреду ему постоянно мерещилось что его толкают в печь крематория и он летит через трубу. Пуоджюс что есть сил защищался от навязчивого кошмара, и ничем нельзя было его успокоить.
Больной слезно просил позвать к нему из барака знакомого, ибо чувствовал приближение смерти. Он умолял по-литовски, по-русски, по-немецки, указывал адреса своих знакомых, называя бараки комнаты и даже нары. Но и это невозможно было сделать. Никто не осмеливался ночью пересечь двор. Во дворе на вышке стоял пулемет, и во всех полуночников, нарушавших установленный режим, стреляли без предупреждения. Остаток предсмертной ночи Пуоджюс провел в тщетных спорах с комендантом. Коменданта, разумеется, здесь не было, но больной создал его в своем воображении. Пуоджюс перечислял ему все прелести лагерной жизни. Ему не хватало воздуха, он задыхался и выдавливал по слогам:
– Гос-по-дин ко-мен-дант, ich bit-te um Ge-rech-tig-keit, – взываю к справедливости – еле-еле простонал он. Простонал и угас.
Угас, – значит, освободил место в кровати. Немедленно прибежали пфлегеры-арестанты, осмотрели зубы покойника, сняли с него рубашку и потащили неостывший труп в кладовую. Теперь оставалось только свалить его на подводу и отвезти в крематорий. Место Пуоджюса занял другой.
В тот день в нашей маленькой палате умерло еще трое, в том числе пожилой немец, попавший в лагерь за то, что купил на черном рынке в Гданьске без карточек полкилограмма масла. Попал в лагерь, заболел и скончался. Сложил свою голову за полкилограмма масла! Умер в этот день и один поляк совсем еще молодой, интеллигентный, очень милый юноша. Он ходил по комнате разговаривал. Потом вдруг лег на свою кровать, хотел откусить кусок сухаря и не успел. Умер. Должно быть и не почувствовал, что умирает.
И еще умер наш соотечественник адвокат Кярпе. Целую неделю ходил он скрючившись, – видно, надорвался на непосильной работе. Есть он не мог ничего, только изнемогал от жажды. А так как из зараженного колодца нельзя было пить, то Кярпе обменивал у других заключенных свою порцию хлеба на минеральную воду. Позже однако выяснилось, что они покупали эту воду не в лагерной лавке – "кантине", – а черпали ее из того же колодца. Отравляли человека за ломоть хлеба. Кярпе пил целебную воду и усмехался.
– Есть, – говорил он, – в лагере и хорошие люди. Не все нас бьют.
В больнице адвокат оживленно беседовал с соседями и отнюдь не собирался умирать. Может быть он и чувствовал неизбежность смерти вообще, но не предполагал что дни его сочтены.
– Эх – вздохнул он повернулся на другой бок и покончил свои счеты с жизнью.
Другие наши соотечественники умирали не с такой легкостью. За пять или шесть недель скончалось девять человек. Более чем два десятка не знало, как поступить – умирать или дальше влачить бремя существования.
По правде говоря, умерло в больнице всего семь литовцев. Двоих убили. Одного из них, молодого талантливого ученого-естествоведа директора Мариямпольской гимназии Масайтиса – почти на моих глазах. Он пришел в больницу совершенно подточенный проклятой лагерной холериной. Масайтис, может быть, и избавился бы от нее, а может быть, и нет.
В умывальне больницы принимал клиентов брадобрей. Он их освежал отборной руганью и палкой. Масайтис чем-то прогневал цирюльника, не под тот душ встал, что ли, и получил палкой по затылку. Ученый потерял сознание, не пришел в себя и на следующее утро скончался.
Директор Каунасской гимназии Бауба был крепким, здоровым общительным человеком. Ему с самого начала везло в лагере. Он устроился в канцелярии комендатуры. Его поселили в приличном помещении. Бауба получал хорошую пищу. Потом подцепил он где-то брюшной тиф, и его, после больницы, отправили до полного выздоровления в барак доходяг. Там Баубу, почти оправившегося от болезни убил табуретом раздатчик пищи Таранский, сам умерший через несколько недель от сыпняка.
Когда в больницу неудержимым потоком хлынули жертвы эпидемии, мне стало не по себе. Наконец Гейдель распорядился выписать меня из лагерной лечебницы.
Правая рука Вайта, его холуй, пфлегер Валишевский на прощание все порывался разукрасить мне морду. Он обыскал все мои рубашки – не украл ли я чего-нибудь, а сам тут же свистнул мое единственное и самое ценное достояние, мой "золотой запас" – восемь сигарет, подарок узника-конокрада...
Валишевский нарядил меня в самое страшное тряпье, какое только нашлось у него обозвал свиньей, сукиным сыном и отпустил.
Вайт, как обычно, отвел всю команду исцеленных в рабочее бюро. Дескать, принимайте, можете снова запрягать... Рабочее бюро настойчиво предлагало оставить меня писарем в больнице, но Вайт и слышать не хотел:
– Мне эти гады, что мой дорогой Вильно захватили, не нужны.
Изгнанный из больничной канцелярии как неисправимый лентяй и неудачник, я должен был начинать лагерную карьеру сызнова. И снова на правах новичка я стал таскать бревна в лесной команде.
В больнице все-таки было лучше чем в лесной команде!
Литовцев-интеллигентов давно раскидали по разным командам. Бревна таскала пестрая публика. Налегают бывало, на бревно человек двадцать, а оно подлое, ни с места. Да и понятно – силенок у нас было не так чтобы много... Иной от щелчка в лоб падал навзничь!
А пока распроклятущее бревно взвалишь на плечи, пока сдвинешь его с места, пока протащишь с полкилометра, а то и больше – скучно становится жить на свете. Так скучно – аж тошнит.
Я таскаю бревна день, два, три... Что же, черт возьми, будет? Если так продлится еще несколько дней то и мне, как и другим – каюк...
Только и думаю как бы избавиться от этих проклятых бревен!
ВОКРУГ ДА ОКОЛО
За возней с бревнами подоспела и пасха 1943 года – первая моя пасха в лагере.
В предпраздничную субботу мы работали только до обеда. После обеда милашка Вацек Козловский выстроил весь блок во дворе. Приветливо сияло и ласково грело апрельское солнце. Ах, как хорошо было бы понежиться немножко под его благодатными лучами!
Вацек подал команду:
– Zdejmoeac koszule! Ale predzej! – Снимите рубашки, живо!
Что же будет? Неужели он, дьявол, оставит нас на пасху и без штанов? От него всего можно ожидать. Но пока что ничего дурного с нами не происходит. Все спокойно. Козловский только приказал сесть на землю.
– Уничтожайте вшей, жабьи морды, бейте их! – кричал Вацек, размахивая суковатой палкой.
Вот оно что! Да здравствует Вацек, да благоденствует он до первой виселицы.
Пестро-желтым насекомым, этой божьей твари, мы устроили в великую субботу настоящий погром.
– Трак-трак-трак-трак – разносилась пулеметная очередь по всему двору. Тьма-тьмущая бедняжек-насекомых была уничтожена.
В первый день пасхи заключенные не работали. Вацек позвал нас литовцев в дневную резиденцию. Может он припас угощение по случаю праздника?
У дверей гостей встретили Козловский и несколько его напарников-бандитов.
– Покажите ноги – чистые ли? Уши. Хорошо ли их моете? – "санитарная комиссия" придирчиво осмотрела нас.
Поскольку наши уши и ноги выдержали экзамен на чистоту, Вацек заявил что в честь первого дня пасхи мы можем если хотим, посидеть в комнате на скамейке. Но тем у которых уши и ноги оказались не первого сорта, пришлось плохо. По случаю праздника неряхи получили и в ухо и в рыло. "Нечистых" выпроводили в умывальню и окунули в холодную воду. В дневную резиденцию они не вернулись...
Какой-то бедняга, гданьский каторжник, подарил нам, "чистым", одно крашеное яичко – да славится его имя во веки веков.
И мы отпраздновали пасху, как люди. Сидели под крышей на скамейках, и даже яичко у нас было...
Самый старший из нас трясущимися от волнения руками взял крашенку, разделил ее на тоненькие ломтики и, прослезившись, благословил каждого.
Символ, скажете? Но порой символ обладает могущественной силой и побеждает самую ужасную действительность.
В этот день обедать нам не хотелось. Мы были сыты ломтиками яйца. И как еще сыты!
То ли нас насытили тихо катившиеся слезы, то ли грустные воспоминания о родине, о близких, о братьях, о сестрах, о семье – история об этом умалчивает.
На второй день пасхи мы трудились только до обеда. После обеда нас опять выстроили во дворе. Арно Леман, главный староста и палач лагеря, делал смотр нашим пуговицам: все ли на месте, не запропастилась ли какая-нибудь.
Кто обладал установленным количеством пуговиц, тот считал себя счастливым. Ему ничего не грозило. Но у кого, скажем, одной не хватало, того гнали в умывальню и там торжественно, в честь великого праздника награждали десятью ударами в зад. Иной, потерявший пуговицу, еще пробовал объясниться:
– Я не знаю, где достать пуговицу. Мне такой пиджак дали. Я, пожалуй, украл бы пуговицу, но где прикажете найти иголку и нитки. Как же я эту украденную пуговицу пришью?
Таким за возражения и открытый протест прибавляли по случаю праздника еще пять палок.
Мои пуговицы в тот день были в полном составе. Я собрался было погреться на солнце, как вдруг почувствовал прикосновение чьей-то тяжелой руки.
Тык, тык – кто-то со спины тычет в дыры моего пиджака.
– Это что такое? – скривив челюсть, осведомился Вацек.
– Прорехи – ответил я дрожа. – Что же еще может быть? Такой пиджак я получил в кладовой.
– Ах ты, глист, – процедил Козловский и треснул меня по уху. – Почему, слизняк не залатал?