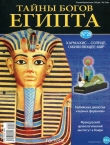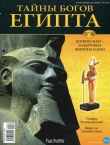Текст книги "Лес богов"
Автор книги: Сруога Балис
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Однажды в конце 1944 года в лагерь прибыла какая-то санитарная комиссия. Власти согнали всех доходяг в отдельный барак, заперли и поставили часовых, чтобы никто оттуда не вылезал. Комиссию сопровождал сам Гейдель, который показывал только то, что было, по его мнению, достойно внимания. Еврейский барак комиссия конечно, не увидела бы. После осмотра других бараков один врач-заключенный, которому был поручен уход за инфекционными больными, набрался смелости и заявил:
– Я хотел бы ознакомить комиссию еще кое с чем...
Доктор Гейдель покраснел как рак, но возражать не посмел. Врач-заключенный повел комиссию прямо в еврейский барак. Очутившись там, члены комиссии зажали нос и на цыпочках попятились к выходу. После отъезда комиссии Гейдель со своими помощниками-эсэсовцами два-три дня вертелся вокруг здания, не осмеливаясь войти внутрь. Наконец Гейдель принял решение открыть окна и проветрить помещение. Из барака стали выбрасывать солому вытряхивать тюфяки. Выброшенную труху торжественно предали огню. Вокруг запахло жареным – уж не от клопов ли? Привезли новую солому и набили матрацы. Кое-куда поставили даже койки.
Однако тридцатый барак не тронули. Он с успехом заменял газовую камеру, так позорно скомпрометировавшую себя, и самостоятельно выполнял возложенные на нее функции. Его содержание не стоило Третьей империи ни пфеннига. Все шло самотеком...
Положение в загородных командах было не везде одинаковое. Кое-где рабочих совсем изматывали и отправляли потом прямо в тридцатый барак. В других же командах особенно в малочисленных, дело обстояло лучше. Там никто не только не умирал, но даже и не болел.
В пределах Штутгофа были расположены склады вермахта. Для их обслуживания нужна была рабочая сила. Вермахту предложили около полутора тысяч евреек. Вермахт согласился. Их хорошо вымыли в бане, одели в сносную теплую одежду, поселили в отдельных блоках – правда, в пределах лагеря – и кормили из армейской кухни. По сравнению с другими эти еврейки были настоящими аристократками. За все время ни одна из них не умерла. Но такое счастье было уделом только полутора тысяч. Всего же в лагере содержалось тридцать пять тысяч женщин-евреек и все они, как и другие политзаключенные, были обречены на смерть. Правда полностью воплотить свои злодейские замыслы эсэсовцам не удалось.
В рабочих командах евреек, а позже и во всех других женских командах порядок наводили немки-эсэсовки в возрасте от двадцати до тридцати лет, видимо, специально для этого дела мобилизованные. Были среди них только две пожилые эсэсовки, толстые, как слонихи. Они прибыли в конце 1944 года из Риги. Водку эти бабы лакали как старые извозчики а ругались почище мужчин-эсэсовцев...
Эсэсовские барышни пользовались в лагере не очень доброй славой. Они смело конкурировали с военными и соломенными вдовами... Заключенных барышни избивали не палками, а специальными тонкими и крепкими ремнями. Понятно, эсэсовки иногда не ленились и по физиономии съездить. Своей честью и достоинством они не слишком дорожили. Но и среди этих отпетых лахудр и стерв попадалась одна-другая порядочная, не менее заключенных тяготившаяся своим положением.
Однажды я возвращался в сумерках с работы. По дороге, видно, с поезда шла девушка в эсэсовской форме. Рыжеволосая, круглолицая она плакала, сняв эсэсовскую шапку и беспомощно опустив руки. Я пожалел ее и спросил:
– Что случилось, девушка? Может, я могу быть чем-нибудь полезен?
– Нет, – всхлипнула она и все повторяла: – Господи, господи!..
Захлебываясь слезами она рассказала, что проводила на станцию транспорт евреек. Измученных таких. Она не знала, куда их везут и ничем не могла помочь. Страшно жалко их, а помочь ничем нельзя...
Девушка исчезла в своем бараке, продолжая рыдать.
ВЫРОДИЛИСЬ ВСЕ ЧЕРТИ
В конце 1944 года все отчетливей стали проявляться признаки вырождения лагеря.
Пока война гремела где-то далеко, за рубежами Восточной Пруссии, наши эсэсовцы были сильны и духом и телом. Они свято верили в провидение в Гитлера и неприступность, окопов, вырытых еврейками. Но как только военные действия перебросились через границу, настроение даже самых твердолобых и храбрых эсэсовских извергов упало, как капля из носу.
Правда, в числе эсэсовцев были и такие, которые еще летом говорили о поражении Германии и с безысходной тоской лакали водку.
В Штутгофе не было врача-окулиста, и Гейдель разрешал отдельным заключенным обращаться за помощью в Гданьск. В течение одиннадцати месяцев у меня непрестанно болели глаза. Гейдель разрешил и мне поехать в Гданьск, и даже не один раз, а целых три.
Меня отпускали в штатской одежде, к которой пришивали маленькие значки – особое отличие каторжника. Кто не знал их назначения, тот едва ли мог догадаться, что я за птица.
В первую поездку меня провожал эсэсовец-охранник. Мы с ним вместе и в поезде ехали, и трубки курили, и разговаривали, как старые приятели. Заведующий гданьской глазной больницей, профессор узнав, кто я такой, полтора часа подряд изучал мои глаза, дружески беседуя со мной. Он не обращал внимания на то, что за дверью ждала большая очередь немцев, что ждали даже члены нацистской партии со знаками на груди, не обращал внимания и на то, что мой конвоир остался за дверьми, где никто не пригласил его сесть, никто ему доброго слова не сказал.
Моему провожатому строго-настрого приказали следить, чтобы я не разгуливал по городу, ни с кем не встречался и не вступал в разговоры. Я должен был сидеть взаперти от поезда до поезда.
Из больницы я отправился со своим конвоиром прямо в... Ratskeller знаменитый ресторан, где была лучшая в Гданьске кухня и обедало высшее чиновничество города.
У моего конвоира были продуктовые карточки, у меня – деньги. Охранник хорошо знал, что мне как заключенному не полагалось иметь при себе валюту. Но я у него на глазах платил своими деньгами и за обед и за пиво, благо вежливые официантки подавали его нам в изобилии. Потом мы обошли, кажется, еще семь погребков пробуя разные сорта пива и разыскивая вино. Я, пожалуй достал бы его у одного толстобрюхого трактирщика с партийным значком члена городского совета, но все дело испортил мой провожатый. Как только трактирщик увидел его, он весь позеленел от страха. Как я ни убеждал досточтимого члена городского совета, что эсэсовец просто зашел выпить и не будет кусаться, он не сдавался. В то что эсэсовец хочет выпить трактирщик верил. Но в то, что не будет кусаться – решительно нет. Слыханное ли дело!
Второй раз я поехал в Гданьск с другим эсэсовцем. Оставшись вдвоем мы завели беседу на политические темы. Он был не совсем глуп. Когда мы приехали в город, мой провожатый сказал:
– Отпустил бы я тебя одного но ты можешь на патруль нарваться. Вдруг документы потребуют? Заподозрят, что удрал из лагеря тогда и тебе и мне влетит. Давай лучше ходить вместе.
Ходили мы с ним по Гданьску осматривали его достопримечательности. Заглянули в один кабачок, в другой... В одном питейном заведении привязался к нам трактирщик, питавший особую любовь к политике. В то время в Нормандии как раз началась высадка союзнических десантов.
– Мое мнение таково, – говорил, бия себя в грудь, трактирщик, – наши совершенно правильно сделали, что позволили англичанам и американцам выбраться на сушу. Я считаю, что нам незачем плыть к ним, чтобы разбить их в пух и прах. Мы подождем. Пусть они сами к нам приплывут. Тогда мы их у себя и расколотим.
– О да, – кивал мой провожатый – пусть пришлют побольше дивизий. Мы их все переколотим – и войне конец!
– По моему мнению, – продолжал распинаться хозяин пивнушки, подчеркиваю, по моему личному мнению следует захватить Английские острова... Всегда от них какие-нибудь неприятности...
– О да, – кивал мой провожатый, – мы всех англичан сбросим в море. Ни одного не оставим на островах. Пусть потонут, подлецы, чтобы их и на семя не осталось!
– По моему мнению, – горячился трактирщик, – подчеркиваю, по моему личному мнению во всех наших бедах виноваты евреи. Подчеркиваю, таково мое личное мнение...
– О да – кивал мой провожатый – конечно, во всем виноваты евреи. Мы их соберем со всего мира. И всех перевешаем. Пусть болтаются на сучьях.
Ну и развели же они политическую антимонию, чтоб их холера взяла. Один хрипел, другой сипел. Один ковал, другой позолотой покрывал. Слушал я их, слушал, и меня то в жар бросало, то в холод.
"Черт возьми, ну и влип же я как кур во щи. С таким дураком-провожатым, – подумал я про себя, – разоткровенничался. Теперь уж я окончательно погиб. Неважно, что свидетелей не было. В глазах начальства прав будет он, а не я. А он верно все расскажет властям..."
Заплатив за пиво, я вышел из кабачка с таким ощущением, будто таракана проглотил.
– Слыхал, что я трактирщику наклепал? – спросил провожатый.
– Он что, ваш старый приятель? – не зная, что и сказать невпопад ответил я.
– Нет, я его впервые вижу. Я никогда не был в этой проклятой дыре.
– Тогда я не совсем понимаю смысл вашего разговора – опять вырвалось у меня неосторожное замечание.
– Нельзя было иначе, нельзя, – обиделся провожатый. – Я был в эсэсовском мундире. Трактирщик меня боялся, по-иному говорить он не мог. Да и я откуда я знаю кто он такой этот боров, – мой конвоир зло выругался.
Со мной он снова разговаривал разумно.
В последний раз провожал меня в Гданьск эсэсовец, у которого в городе была теща. Она жила на окраине. Конвоир повел меня к ней, не взирая на строжайший запрет начальства. Привел к какую-то комнату, усадил возле печи.
– Сиди, – сказал он мне. – Вот здесь.
Я сел. Сижу час. Сижу другой. Сижу третий. Сижу, как нищий у костельной ограды, только не бормочу молитв. Не двигаюсь с места, скучаю. Злюсь. Он там со своей тещей тары-бары разводит, а я тоскую в обществе печи. До каких же пор я буду сидеть тут, черт возьми?
Наконец теща провожатого принесла и поставила на стол тарелку с хлебом и миску супа. Макароны. Вареные в молоке. Хозяйка ошалела, что ли?
– На, ешь на здоровье – сказала теща, крупная женщина в грязном переднике.
Я внял ее совету и набросился на суп с такой жадностью, аж за ушами трещало. Отличные макароны ничего не скажешь, черт возьми!
Я сразу размяк. Мое сердце сделалось сентиментальным. Через несколько минут обширная теща опять вползла в комнату. На сей раз она принесла тарелку картошки и свежей свинины. Я даже рот разинул от удивления. С ума сошла баба, да и только!
– Ешь, сердешный, поправляйся, – сказала она. – Мы крестьяне, у нас еще есть, не обидишь... Я глотал царский обед – свинину с картошкой! Хозяйка вернулась в третий раз. Она вошла потихоньку оглядываясь, не видит ли зять.
– Тс-с-с, – прошептала она приложив к губам палец. Подплыла ко мне придвинулась поближе:
– Расскажи мне, как там у вас... в лагере. Правда ли так страшно, как люди говорят? Ну, а как ведет себя мой зять, не обижает ли вас?
Гм, я поел по-царски. Не стану же я растравлять душу бедной женщины.
– Нет, – говорю, – зять как зять. Ничего особого не делает.
Впрочем, ее зять и не был плохим человеком. Никто на него не жаловался. Был он рядовой солдат, ответственных постов не занимал, следовательно, не имел случая проявить свой темперамент.
– Ох, горе, горе, – вздыхала женщина, – чем он виноват? Взяли, мобилизовали, увезли... Куда назначили, там и служит... Что ж поделать?.. Только ему ничего не говори!
Увидев через полуоткрытую дверь в другой комнате радиоприемник, я сказал:
– Сейчас по радио передают сводку немецкого генерального штаба о ходе военных действий. Нельзя ли послушать?
– Ой, нет, нет, нет, – начала она отмахиваться обеими руками. – Это же политика. Мы политики даже издали боимся.
Граждане Третьего рейха боялись слушать по радио даже сводки своего генерального штаба. Смех и грех!
В конце года дисциплина стала хромать и в лагере. Майер появлялся в Штутгофе все реже и реже. Вместо себя он присылал своего заместителя, невинного агнца капитана Цетте. Капитан все еще плохо разбирался в делах лагеря и не умел отдавать распоряжения. Он только изредка ощупывал карманы возвращавшихся с работы заключенных, и в этом проявлялась вся его административная мудрость.
Между тем Зеленке назначил полицейскими лагеря двух опытных бандитов из арестантов. Им надели полосатые повязки на рукав, дали по большой нагайке и направили в лагерь "наводить порядок". Полицейские были официально признанными помощниками и заместителями Зеленке, его прямыми пособниками в грабежах и соучастниками в убийствах. Благодаря им мощь старосты еще больше возросла.
После Нового года общение с женскими бараками стало более свободным. Был налажен не только обмен невероятно длинными письмами, но устраивались даже совместные вечеринки. Женские бараки гудели, как улья.
Из складов в спешном порядке расхищали различные вещи. Эсэсовцы в первую очередь принялись за чемоданы заключенных и лучшую штатскую одежду обеспечивали себя на всякий случай. От эсэсовцев не отставали заключенные. Больше всего они интересовались штатской одеждой. Скоро чемоданов не осталось. Тогда в мастерских DAW стали изготовлять дорожные мешки. Власти упаковывали вещи и драгоценности. Открыто сжигать документы начали раньше всех в больнице. За ней последовал политический отдел. В углу двора он предал огню свои бумаги и папки.
В Штутгофе циркулировали различные слухи.
В том, что лагерь будет эвакуироваться – никто не сомневался. Но когда это произойдет и куда повезут, никто точно не знал. Одни думали, что придется отмахать пешком около четырехсот километров. Другие уверяли, что в последнюю минуту заключенных освободят, по крайней мере политических. Третьи пожимали плечами и показывали на бочки, полные смолы, которые власти подвозили к жилым баракам.
– Вот увидите, – говорили они, – подожгут ночью жилые бараки и всех нас зажарят, как баранов на вертеле. Кто не захочет сгореть, будет застрелен как куропатка...
Слухов стало особенно много когда власти запретили доставку в лагерь газет. Никакой почты, никаких писем никаких посылок. Эсэсовцы собрали все радиоприемники и спрятали их неизвестно куда.
Заключенные приуныли. Никто не знал ничего определенного. Сам Майер пребывал в неведении. Он неоднократно посылал срочные запросы вышестоящему начальству, требовал указаний, куда и в какое время эвакуироваться, но ответа не получал.
Наш литовский блок в 1944 году получал сравнительно много посылок. Из дома приходили разные вещи: белье пуловеры, табак, сапоги и всякие продукты. Жалко было с ними расставаться. Неизвестно, куда едешь где найдешь приют. Тем более, что начальство приказало готовиться в дорогу, взять смену белья и одеяло.
Стояла глубокая зима. Мы решили соорудить санки и на них везти свое имущество. Кто знает, может быть, в Литве все сгорело в огне войны и мы вернувшись домой, не найдем ничего?
Смастерили санки. Кто сам сделал на собственный риск, кто в складчину по двое, по трое. Провели репетицию погрузки и прочего. Все шло как по маслу. Нашему примеру последовали и другие – сани начали делать во всех блоках. Начальство не интересовалось – откуда у нас материал, где мы работаем. И им все было теперь безразлично.
Красная Армия заняла Эльбинг. Некоторых евреек, работавших там, эсэсовцы успели вернуть в Штутгоф. Более слабых бросили по пути.
Эльбинг находился в 35-километрах от Штутгофа. Днем самолеты кружили в небе. По ночам они бомбили Гданьск и Гдыню. Вдали слышались раскаты артиллерии. Земля дрожала от грохота орудий. Красное зарево окутывало небо.
Однако приказа эвакуироваться все еще не было.
Пессимисты и скептики торжествовали.
– Ну что, наша взяла? Никакой эвакуации не будет. Не зря наполнили бочки смолой. Поджарят нас. Расстреляют. Газами удушат. Подожгут.
Беспокойство росло. Власти усилили охрану лагеря. Расставили пулеметы не только на вышках но и на пригорках, для обстрела каждой тропинки. Чертовщина какая-то!
ПРОЩАЯ, ПРОЩАЙ. ЛЕС БОГОВ!
24 января 1945 года все заключенные лагеря получили приказ готовиться в дорогу. Отбываем завтра в четыре часа утра.
Прекрасно! Значит, тут на месте нас не сожгут и не расстреляют.
В ночь перед эвакуацией никто не спал. Куда там. Разве уснешь! Все слонялись, как пьяные тараканы. Кто копался в свертках, кто околачивался возле бани.
Ровно в 4 часа утра весь лагерь выстроили на плацу. Почти все заключенные вооружились санками. Я составлял исключение. У меня было два мешка с имуществом и одно большое одеяло.
Знакомый эсэсовец взглянул на мой скарб и покачал головой.
– Ich sehe schwarz, – печальная участь, мол постигнет твое имущество. Брось его лучше к черту, под забор!
Весь лагерь разбили на 8 маршевых колонн. Во главе каждой стоял фельдфебель СС. Заключенных конвоировали отряд охранников и специальная команда с овчарками. Большинство охранников и собак доставили специально из Гданьска. Власти, видно, решили, что незнакомые собаки будут более надежны.
В лагере остались только евреи, да тяжело больные, которые не могли двигаться. Остались и упрямые симулянты, питавшие какие-то смутные надежды на будущее.
Все это мне не очень нравилось.
– Сгорите вы все, как клопы на огне – горестно говорили мы им.
– Посмотрим! Еще неизвестно, кто раньше! – отвечали они и прятались по темным углам.
Шествие открыла наша колонна. В ней было около 1600 арестантов. Кроме нас, литовцев, в нее входили жители двух других блоков и часть больных из числа пациентов доктора Гейделя. Тех, кто в состоянии был двигаться, подняли с постели, дали им по две пары белья, простенькую арестантскую одежду без подкладки и рваные пальтишки, похожие на больничные халаты. Убогие одеяльца, жестяная эмалированная кружка, ложка и деревянная обувь завершали их снаряжение. У многих не было чулок. Они почти босыми шли по снегу.
Каждого узника снабдили двухдневной порцией маргарина и хлеба. Но многие расправились с ней тут же на месте... Зачем брать в дорогу лишнюю тяжесть?
Уходившие колонны провожал невинный агнец капитан Цетте. Майер торчал у окна красного здания комендатуры и хлестал водку. В лагере он не показывался, опасаясь, видно, чтобы заключенные не разорвали его по ошибке вместо тряпья.
Наконец наша колонна двинулась... Прощай, прощай, Лес Богов! Сколько проклятий, исторгнутых из глубин сердца, осталось под твоим неприветливым серым небом!
До железнодорожной станции не было и километра. Но санок наших едва хватило даже на это расстояние...
Эвакопоезд состоял из нескольких пассажирских вагонов, предназначенных для немецкой публики и конвоиров, и нескольких товарных вагонов и открытых платформ для арестантов. Полторы тысячи узников должны были разместиться в нескольких душных и грязных загородках. В немыслимой давке и невообразимой тесноте нечего было и думать о том, чтобы пристроить санки. Люди лезли и цеплялись друг за друга; кто орал, кто орудовал локтями, кто опустошал чужие карманы... Около ста заключенных нашей колонны не нашло себе место в поезде. Позднее их включили в другие колонны.
В битком набитых вагонах мы проехали 18 километров до Вислы.
Нашему взору предстало волнующее зрелище: дороги и стежки наводнили немцы. Кто ехал, кто плелся пешком, кто тащил детскую коляску, набив ее всякой всячиной, кто – санки, а кто вез свой скарб, привязав его к велосипеду. Шли старики, шли женщины с малолетними детьми. Они спешили в Гданьск, как можно скорее в Гданьск!
– Хайль Гитлер! – весело махали руками каторжники, обгоняя немецких беженцев. – Мы все-таки едем, а вы, производители чистокровной породы, пешком ковыляете.
Пешие и конные закупорили подходы к Висле на несколько километров. Река разлилась и вздулась. Паровой паром, сравнительно емкий и мощный, не справлялся с такой массой людей и лошадей.
В нескольких километрах от Вислы нас высадили из поезда. Я кубарем скатился с платформы и по пояс увяз в снегу.
"Куда же к черту, разве я утащу два мешка?"
Я быстро вынул вещи и бросил их в снег. Моему примеру последовали и другие. Некоторые даже расстались со своими чемоданами. Только у горсточки узников чудом сохранились санки. Они наспех уложили на них свое добро.
Я, видно, так и выбросил бы свои вещи, если бы ко мне не подошел толстый черный узник, абхазец Илья, житель Сухуми. У мускулистого, крепкого, как мул, кавказца в дороге опустошили чемодан.
– Душа любэзный, – сказал он, – нэ будь дураком, нэ бросай добро, помяни мое слово, пригодится. Дай я понесу. Но ты меня за это корми.
У меня был некоторый запас еды: сухари, хлеб, сало. Табак. Я охотно передал один из мешков абхазцу, – все равно мне бы его не донести...
Оставшись с одним мешком, я покатил по сугробам, как паровоз.
Ого. Нам отдельный паром дали!
– Хайль Гитлер! – весело махали каторжники оставшимся на берегу немцам. Те ждали и все никак не могли дождаться своей очереди.
Хоть раз в жизни нечистокровная порода взяла верх. На пароме рядом со мной оказался худой узник, по имени Александр, имеретин из Сочи.
– Если дашь поесть. – сказал он, – я тебе второй мешок понесу.
– Дам. Бери, бога ради. У меня все равно нет сил нести.
Вскоре и другие владельцы продовольствия прибегли к услугам носильщиков...
Сойдя с парома, мы потерялись в толпе узников. Наш блок распался. Мы опять стали рядовыми каторжниками, как и все.
По шоссе и по дорогам заключенным передвигаться запретили. Дороги держали свободными для отступавшей армии и немецких беженцев. Нас гнали по проселкам, занесенным снегом. Везде белели сугробы, сугробы. Везде лежали глубокие снега. Всех нас окружили собаками и стражниками и погнали рысью. Идти было страшно трудно. Двигаться надо было всем вместе одной кучей. Кто отставал, должен был догонять колонну, пробираться через завалы снега. Шагать, сбившись в кучу, было тоже почти невозможно. Узники еле волокли ноги, толкали друг друга, наступали на пятки...
Начальником нашей колонны был фельдфебель СС Братке, откормленный сорокапятилетний боров, громадной физической силы, прирожденный держиморда почти без шеи, с низким лбом и лошадиной челюстью. Братке, как локомотив, двигался, не зная усталости, и непрерывно палил из револьвера в воздух. Он шел впереди и заставлял узников не отставать. Два часа хода – пятиминутная передышка. И снова вперед. Через пять часов бешеного марша под вечер, фельдфебель разрешил получасовой привал. У кого были продукты тот закусывал, у кого не было ни шиша, сосал пальцы. Мое больное сердце бастовало. Я потерял аппетит. Зато абхазец и имеретин уплетали мое сало за обе щеки. После короткого отдыха снова сумасшедший марш. Узников гнали, как скот на убой. Даже конвоиры-эсэсовцы брюзжали. И они и их собаки едва плелись, высунув языки.
Надвигались сумерки. Наконец совсем стемнело. Мы вышли на шоссе. Идти стало легче, но ноги не слушались, да к тому же было страшно скользко. И холодно, очень холодно... Мы до того устали, что даже движение нас не согревало. То и дело слышались выстрелы. Это конвоиры приканчивали ослабевших и отставших.
– Ну и ну! – узники озирались по сторонам – не направлены ли на них дула пистолетов?
Вдруг рядом со мной появился эсэсовец. Он заговорил по-литовски.
– Интересно, откуда вы знаете литовский язык? Он вспомнил все ругательные слова, которые только знал. Вопрос мой видно, страшно его задел. Он дескать, литовец из Кибартай, слесарь Шяшялга. Три года тому назад немцы схватили его и вывезли в Германию на принудительные работы. Оттуда слесарь сбежал, но его поймали и посадили в тюрьму. Шяшялгу продержали за решеткой шесть месяцев и пригнали в эсэсовские казармы. Напялили на него черный мундир, сделали эсэсовцем и отправили в лагерь, чтобы сопровождать нас.
– Тебе разве не запрещено разговаривать с заключенными?
– Конечно запрещено. Но теперь темно. Ни одна собака не увидит...
– Не слишком ли ты разоткровенничался?.. Не боишься?
– Я знаю, кто вы такой... Знаком по произведениям.
Шяшялга познакомился и с другими литовцами, членами нашего блока.
Наконец, в 10 часов вечера, после долгого, изнурительного сорокакилометрового марша по заснеженным зимним дорогам мы добрались до местечка Прауст, где должны были расположиться на ночлег. Там нас ждал Майер. Он опередил нас, приехав на машине.
Во время переклички некоторые узники свалились от усталости на землю. Одним из первых упал я. Наша колонна за день лишилась шестнадцати человек. Их по пути пристрелили эсэсовцы.
Ночевали мы в полуразвалившейся халупе в которой до нас жили англичане-военнопленные. Теперь стекол в окнах уже не было и протопить конечно тоже никто не пытался. Места явно не хватало. Набилось столько народу, что и без печки стало жарко. Заключенные свалились как попало. Кто упал на нары, кто устроился под нарами, кому досталось место в коридоре где еще оставались трупы умерших утром. Еды никакой. Кормись как хочешь. Хоть свои клумпы грызи. Кто-то проявил инициативу и организовал кофе, но его хватило не на всех. Большинству пришлось довольствоваться одним воздухом, да и то страшно вонючим. Утром повторилась та же картина. Ни куска хлеба, ни глотка кофе, ничего. Абхазец Илья, засучив рукава и оседлав мой мешок, храбро отбивал атаки толпы заключенных, изъявивших желание заменить его и стать носильщиками. Желающих было видимо-невидимо. Абхазец кричал, что он, мол, понесет сам, и никому не уступил полюбившейся ему ноши.
Второй день пути был таким же, как и первый. Правда прошли мы на несколько километров меньше. Зато эсэсовцы пристрелили больше – двадцать человек. До самых сумерек мы брели по заснеженным полям и в конце концов заблудились. Прибавилось еще шесть километров пути по снегу, через овраги. Ночевали в хлеву, в котором было постлано немного соломы. Мороз достигал 20 градусов. Только некоторые получили по глотку теплого кофе, остальные – фигу и вдобавок несколько палок. Улегся я на полу и завыл, как пес на луну. Холодно, черт возьми. Зуб на зуб не попадает. Тем временем у какого-то шалопая, лежавшего наверху, расстроился желудок, и плоды его несчастья плюх, плюх, плюх – полились мне на голову...
Повесить бы его, иуду, за такую подлость, да где ты его ночью найдешь. Изворачивайся, как умеешь, облизывай себя, коли хочешь...
Утро... Еды ни крошки. Марш в дорогу!
Начался подъем на Кашубские горы. Все выше и выше. Снег все глубже и глубже. Он жалил лицо, жег, колол иголками. Люди падали, словно мешки, набитые трухой. Эсэсовцы аккуратно пристреливали их.
Так продолжалось несколько дней, пока мы не добрались до деревни Жуково.
ПИР НА КАРТОШКЕ
В деревне Жуково нас впихнули в огромный сарай. Соломы в нем было – кот наплакал. Вошедшие первыми, понятно, захватили всю эту солому и теперь грозно размахивали выдернутыми из крыш жердями: не пытайтесь, мол, пробираться сюда. Тут и так места в обрез. Оставшиеся разместились на голом полу. В пятнадцатиградусный мороз у нас не было ни подстилки, ни одеяла. Да и места было, мало. Пришлось лезть друг на друга чтобы хоть немного согреться.
Когда наступил вечер, некоторые умелые каторжники принялись обрабатывать наши мешки. Они их ловко разрезали и проворно вытаскивали содержимое. Какой-то владелец мешка попытался было оказать сопротивление и чуть не лишился руки. Так это и происходило: резали и отнимали.
Жизнь сразу потеряла всякий смысл. Стало так неинтересно что хоть сквозь землю провались. Черт возьми, что же с нами будет?
Одному из наших удалось познакомиться с двумя немцами-арестантами, лидерами зеленых – т. е. уголовников. Те с помощью эсэсовцев заняли самые удобные позиция. После долгих переговоров и хорошей взятки зеленые уголовники – согласились принять нас в свою благородную компанию.
Им удалось захватить подвал, набитый картофелем и состоявший из трех отделений. Особенными достоинствами обладало центральное отделение, где картошка доходила почти до потолка. Другие отделения были похуже – в них было и картофеля меньше, и холоднее. При всем том подвал не шел ни в какое сравнение даже с самыми лучшими участками в сарае. Он был настоящим раем.
В центральном отделении подвала обосновался главарь зеленых нашей колонны Франц со своим помощником, один поляк – начальник первого блока, забулдыга первой статьи и капо крематория, немец-уголовник. В сию благочестивую компанию попал и я с моим другом. В соседнем отделении на картофеле устроились в числе других два поляка – Владек и Влодек, матерые каторжники, успевшие в лагере получить высшее бандитское образование. Они взяли под свою опеку известного профессора Варшавского университета Ро-ского.
Профессор Ро-ский попал в лагерь за отказ сформировать в Польше кабинет, который бы плясал под гестаповскую дудку. Это был старый наш друг, человек прекрасного сердца, хороший товарищ. В Штутгофе его все знали. Как и все варшавяне, Ро-ский был весьма общителен и, как большинство профессоров, в той же мере наивен. Он всегда располагал уймой наисвежайших новостей. В этом отношении с Ро-ским мог состязаться только другой варшавянин, старый капитан Ост-кий. Но они не конкурировали. Капитан и профессор охотно делились полученными сведениями, и новости, которые они нам сообщали так и назывались – известия телеграфного агентства Ост-Ро. В искусстве распространять слухи им не было равных. Услышав какую-нибудь новость, прежде всего надо было проверить не пустило ли ее агенство Ост-Ро. Если источники слуха были они, то информация выеденного яйца не стоила и была так же далека от истины, как небо от земли.
Глава телеграфного агентства Ост-Ро профессор Ро-ский встретился с Владеком и Влодеком впервые в сарае. Он никак не мог понять, почему они взяли его профессора, под опеку. Вскоре секрет открылся. Однажды вечером – в картофельном склепе мы жили не одни сутки – Владек и Влодек, движимые заботой о благе профессора, свистнули у нас дорожный мешок с куревом и продуктами. Произвести у воров обыск было немыслимо – они пускали в ход ножи. Пришлось примириться с судьбой.
Однако шеф бандитов Франц придерживался другого мнения. Узнав, что нас обокрали, он услужливо поспешил на помощь: послал в сарай своих агентов для розыска пропажи. Черт знает как они действовали в невероятной темноте, среди огромного скопления людей, но вскоре привели одного виновника кражи потом другого...
Допрос чинил сам Франц, полновластный хозяин погреба. Шеф бандитов по собственному усмотрению назначал наказание. Каждый из них получил двадцать или тридцать палок. Не прошло и минуты, как часть вещей нашлась. Ну и талант был у Франца, черт бы его побрал!
Влодека и Владека Франц не трогал – они работали сообща. В подвале Франц совершал чудеса. Он добывал для нас хлеб, кофе, вареную картошку, раза два накормил отличным горячим супом. В нашем положении умение Франца добывать пищу казалось более чем чудом.