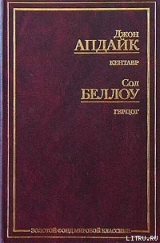
Текст книги "Герцог"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Мистер Динштаг на проводе.
– Кто? Этот шмук? Мне нужен аффидевит (Письменное показание под присягой), он знает. Истец даст ему под зад коленом, если он не представит. И пусть этот шмегеги (Лентяй, бездельник), добудет его сегодня же. – В полную силу его голос грохотал, как морской прибой. Он отключил селектор и в прежнем искательном тоне сказал Мозесу: – Вай, вай! Как же я устал от этих разводов. Что делается! И что еще будет. Десять лет назад я думал, что со всем этим; совладаю. Сам практичный, циничный – смекалкой, думал, обойдусь. Куда там! За ними не поспеешь. Взять этого шнука (Растяпа, лопух) мозолыцика – ведь на какой стерве женился! Сначала она говорит, что не хочет детей, потом – что хочет, снова не хочет, опять хочет. Наконец швыряет ему в морду свой колпачок. Идет в банк. Из сейфа берет общие тридцать тысяч. Жалуется, что муж пытался толкнуть ее под машину. Лается со свекровью из-за кольца, из-за меха, из-за куренка, еще из-за чего-то. А потом муж находит письма от другого дяди. – Симкин потер ладошками свою хитрую, видную голову. Потом показал правильные крепкие зубки, словно обещая улыбку, а на самом деле собираясь с мыслями. Прочувственно вздохнул. – Знайте, профессор: Тинни удручена вашим молчанием.
– Я полагаю. Но я пока не могу заставить себя пойти к ней.
– Прелестная женщина. И такие выродки в семье! Я просто довожу до вашего сведения, потому что она просила.
– Понятно.
– Такая порядочная…
– Я знаю. Она связала мне шарф. Целый год вязала. С месяц назад получил его по почте. Надо бы подтвердить получение.
– Конечно, почему не сделать? Она вам не враг.
Он нравился Симкину, в этом Герцог не сомневался. Но действую* щему реалисту вроде Симкина требуется подзарядка, и некоторая зловредность помогала ему держать форму. И фрукт вроде Мозеса Герцога, этакий непрактичный простачок, хотя и очень себе на уме, баловень и вертопрах, у которого только что увели жену самым смешным образом (куда тут истории с мозольщиком, от которой Симкин в поддельном ужасе вздевает руки и издает тихий стон), такой Мозес был счастливой находкой для Симкина и иже с ним, любящих заодно и пожалеть, и. посмеяться. Симкин учит реализму в жизни. Таких много. У меня на них легкая рука. Химмельштайн такой же, но он жестокий человек. А жестокость убивает меня, реализм – нет. Симкин безусловно знает все о связи Маделин с Валентайном Герсбахом, а чего не знает, ему доскажут друзья, Понтриттер и Тинни.
Тридцать пять лет Тинни жила богемной жизнью, таскаясь за мужем, как привязанная, словно была женой бакалейщика, а не театрального гения, и теперь оставалась той же чуткой заменой длинноногой старшей сестры. А ноги подурнели, и крашеные волосы огрубели, стали как перо. Она носила очки в оправе «бабочка» и «абстрактные» украшения.
Ну, пришел бы я к Вам – дальше что? – спрашивал Герцог. Разводить вокруг Вас чуткость, когда душа лопается от обид, причиненных Вашей дочерью. Вы такие же обиды терпели от Понтриттера и простили его. Она заполняет вместо старика его налоговые декларации. Ведет его студийные книги, стирает ему носки. В последний раз я видел его носки у нее в ванной, на батарее. И постоянно говорит, как она счастлива, что они в разводе: живет никого не спрашиваясь, занимается собою. Мне, жаль Вас, Тинни.
Но ведь это в твою квартиру властная красавица дочь приводила Валентайна (скажешь, нет?) и, отослав тебя с внучкой в зоопарк, в твоей постели занималась с ним любовью. Этот полыхает рыжиной волос, та внизу голубеет глазами. Так что же от меня ожидается сейчас: прийти, усесться и потолковать о пьесах и ресторанах? Тинни непременно расскажет о греческой харчевне на Десятой авеню. Она рассказывала о ней уже добрый десяток раз. – Один друг (понимай: Понтриттер) водил меня обедать в «Марафон». Это что-то особенное. Греки, чтобы ты знал, готовят измельченное мясо и рис в виноградных листьях, с очень интересными специями. Кому хочется, сами по себе танцуют. Греки очень раскованные люди. Ты бы видел, как эти толстяки разуваются и танцуют перед всеми. – Тинни говорила с ним по-девичьи непосредственно и восторженно, втайне он ей очень нравился. И прикус у нее, как у семилетней девочки, для которой внове постоянные зубы.
Что говорить, думал Герцог, ей похуже моего. В пятьдесят пять лет развестись и все еще выставлять напоказ ноги, когда это уже мощи. Плюс диабет. Плюс климакс. Плюс третирующая дочь. И тебе ли ее упрекать, если для самозащиты Тинни и припомнит зло, и покривит душой, и пустится на хитрости? То ли насовсем, то ли в долгое пользование, то есть с возвратом, хотя в другое время это называлось свадебным подарком, она дала нам набор мексиканских серебряных ножей и теперь хотела получить его обратно. Потому и передала через Симкина насчет удрученного состояния. Ей не хочется потерять свое серебро. И ничего циничного тут нет. Она хочет, чтобы они остались друзьями, и при этом хочет обратно свое серебро. Это се ценности. Серебро в сейфе, в Питсфилде. Тяжеловато тащить его в Чикаго. Само собой, я верну. Постепенно. Я никогда не держался за ценности – серебро там, золото. Для меня деньги не средство. Это я для них средство. Через меня все это проходит – налоги, страховка, закладные, алименты, арендная плата, судебные издержки. Прилично выглядеть, наделав ошибок, дорогое удовольствие. Женись я на Рамоне, полегче было бы, наверно.
В «платяном квартале» тележки загородили им дорогу. На верхних этажах гремели электрические швейные машинки, вся улица сотрясалась. Был такой звук, словно полотно рвут, а не сшивают. Улицу заливал, затоплял этот грохотный шквал. Сквозь него проталкивал фуру с дамскими пальто негр. У него была красивая борода, он дул в золоченую детскую дудочку. Его было не слышно.
Потом движение открылось, и такси с рычащей малой скорости дернулось на вторую. – Время поджимает, – сказал таксист.
Они резко свернули на Парк авеню, и Герцог ухватился за сломанную оконную ручку. При всем желании не открыть окно. А откроешь – задохнешься от пыли. Тут одно ломают, другое строят. Авеню забита бетономешалками, тяжело пахнет сырым песком и серым порошком цемента. Внизу долбят землю, забивают сваи, наверху головокружительно и жадно рвутся к голубенькой прохладе стальные конструкции. Пучками свисали с кранов оранжевые балки. В глубине же улицы, где автобусы отрыгивали ядовитую гарь дешевого топлива и машины шли впритирку друг к другу, была совершенная душегубка, как надсаживались моторы и колготился озабоченный люд – это ужас! Конечно, надо выбраться на побережье и хоть дохнуть воздухом. Лучше было лететь самолетом. Но он достаточно налетался в прошедшую зиму, особенно польскими рейсами. Машины у них старые. Из Варшавы он летел на двухмоторном самолете, сидел в переднем кресле, уперев ноги в переборку, и держался за шляпу: привязных ремней не было. Крылья побиты, обтекатели обуглены. За спиной елозили почтовые мешки и корзины. Сквозь злую снежную круговерть они летели над белыми польскими лесами, полями, над шахтами и заводами, над реками, послушными своим берегам, они вязли в облаках, потом развиднелось, и внизу ложилась бело-коричневая карта.
Нет уж, пусть отдых начинается с поезда, как в детстве – в Монреале. Они всем кагалом, с корзиной груш (хлипкой, прутья потрескались), набивались в трамвай до Главного вокзала, груши были перезрелые, Джон Герцог за бесценок покупал их на Рейчел-стрит, плоды уже пошли пятнами, подгнивали, приманивая ос, но пахли чудесно. В поезде усаживались на вытертый зеленый ворс, и папа Герцог чистил грушу русским ножиком с перламутровой ручкой. Он с европейской сноровкой снимал кожицу, вращая плод, резал его на куски. Между тем паровоз вскрикивал, и клепаные вагоны приходили в движение. Солнце и фермы выкладывали на саже геометрические фигуры. У заводских стен прозябал чумазый чертополох. Из пивоварен доносило запах солода.
Поезд повисал над Св. Лаврентием. Мозес нажимал в туалете педаль и в отверстую загаженную воронку видел, как пенится река. Потом он стоял у окна. Река сверкала, выглаживая каменные горбины, вскипала пеной на Лашинских порогах и с грохотом мелела. На другом берегу была Конавага, индейские хижины там стояли на сваях. Потом потянулись выжженные летние поля. В вагоне открыли окна. Эхо отзывалось из соломы глухо, как сквозь бороду. Паровоз сыпал искры и сажу на огненные головки цветов и заволосатевшие сорняки.
Так это было сорок лет назад. У сегодняшнего скорохода литая грудь, сверкает стальное членистое тело. В нем не едят груш, в нем не едут Уилли, Шура, Хелен и мама. Выходя из такси, он вспомнил, как мать, смочив слюной платок, вытирала ему лицо. Ни к чему сейчас вспоминать это, понимал он, обратив голову в соломенной шляпе в сторону Большого Центрального. Он теперь зрелый муж, ему жизнь надо как-то наладить, если получится. А вот остались в памяти запах материной слюны на платке, летнее утро, приземистый пустой канадский вокзал, черное железо и надраенная медь. У всех детей есть щеки, и все матери, поплевав, трут их. Такие вещи могут иметь значение, а могут его не иметь. От общего порядка вещей зависит, какое придавать этому значение. Острота же самих воспоминаний может быть признаком разлада. Постоянную мысль о смерти он воспринимал как греховную. Веди повозку свою и плуг по мертвым костям.
В вокзальной толчее Герцог, как ни старался сделать нужное, сосредоточиться не мог. Мысли развеивались в подземном гуле поездов, голосов и шагов, в переходах, освещенных бульонными блестками, в удушающем смраде подвального Нью-Йорка. У него вымок воротник и взмокло под мышками, пока он брал билет, еще он купил «Тайме», и чуть не разорился на плитку шоколада «Кадбериз», однако удержался, вспомнив траты на обновленный гардероб, в который можно и не влезть, переборщив с углеводами. Враги будут праздновать победу, если он нагуляет жирок, отпустит второй подбородок, обрюзгнет, раздастся в бедрах, вывалит живот и обзаведется одышкой. И Районе это не понравится, а с ее вкусами надо очень и очень считаться. Он всерьез подумывал жениться на ней – при том, что в эту самую минуту покупал билет, сбегая от нее. Вообще говоря, для нее только лучше, что он в разброде, зряч и слеп одновременно, издерган, сломлен, озлоблен, капризен – ненадежен. Он хотел позвонить ей в магазин, но на сдачу дали только пятицентовик, монетки в десять центов у него не было. Можно разбить бумажку, но леденцы или резинка ему не нужны задаром. Он подумал о телеграфе, но не стал выказывать слабость – давать телеграмму.
На душном перроне Большого Центрального он опустил саквояж на составленные ступни и развернул увесистую «Тайме» с лохмотно разрезанными страницами. Мимо сновали бесшумные электрокары с почтовыми мешками, он с усилием продирался к новостям. Несъедобное варево черной печати ЛунныегонкиХрущпредупреэюдаеткомитетгалак-тическиеикслучиФума. Шагах в двадцати от себя он увидел белое мягкое лицо независимо смотревшей женщины в лаково-черной соломенной шляпке, обособившей голову и глаза, которые даже из источенной указателями темноты настигали его с такой силой, какой не ведала за собой их обладательница. Они могли быть голубыми или, скажем, зелеными, серыми, наконец, – этого он никогда не узнает. Но то были сучьи глаза, это совершенно точно. Из них лез тот бабский апломб, на который он моментально ловился; в ту же минуту он получил сполна: круглое лицо, ясный взгляд светлых сучьих глаз, пара гордых собою ног.
Нужно написать тете Зелде, решил он тогда же. Пусть не думает, что им это сойдет с рук – сделать из меня посмешище, обвести вокруг пальца. Он свернул толстую газету и заспешил к поезду. Девушка с сучьими глазами оказалась на другом пути – и слава Богу. Он вошел в нью-хейвенский вагон, и рыжевато-бурые пневматические двери, шипя, сомкнулись за ним. Воздух тут был прохладный, кондиционированный. Он – первый пассажир и мог выбирать, где сесть.
Он сидел скрючившись, уперев в грудь саквояж – свой походный столик, и быстро писал в сшитом спиралью блокноте. Дорогая Зелда, понятно, что ты будешь держать сторону своей племянницы. Я вам чужой человек. Вы с Германом назвали меня членом семьи. И если я сдуру распустил сопли (в моем-то возрасте) после задушевного трепа на семейную тему, разве заслужил я то, что имею? Мне льстило, что Герман, якшаясь с публикой сомнительного пошиба, привязался ко мне. Меня распирало от гордости, что во мне видят «своего парня». Значит, мои духовные метания в качестве рекрута от культуры не сделали меня сухарем. Ну, написал книгу о романтиках – что из того? Нашел же во мне приятеля и родственную душу и берет с собой на скачки и хоккей деятель демократической головки округа Кука, который знается с игорным синдикатом, с букмекерами и королями лотереи, с Коза Построй и вообще всякой шпаной. На самом же деле Герман еще дальше от синдиката, чем Герцог от практической жизни, и оба отводят душу на домашний манер – с русской баней и чаем, с копченой рыбкой и селедочкой на закуску. А дома между тем плетут заговор их неуемные бабы.
Пока я был Мади хорошим мужем, я был замечательным человеком. По стоило Мади навострить лыжи, как я сразу сделался бешеным псом. Обо мне заявляют в полицию, ведут разговоры о лечебнице. Я знаю, что Сандор Химмелыитайн, мой друг и адвокат Мади, справлялся у доктора Эдвига, не гожусь ли я по психическому состоянию для Ман-тено или Элджина. Ты поверила Мади, и все другие поверили.
А ведь ты знала, чего она добивается, ты знала, зачем она уезжает из Людевилля в Чикаго, зачем я должен был найти там работу для Ва-лентайна Герсбаха, зачем подыскивал Герсбахам жилье и устраивал в частную школу малютку Ефраима. Каким глухим и пещерным должно быть чувство, с которым люди – нет, женщины – ополчаются против обманутого мужа, и уж теперь-то я знаю, что, отпуская меня с Германом на хоккейные матчи, ты сводничала своей племяннице.
Герцог не держал зла на Германа, не считал, что тот был в заговоре. «Черные Соколы против Кленовых Листьев». Тихоня и скромник дядюшка Герман, умница и чистюля, в расклешенных брюках и черных мокасинах, пожарной каске подобна утвержденная на голове федора , с кармашка сорочки скалится крошечная химера. На площадке шершнями метались проворные, подбитые ватой, желтые, черные, красные игроки – броски, прорывы, кружения на льду. Над площадкой облаком взрывоопасной пыли стоял табачный дым. Через громкоговорители администрация призывала не бросать монеты на лед. Округлив глаза, Герцог старался, по примеру Германа, расслабиться. Он даже выиграл ставку и повел того в «Фритцелз» смотреть девочек. Там собрался весь чикагский бомонд. Интересно, какие мысли думал тогда дядюшка Герман? Допуская, что знал, чем заняты сейчас Маделин и Герсбах? Несмотоя на кондиционную прохладу в нью-хейвенском вагоне, его лицо мгновенно взмокло.
Когда я в марте вернулся из Европы нервнобольным и поехал в Чикаго посмотреть, что еще можно – и моэюно ли еще – поправить, я в самом деле мало что соображал. Отчасти, может быть, из-за погоды, из-за перемены климата. В Италии была весна. В Турции цвели пальмы. В Галилее среди камней рдели анемоны. А в Чикаго я вышел в мартовскую вьюгу. Меня встретил сочувственно глядевший Герсбах, тогда еще мой ближайший друг. На нем были штормовка, черные галоши, ярко-зеленый шарф, на руках он держал Джун. Он обнял меня. Джун поцеловала в щеку. Мы прошли в зал ожидания, и я достал игрушки и детские вещи, а также флорентийский бумажник для Валентайна и польское янтарное ожерелье для его Фебы. Поскольку Джун пора было укладывать, а метель разыгралась, Герсбах повел меня в «Серф-мотель»: в «Уиндермире» – это ближе к дому, всего десять минут ходьбы – мест, сказал он, не было. К утру намело сугробы. Озеро вспушилось и снежно засияло, теснимое хмурым горизонтом.
Я позвонил Маделин, та бросила трубку; Герсбаха на службе не было; доктор Эдвиг обещал себя только на следующий день. Своих – сестру, мачеху
– Герцог избегал. Он пошел к тете Зелде.
Такси в тот день как вымерли. Он добирался автобусами и на пересадках весь промерз в коверкотовом пальто и мокасинах на тонкой подошве. Умшанды жили в новом пригороде, за Палос-парком, у кромки Лесопарка, – край света! Вьюга здесь утихла, но ветер налетал пронизывающий, и с веток рушились пласты снега. Мороз обметал ледком витрины. Хоть и небольшой любитель спиртного, Герцог купил бутылку Гакенхаймера крепостью 43 градуса. День только начался, но у него стыла кровь, и на тетю Зелду он дышал запахом виски.
– Я согрею кофе. Ты, наверное, промерз насквозь, – сказала она. В кухне с эмалированной и медной посудой, как это принято в пригородах, со всех сторон напирали литые женственные формы белого цвета. Холодильник был полон расположения, плита лизала кастрюльку синими, как у горечавки, язычками огня. Зелда намазалась, надела золотистые широкие брюки, туфли на пластиковом прозрачном каблуке. – Сели за стол. Через стеклянную столешницу Герцог видел, как она зажала руки между колен. Когда он заговорил, она опустила глаза. У нее совершенно белое лицо, смугловатые, теплого тона веки поверх белил густо засинены. В ее опущенном взгляде Мозес поначалу увидел знак союзничества либо сочувствия, но, приглядевшись к носу, осознал свою ошибку: нос дышал недоверием. По тому, как он подергивался, было ясно, что ничему из услышанного она не верит. И то сказать: он же не в себе – больше того, заговаривается. Он постарался взять себя в руки. Пуговицы застегнуты через одну, глаза красные, небритый – он неприлично выглядел. Непристойно. Он излагал Зелде свой взгляд на происшедшее.
– Я знаю, она настроила тебя против меня, отравила твое сознание.
– Нет, она тебя уважает. Просто она разлюбила тебя. У женщин это бывает.
– Любила – разлюбила. Не тебе повторять этот обывательский бред.
– Она была без ума от тебя. Обожала тебя, я же знаю.
– Перестань! Пожалуйста – без этого. Ты сама знаешь, что это не так. Она больной человек. Больная женщина, и я заботился о ней.
– Я этого не отрицаю, – сказала Зелда. – Что правда, то правда. Но болезнь болезни…
– Вот оно что! – взорвался Герцог. – И ты, значит, любишь правду!
Влияние Маделин налицо: та слова не молвит без правды. Не выносит лжи. От лжи сатанеет буквально в ту же минуту, а теперь Зелду перевоспитала, куклу с паклей вместо волос и сизыми червяками на веках. Боже! – думал Герцог в поезде, чего только они не творят со своим телом! А нам терпеть, глядеть, слушать, мотать на ус, вникать. Теперь эта Зелда с умеренно морщинистым лицом, с мягкими засосными ноздрями, раздувшимися от подозрения, пораженная его состоянием (а он умел заявить о себе, если отбросит вежливость), – теперь она втирает ему насчет правды.
– Разве мы с тобой не одного поля ягода? – говорила она. – Я не какая-нибудь клуша из пригорода.
– Это, видимо, потому, что Герман будто бы знается с бандюгой Луиджи Босколлой?
– Не делай вид, что не понимаешь…
А Герцог и не хотел ее обижать. Он вдруг понял, почему она ведет такие речи. Маделин убедила Зелду в ее исключительности. Все, близко соприкоснувшиеся с Маделин, вовлеченные в драму ее жизни, делались исключительными, талантливыми, яркими. С ним это тоже было. Но его вышибли из жизни Маделин, вернули в темноту, и он снова стал зрителем. Он видел, как кружит голову тете Зелде ее новое самоощущение. Даже за такую близость он ревновал ее к Маделин.
– Да нет, я знаю, что ты не такая, как все тут…
У тебя другая кухня, и все другое – итальянские лампы, ковры, мебель из французской провинции, посудомойка, норковая шуба, загородный клуб, урильники на случай паралича.
Я уверен в твоей искренности. Что ты не была неискренней. Настоящая неискренность редко встречается.
– Мы с Маделин были, скорее, как сестры, – сказала Зелда. – Что бы она ни сделала, я продолжала бы ее любить. И я безусловно рада, что она потрясающе себя вела – серьезный человек.
– Чепуха!
– В серьезности она тебе не уступает.
– Взять напрокат мужа и потом сдать обратно – это как?
– Ну раз ничего не получилось. У тебя тоже есть недостатки. Вряд ли ты будешь отрицать это.
– С какой стати.
– Нетерпимый, замкнутый. Вечно в своих мыслях.
– Более или менее – да.
– Требовательный. Чтобы все было по-твоему. Она говорит, ты ее извел заклинаниями: помоги, поддержи.
– Все верно. Добавь: вспыльчивый, раздражительный, избалованный. Что-нибудь еще?
– Ни одной женщины не пропускал.
– Возможно, раз Маделин дала мне отставку. Надо же как-то вернуть уважение к самому себе.
– Нет, это было еще когда вы жили вместе. – И Зелда подобрала губы.
Герцог почувствовал, что заливается краской. В груди сильно, горячо и больно сдавило. Заныло сердце, взмок лоб.
Он выдавил:
– Она превратила в ад мою жизнь… половую.
– При вашей разнице в возрасте… Что теперь считаться, – сказала Зелда. – Твоя главная ошибка в том, что ты похоронил себя в глуши ради своей работы, этого исследования незнамо чего. И ведь так ничего и не сделал, правда?
– Правда.
– О чем хоть эта работа?
Герцог попытался объяснить о чем: что его исследование должно подвести к новому взгляду на современное положение вещей, утверждая творчество жизни через обновление универсалий; опрокидывая держащееся доселе романтическое заблуждение относительно уникальности личного начала; ревизуя традиционно западное, фаустовское миропонимание; раскрывая социальную полноту небытия. И многое другое. Но он прервался, потому что она ничего не поняла и обиделась, не желая признать себя домашней клушей. Она сказала: – Звучит впечатляюще. Все это, конечно, важно. Но дело-то не в этом. Ты свалял дурака, что похоронил себя и ее – молодую женщину! – в Беркширах, где словом не с кем обмолвиться.
– Ас Валентайном Герсбахом, с Фебой?
– Разве только. Ведь это ужас – что было. Особенно зимой. О чем ты думал? Она в том доме была как в тюрьме. Это кто хочешь взвоет: стирка, готовка, и еще ребенка унимай, иначе, она говорит, ты устраивал скандал. Тебе не думалось под детский плач, и ты с воплем прибегал из своей комнаты.
– Да, я был глуп, совершенный болван. Но понимаешь, я как раз обдумывал одну из тех моих проблем: сейчас можно быть свободным, однако свобода ничего в себе не заключает. Это вроде кричащей пустоты. Я думал, Маделин близки мои интересы – она же любит науку.
– Она говорит: ты диктатор, настоящий тиран. Ты затравил ее. Я в самом деле напоминаю незадавшегося монарха, вроде Moeго старика, с помпой иммигрировавшего, чтобы стать никудышним бутлегером. А что в Людевилле жилось скверно, кошмарно жилось – это правда. Но разве не по ее желанию мы купили этот дом – и уехали, как только она захотела? Разве я не позаботился обо всем и обо всех, даже о Герсбахах, чтобы выехать из Беркшира всем вместе?
– На что она еще жаловалась? – сказал Герцог.
Зелда поколебалась, как бы прикидывая его способность вытерпеть правду, и сказала:
– Ты думал только о своем удовольствии.
Вот оно что. Понятно, о чем речь: преждевременная эякуляция. Его взгляд вспыхнул яростно, сердце бешено застучало, он сказал: – Был грех. Но за последние два года ни разу. А с другими вообще никогда. – Жалкие объяснения. Зелда не обязана им верить, и он вынужден защищать самого себя, а это позорная и проигрышная ситуация. Не вести же ее в спальню за подтверждением своей правоты, и свидетельских показаний от Ванды или Зинки у него тоже нет. (Вспоминая сейчас в стоявшем поезде ту протестующую горячность, с какой он предлагал свои объяснения, оставалось только рассмеяться. Но по лицу скользнула лишь слабая улыбка.) Какие же они все проходимки – Маделин, Зелда… другие тоже. Некоторым вообще наплевать, что довели мужика до ручки. Послушать Зелду, так девица вправе требовать от мужа еженощного удовлетворения, предосторожностей, денег, страховки, мехов, драгоценностей, прислуги, драпировок, платьев, шляп, ночных клубов, загородных клубов, автомобилей, театров.
– Мужчина не удовлетворит женщину, если она его не хочет.
– Вот ты сам и ответил на свой вопрос.
Мозес было заговорил, но спохватился, что снова сбивается на глупейшие оправдания. Побледнев, он плотно сжал губы. Он чудовищно страдал. Ему было до такой степени скверно, что похвастаться, как бывало, выдержкой он бы сейчас не смог. Он молчал, внизу шумела сушилка.
– Мозес, – сказала Зелда, – я хочу быть уверена в одном.
– То есть?
– В наших отношениях. – Не отвлекаясь на крашеные веки, он теперь смотрел ей прямо в глаза, в ясные карие глаза. У нее мягко напряглись ноздри. Ее лицо могло быть очень располагающим.
– Что мы по-прежнему друзья, – сказала она.
– Мм… – сказал Мозес. – Я люблю Германа. Тебя.
– Я в самом деле твой друг. И я всегда говорю правду.
Глядя на свое отражение в окне, он отчетливо слышал свои тогдашние слова: – Я думаю, ты искренний человек.
– Ты веришь мне?
– Конечно, хотел бы верить.
– Ты должен мне верить. Я душой за тебя болею. Глаз не спускаю с Джун.
– Вот за это спасибо.
– Хотя Маделин хорошая мать. Тебе не о чем тревожиться. Мужчин она близко к себе не подпускает. Они ей постоянно названивают, не дают проходу. Еще бы: красавица и вообще исключительная личность, яркая. Ты бы удивился, кто стал обрывать ее телефон в Гайд-Парке, когда узнали про развод.
– Мои добрые друзья, разумеется.
– Будь она, прости господи, вертихвосткой, ей было бы из кого выбирать. Но не тебе говорить, какой она серьезный человек. И потом, такие люди, как Мозес Герцог, тоже, знаете, на земле не валяются. Твоему обаянию и уму трудновато найти замену. В общем, она все время дома. Все передумывает заново, всю свою жизнь. И никого с ней нет. Ты знаешь: мне можно верить.
Если ты видела во мне опасность, то, конечно, ты была обязана лгать. Сознаю, что я отвратно выглядел: распухшее лицо, красные дикие глаза. Вообще говоря, серьезная штука – женский обман. Мрачные восторги вероломства. Заговорщицкие интриги секса. На чем и выезжают. Я видел, как ты выбивала из Германа второй автомобиль, знаю твою повадку. Ты боялась, что я могу убить Мади и Валентайна. Но ведь когда я все узнал, почему, спрашивается, я не пошел в ломбард и не купил пистолет? Или того проще: после отца остался револьвер, он и сейчас в его столе. Но я не криминальный тип, во мне этого нет, и если я кому и страшен, то только самому себе. Я знаю, Зелда, тебе доставило колоссальное удовольствие, ты радовалась за двоих, когда от полноты души лгала мне.
Поезд как-то сразу отошел от платформы и вошел в туннель. Лишившись света, Герцог придержал перо. Нудно тянулись сочившиеся влагой стены. В пыльных нишах светили лампочки. Отсутствующим богам. После долгого подъема поезд вырвался к слепящему свету и покатил по насыпи над трущобами верхней Парк авеню. На восточной 90-й с чем-то улице, у хлещущей колонки, с визгом скакала малышня в облипших штанишках. Теперь за окном возник тяжелый, темный, жаркий, испанский Гарлем, а далеко справа обозначился Куинс, густо заполненная кирпичная хартия, прикрытая атмосферной пленкой.
Герцог писал: Никогда не пойму, чего хотят женщины. Чего они хотят? Они едят зеленый салат и запивают кровью.
Над Лонгайлендским проливом прояснело. Воздух совсем расчистился. Ровная гладь нежно-голубой воды, сверкающая трава, усеянная полевыми цветами, среди камней густо растет мирт, цветет земляника.
Теперь я вполне знаю смешную, грязную, патологическую правду Маделин. Есть о чем задуматься. Тут он поставил точку.
Не сбавляя скорости, Герцог проскочил стрелку и погнал письмо к старому чикагскому другу Лукасу Асфалтеру, университетскому зоологу.
Что на тебя нашло? Я часто заглядываю в колонку «Интересные люди», но никак не думал встретить там своих друзей. Теперь вообрази мое удивление, когда я увидел в «Пост» твое имя. Ты не сошел ли с ума? Я знаю, что ты обожал свою обезьяну, и жалею, что она умерла. Но зачем же было делать Рокко искусственное дыхание «рот в рот», тем более что он умер от туберкулеза и наверняка кишел микробами? Асфалтер был патологически привязан к своим животным. Герцог подозревал, что он склонен наделять их человеческими свойствами. Совсем не была забавным существом эта его макака по имени Рокко: упрямая и капризная тварь тусклого окраса, пасмурным видом напоминавшая еврейского дядюшку. Но если он угасал от чахотки, ему, конечно, не полагалось иметь жизнерадостный вид. Оптимист и лопух в практических вопросах, Асфалтер, без научной степени подвизавшийся сбоку академического поприща, занимался сравнительной анатомией. Он ходил в ботинках на толстой каучуковой подошве и замызганной спецовке; вдобавок облысел, бедняга, поувял. Потеряв в одночасье волосы, он остался с чубчиком, и сразу выдались вперед красивые глаза под сводчатыми бровями и чащобно потемнели ноздри. Надеюсь, он не наглотался бацилл от Рокко. Говорят, набирает силу какой-то новый гибельный штамм, туберкулез возвращается. В свои сорок пять лет Асфалтер оставался холостяком. Его отец когда-то держал ночлежку на Мадисонстрит. В юности Мозес часто заходил к ним. И хотя лет десять – если не все пятнадцать – Мозес не поддерживал с Асфалтером близких отношений, они вдруг обнаружили у себя массу общего. От Асфалтера, кстати, Герцог и узнал, на что способна Маделин и какую роль в его жизни сыграл Герсбах.
– Страшно неприятно говорить тебе, Мозес, – сказал ему у себя на работе Асфалтер, – но ты связался с законченными психопатами.
Это было на третий день после того мартовского бурана. Кто бы. сказал, что тут вовсю бушевала зима. Подвальные окна были распахнуты во внутренний двор. Ожили черные от сажи тополя, вышелушив красные сережки. Они заполнили собой и своим благоуханием весь серый дворик, открытый только небу. В соломенном кресле сидел Рокко с больными, потухшими глазами, забуревший, как припущенный лук.
– Я не могу допустить, чтобы ты сломал себе шею, – сказал Асфалтер. – Лучше скажу… Тут у нас есть лаборантка, она сидит с твоей дочкой, так она мне много чего рассказала про твою жену.
– Что конкретно?
– Про нее и Валентайна Герсбаха. Он там днюет и ночует, на Харпер авеню.
– Правильно. Я знаю. Он единственный, на кого можно положиться в нашей ситуации. Я ему доверяю. Он показал себя настоящим другом.
– Да знаю я это, знаю, – сказал Асфалтер. На его бледном круглом лице проступили веснушки, большие, темные с поволокой глаза глянули с горестной задумчивостью. – Все знаю. Валентайн безусловно украсил жизнь в Гайд-парке, какая еще там оставалась. Удивительно, как мы без него обходились раньше. Сколько от него тепла, шума – и шотландцев с японцами славно изобразит, и голосом погрохочет. Любой разговор забьет. Кипит человек жизнью! Да, этого хоть отбавляй. И раз ты сам привел его, все считают его твоим закадычным другом. Он первый об этом говорит. А сам…








