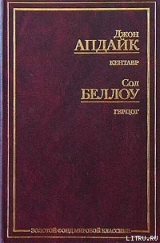
Текст книги "Герцог"
Автор книги: Сол Беллоу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Сол Беллоу
Герцог
Пэту Ковичи,
великому редактору и, что важнее, великодушному другу, с любовью посвящается эта книга.
* * *
Если я схожу с ума, то быть по сему, думал Мозес Герцог. Кое-кто считал, что он помешался, и он сам одно время не был уверен, что наверху у него все в порядке. Но сейчас, при всех своих странностях, он чувствовал в себе уверенность, бодрость, проницательность и силу. Им овладело наваждение, и он писал письма решительно всем на свете. Эти письма его так будоражили, что с конца июня он перебирался с места на место, таская за собой саквояж с бумагами. Он потащил его из Нью-Йорка на Мартас Виньярд, откуда моментально вернулся, через два дня улетел в Чикаго, а из Чикаго подался в один поселок на западе Массачусетса. Укрывшись в сельской глуши, он безостановочно, неистово писал в газеты, общественным деятелям, друзьям и близким и, наконец, покойникам, начав со своих, никому неведомых, и кончив известными всем.
Для Беркшир это была вершина лета. В большом старом доме Герцог был один. Обычно привередливый в еде, сейчас он ел хлеб из бумажного пакета, бобы из консервной банки и чеддер. Иногда щипал малину в заросшем саду, с рассеянной осторожностью поднимая колючие ветки. Что касается сна, то спал он на голом матрасе – на своем охладелом супружеском ложе – либо в гамаке, накрывшись пальто. Во дворе его окружали высокая остистая трава, белая акация и кленовая поросль. Когда он ночью открывал глаза, звезды казались подступившими призраками. И всего-то – светящиеся, газообразные тела, минералы, теплота, атомы, но в пять утра многое скажется человеку в гамаке, завернувшемуся в пальто.
Когда приходила очередная мысль, он шел записать ее в кухню, там у него был штаб. С кирпичных стен облупливалась побелка, случалось, Герцог рукавом смахивал со стола мышиный помет, спокойно недоумевая, откуда у полевых мышей такая страсть к воску и парафину. Они выгладывали дыры в парафиновой заливке консервов, до фитиля прогрызли свечи для торта. Крыса въелась в хлебный брикет, оставив в мякише свою матрицу. Герцог съел другую половину булки, намазав ее вареньем. С крысами он тоже умел делиться.
Постоянно часть его сознания была открыта внешнему миру. Утром он слышал ворон. Их пронзительный грай был восхитителен. В сумерках слышал дроздов. Ночью подавала голос сипуха. Когда он с письмом в голове возбужденно шел по саду, он отмечал, что розовые побеги обвили водосточную трубу; он отмечал шелковицу – ее вовсю обклевывали пернатые. Дни стояли жаркие, вечера – распаленные и пыльные. Он остро вглядывался во все, но ощущал себя наполовину слепым.
Его друг (бывший) Валентайн и жена (бывшая) Маделин пустили слух, что его рассудок расстроился. А так ли это?
Обходя вокруг пустого дома, он увидел в тусклом окне, затянутом паутиной, призрак своего лица. Непостижимо спокойным показался он себе. С середины лба по прямизне носа на полные сомкнутые губы пролегла сверкающая черта.
Поздней весной Герцогом завладела потребность объяснить, объясниться, оправдать, представить в истинном свете, прояснить, загладить вину. Он тогда читал лекции в вечерней взрослой школе в Нью-Йорке. В апреле он еще удерживал мысль, но к концу мая его стало заносить. Слушатели поняли, что им не суждено постичь истоки романтизма, зато они навидаются и наслушаются странных вещей. Все меньше оставалось от академической проформы. Профессор Герцог вел себя с бесконтрольной откровенностью человека, глубоко погруженного в свои мысли. К концу семестра в его лекциях стали возникать долгие паузы. Случалось, он умолкал, обронив «прошу прощенья» и шаря за пазухой авторучку. Под скрип стола он писал на клочках бумаги, испытывая небывалый зуд в руках; он обо всем забывал, его глаза смутно блуждали. На бледном лице все выражалось – решительно все. Он урезонивал, убеждал, страдал, ему представлялась замечательная дилемма: он открыт наружу – он замкнут в себе; и все это безмолвно выражали его глаза, рот – томление, непреклонность, жгучий гнев. Все это можно было видеть. В мертвой тишине класс ждал три минуты, пять минут.
Поначалу в его записях не было системы. Это были фрагменты – случайные слова, выкрики, переиначенные пословицы и цитаты, либо, пользуясь идишем его давно умершей матери, трепвертер (Треп, болтовня) – остроумие задним числом, когда ты уже сходишь по лестнице.
Он, например, записывал: Смерть – умереть – снова жить – снова умереть – жить.
Нет человека – нет смерти.
Еще: Поставили душу на колени? Нет худа без добра. Скреби пол.
И еще: Отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих.
Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему (Книга Притчей Соломоновых, 26, 5, 4).
Выбери одно.
Он сделал такую запись: Благодаря Уолтеру Уинчеллу (популярный с предвоенных лет радиожурналист сенсационного толка) я вижу, как И. С. Бах надевает черные перчатки, чтобы сочинить заупокойную мессу.
Герцог едва ли сам сознавал, как относиться к своей писанине. Он поддался возбуждению, заставлявшему его хвататься за ручку, и временами подозревал здесь симптом распада. Это его не пугало. Лежа на кухонном диване в своей меблирашке на 17-й улице, он иногда воображал себя неким заводом, производящим личную историю, и видел себя от рождения до смерти. Он поверял листку бумаги:
Не могу найти оправдания.
Задумываясь над прожитой жизнью, он сознавал, что все в ней напортил – решительно все. Свою жизнь он, как говорится, погубил. Но поскольку потерял он не бог весть что, печалиться особенно не из чего. Перебирая на вонючем диване столетия – девятнадцатое, шестнадцатое, восемнадцатое, – он в последнем выудил афоризм, который ему нравился: «Печаль, сэр, – это вид безделья».
Лежа на животе, он продолжал подводить итоги. Умный он человек или идиот? Пожалуй, на сегодняшний день он себя не посчитает умным. Может, и были у него в свое время задатки умного человека, но он предпочел витать в облаках, и прохвосты обобрали его дочиста. Что еще? Начал лысеть. Рекламу «Дерматологи Томаса» он читал с преувеличенным скептицизмом человека, истово, отчаянно желающего верить. Помогут тебе дерматологи, как же. Так вот… прежде он был красивый мужчина. Сейчас это не лицо, а хроника мордобоя. Впрочем, он сам напросился и еще добавил силы своим мучителям. Отсюда он задумался о своем характере. Какой он у него?
Если воспользоваться современной терминологией, то он – нарциссист, мазохист, анахронист. Его клиническая картина: депрессия, хотя не самая тяжелая, не маниакально-депрессивный случай. Бывает хуже. Если допустить, как это делают сейчас, что человек больное животное, то не получится ли, что он драматически больной человек, беспроглядно слепой, феноменально деградировавший? Нет, не получится. Как насчет сообразительности? Его интеллект был бы куда действеннее, имей он сам агрессивный, параноический характер, стремление властвовать. Он ревнив, но дух соперничества не захватывает его целиком, как это бывает у параноиков. Теперь: как с ученостью? И тут он был вынужден признать, что профессор он тоже – так себе. Нет, он серьезный человек, в нем достаточно некой недооформившейся основательности, однако систематичность всегда будет ему недоступна. Он прекрасно начал докторской диссертацией по философии: «Место Природы в английской и французской политической философии 17–18 веков». Закрепил репутацию несколькими статьями и книгой «Романтизм и христианство». Но другие его честолюбивые замыслы один за другим расстроились. Благодаря прежним успехам он без труда находил работу, получал научные стипендии. Наррагансеттская корпорация годами выплачивала ему пятнадцать тысяч долларов на дальнейшие занятия романтизмом. Плоды этих занятий хранились в чулане, в старом саквояже, – восемьсот страниц сбивчивых препирательств, так и не подступивших к существу дела. Ему было больно думать об этом.
На полу, под рукой, лежали листки бумаги, и время от времени он, свесившись, делал записи.
Сейчас он писал: Моя жизнь не затянувшаяся болезнь: моя жизнь – затянувшееся выздоровление. Либерально-буржуазная переоценка, иллюзия улучшения, яд надежды.
Припомнился Митридат, чья система учила выживать от яда. Тот провел своих убийц, опрометчиво травивших его малыми дозами, и хотя весь промариновался, все же не погиб.
Tutto fa brodo (Все сгодится).
Возобновляя копание в себе, он признал, что был плохим мужем – причем дважды. Он отравлял жизнь первой жене, Дейзи. Вторая, Маделин, чуть не доконала его самого. Сыну и дочери он был любящим, но плохим отцом. Собственным родителям – неблагодарным сыном. Отчизне– безучастным гражданином. Братьев и сестру он тоже любил, но – издалека. С друзьями индивидуалист. В любви ленив. В радости скучен. Перед силой уступчив. С собственной душой уклончив.
Удовлетворенный собственной суровостью, наслаждаясь жесткой дотошностью своего приговора, он лежал на диване, заведя руки за голову и праздно вытянув ноги.
При всем том мы сохраняем наше обаяние.
Бедолага папа умел расположить к себе и птицу, и крокодила. Бездна обаяния была у Маделин, а еще она красавица и умница. Валентайн Герсбах, ее любовник, – тоже обаятельный мужчина, хотя в более грубом, брутальном стиле. Тяжелый подбородок, полыхающая копна медных волос, которые буквально перли у него из головы (дерматологам Томаса тут нечего делать), из-за протеза у него ныряющая, как колыхание гондольера, походка. Да и сам Герцог далеко не лишен обаяния. Но Маделин подавила в нем сексуальную энергию, а не умея привлечь женщину – как он восстановится? В основном по этому пункту он и полагал себя выздоравливающим.
Ничтожность этих сексуальных баталий.
С Маделин несколько лет назад Герцог начал жизнь заново. Он отбил ее у церкви: когда они познакомились, она была свежеиспеченной новообращенной. Имея двадцать тысяч долларов, завещанных обаятельным отцом, он, ублажая новую жену, оставил престижное академическое поприще и купил большой старый дом в Людевилле, штат Массачусетс. В покойных Беркширах, с друзьями под боком (Валентайн Герсбах с женой), не составит труда написать второй том по идеологии романтизма.
Герцог сошел с академической стези не потому, что у него не заладилось дело. Напротив, у него была хорошая репутация. Его диссертация оставила след, была переведена на французский и немецкий языки. Его первая книга, едва замеченная по выходе, сейчас включалась во многие рекомендательные списки, и молодое поколение историков видело в ней образчик нового подхода, «историю, которая интересна нам» – личностная, engagee («Ангажированная», выражающая определенную позицию (франц.)) – и которая домогается у прошлого ответа на сегодняшние запросы. Пока Мозес был женат на Дейзи, он вел ничем не примечательную, почтенную и основательную жизнь доцента. Его первая работа строго научно показывала, чем было христианство для романтизма. Во второй он повел дело жестче, с большей верой в себя. В его характере, вообще говоря, было немало крепости. У него был запал и талант полемиста, вкус к философии истории. Женитьба на Маделин и уход из университета (потому что ей так хотелось), а потом обоснование в Людевилле выявили у него вкус и талант к опасности и крайностям, к ереси, к испытаниям – фатальную тягу к «Гибельному Граду» (Город на пути героя в аллегорическом романе «Путешествие пилигрима» Джо на Беньяна (1628–1688) – средоточие мирских пороков и заблуждений). Приемля, вслед за де Токвилем (Алексис де Токвиль (1805–1859) – французский социолог, историк. В идеях буржуазного равенства, замыкающего человека в рамках частной жизни, провидел опасность деспотизма, торжества «массы» («равенство в рабстве»)), всеобщее и долговременное развитие равенства состояний, прогресс демократии, он предполагал написать такую историю, где были бы реально учтены революции и катаклизмы двадцатого столетия.
Однако он не мог обманываться насчет этой работы. Он начал разувериваться в ней. Его честолюбие резко одернули. Гегель причинял ему массу беспокойств. Десять лет назад он был уверен, что понимает его идеи о согласии и гражданском обществе, но что-то разладилось с тех пор. Он мучился, раздражался, злился. При этом очень странно складывалась семейная жизнь. Маделин разочаровалась. Она первая не хотела, чтобы он оставался ординарным профессором, но после года деревенской жизни переменила свои взгляды. Она-де слишком молода, умна, энергична и общительна, чтобы похоронить себя в далеких Беркширах. Она надумала завершить свое славяноведческое образование. Герцог написал в Чикаго относительно работы. Надо было еще подыскать место Валентайну Герсбаху. Герсбах работал диктором, диск-жокеем в Питсфилде. Таких людей, как Валентайн и Феба, сказала Маделин, нельзя заживо хоронить в этом захолустье. Чикаго выбрали потому, что Герцог там вырос, остались кое-какие связи. Вот так получилось, что он вел курсы в центральном колледже, а Герсбах работал режиссером учебной программы на местной станции в Петле (Петля – Центральный район Чикаго, окруженный эстакадой железной дороги). Людевилльский дом заперли, двадцать тысяч долларов стоивший дом, с книгами, английским костяным фарфором и всяким благоустройством на потраву паукам, кротам и полевкам, – двадцать тысяч кровных папиных денег!
Герцоги переехали на Средний Запад. Но, не прожив в Чикаго и года, Маделин решила, что с Мозесом ничего у них не клеится – и захотела развода. Он был вынужден дать его – а что делать? Развод был мучительным. Он любил Маделин, не представлял, как он будет без малышки-дочки. Но Маделин отказалась состоять с ним в браке, и с чужими желаниями надо считаться. Живем не в рабское время.
Ему дорого обошелся этот второй развод. Он весь разваливался, распадался, и доктор Эдвиг, чикагский психиатр, пользовавший супругов Герцог, согласился, что, пожалуй, самое лучшее для него – уехать из города. С деканом колледжа договорились, что он вернется, когда почувствует себя лучше, и на одолженные у брата Шуры деньги Мозес уехал в Европу. Не всякий на пороге краха может позволить себе поездку в Европу с целью развеяться. Большинство продолжают работать – каждый день ходят на службу, ездят в метро. Случается, попивают, – хо-дят в кино и там отводят душу. Герцогу было за что благодарить судьбу. Вообще всегда есть за что благодарить судьбу, если хоть как-то остаешься в живых. И он, надо сказать, благодарил ее.
К тому же, в Европе он не бездельничал. Он ехал от Наррагансеттской корпорации с культурной программой, читал лекции в Копенгагене, Варшаве, Кракове, Берлине, Белграде, Стамбуле и Иерусалиме. Когда же в марте он вернулся в Чикаго, его состояние было куда хуже ноябрьского. Он сказал декану, что, пожалуй, ему лучше пожить в Нью-Йорке. В тот свой приезд он не видел Маделин. Вел он себя дико и, по ее мнению, угрожающе, отчего она через Герсбаха запретила ему появляться вблизи дома на Харпер авеню. В полиции есть его карточка, и, если он покажется в квартале, его задержат.
Сам неспособный ничего планировать, Герцог только теперь начинал понимать, насколько продуманно освобождалась от него Маделин. За шесть недель до того, как выставить его, она убедила за двести долларов в месяц снять дом в районе Мидуэя. Въехали, он навесил полки, расчистил двор, починил ворота гаража, вставил в окна вторые рамы. Всего за неделю до разговора о разводе она отдала почистить и выгладить его вещи и в последний его день покидала их все в коробку, а коробку потом спустила в подвал: кладовки нужны ей самой. И еще всякое было, грустное, комическое, жестокое – как посмотреть. До самого последнего дня в отношениях между ними сохранялся самый серьезный тон, иначе говоря, мысли, личности, проблемы уважались и принимались к обсуждению. Объявляя ему свое решение, например, она подавала себя с достоинством, завораживала своей властностью. Она обдумала это со всех сторон, сказала она, и вынуждена признать свое поражение. У них ничего не получится вместе. Она готова в чем-то признать и свою вину. Конечно, для Герцога это не было полной неожиданностью. Но он действительно надеялся, что дела шли на поправку.
В ясный, пронизывающий осенний день это все и случилось. Он был на заднем дворе, занимался оконными рамами. Первый морозец уже прихватил помидоры. Трава была густая и мягкая, она особенно хороша с приходом холодных дней, в утренней паутине; обильная роса держится долго. Помидорные побеги побурели, красные плоды лопнули.
Он видел Маделин в верхнем заднем окне, она забирала Джун спать, потом услышал пущенную в ванне воду. Теперь она звала его из кухонной двери. От резкого ветра с озера в раме дребезжало стекло. Герцог осторожно прислонил раму к веранде и снял парусиновые рукавицы, а берет не стал снимать – как чувствовал, что ему предстоит дорога.
Маделин яро ненавидела отца, но не зря тот был известным антрепренером, «американским Станиславским», как его называли порой: готовя это событие, она безусловно выказала драматическое дарование. На ней были черные чулки, туфли на высоком каблуке, бледно-лиловое платье индейского тканья из Центральной Америки. Она надела опаловые серьги, браслеты, надушилась, на новый пробор расчесала волосы и до блеска засинила веки. Глаза у нее голубые, на густоту цвета каким-то образом влияет изменчивый оттенок белков. Прямо, красивой линией сходивший от бровей нос слегка подергивается, когда она перевозбуждена. Герцогу даже этот тик был дорог. В его любви к Маделин было что-то зависимое. И поскольку она командовала, а он ее любил, приходилось мириться с тем, что выпадало. На той очной ставке в неприбранной комнате сошлись два индивидуалиста, и с нью-йоркского дивана они так виделись Герцогу: она празднует победу (она готовила эту великую минуту и сейчас совершит долгожданное: нанесет удар), а он празднует труса, его можно брать голыми руками. Какие ни выпадут ему страдания, он их заслужил; он славно погрешил на своем веку; вот и расплата.
В окне на стеклянных полках декоративно выстроились венецианские и шведские бутылочки. Они остались тут от прежних хозяев. Сейчас к ним подобралось солнце и зажгло их. Герцог видел, как на стену легли волны, струйки цвета, призрачные скрещения полос, и в центре, над головой Маделин, разгорелось большое белое пятно. Она говорила: – Мы больше не можем жить вместе.
Ее монолог продолжался несколько минут. Грамотно излагает. Монолог, значит, репетировали, а он, выходит, все это время ждал, когда поднимут занавес.
Их брак не из тех, что могут сохраниться. Маделин никогда его не любила. Сейчас она признавалась в этом. – Мне больно признать, что я никогда тебя не любила. И никогда не полюблю, – сказала она. – Поэтому нет смысла продолжать все это.
– Но я-то люблю тебя, Маделин, – сказал Герцог.
Шаг за шагом Маделин набирала тонкости, блеска, глубины. Она расцвела, ожили брови и этот ее греческий нос, глазам передался жар, горлом поднимавшийся из груди. Она была в ударе. Она так жестоко разделалась с ним, пришла ему мысль, так натешила свою гордыню, что избыток сил прибавил ей даже ума. Он понял, что присутствовал в минуту, может быть, величайшего торжества ее жизни.
– Ты должен беречь это чувство, – сказала она. – Я верю, что это настоящее. Ты действительно меня любишь. Но ты должен еще понять, какое для меня унижение – признать крах этого брака. Я вложила в него все, что имела. Я совершенно раздавлена.
Раздавлена? Прекрасно она при этом выглядит. Есть определенный наигрыш, но много больше искреннего чувства.
И вот Герцог, бледный и издерганный, но еще крепкий мужчина, затянувшимся по случаю весны вечером лежит на своем нью-йоркском диване, имея снаружи клокочущий энергией город, осязаемую и обоняемую речную влагу, грязноватую кайму – вклад штата Нью-Джерси в закат ради красоты и эффекта, он лежит в своем одиноком углу, еще сильный физически мужчина (в своем роде оно чудо – его здоровье, уж как он над ним измывался), он лежит и воображает, как все могло обернуться, если бы он не стал ловить и осмысливать слова Маделин, а просто дал ей пощечину. Сбил с ног, схватил за волосы, поволок, визжащую и отбивающуюся, по комнате, выпорол до крови. Вот если бы! В клочья изорвать платье, белье, содрать ожерелье, отвесить пару затрещин. Вздохнув, он отменил эту мысленную расправу. Его испугало, что втайне он способен на такую жестокость. Но по крайней мере он мог предложить ей убираться из дома. В конце концов, это его дом. Если она не может с ним жить, то почему сама не уходит? Испугался скандала? Но из-за маленького скандала глупо лишаться дома. Пусть больно, пусть дико, но, в конце концов, без скандалов общество не обходится. Однако в той комнате с горящими бутылками Герцогу даже в голову не пришло постоять за себя. Он, видимо, еще рассчитывал на то, что выедет на безответности, на личности – просто на том, что он Мозес, в конце концов, Мозес Елкана Герцог, хороший человек и заведомый благодетель Маделин. Он же на все шел ради нее – на все!
– Ты обсуждала свое решение с доктором Эдвигом? – сказал он. – Что он думает?
– А что переменится от его отношения? Он же не скажет, что делать. Разве только поможет уяснить себя… Я ходила к адвокату.
– К кому именно?
– К Сандору Химмельштайну, раз он твой приятель. Он говорит, ты можешь пожить у него, пока будешь устраиваться.
Разговор был кончен, и Герцог вернулся в тень и зеленую сырость заднего двора к своим вторым рамам, к путаному разбирательству с самим собой. Человек беспорядочного образа мыслей, он действовал на авось: потолкаешься среди случайных обстоятельств – и вдруг выйдешь к самому главному. Он часто надеялся напасть на это главное врасплох, каким-нибудь хитрым образом. Ничего подобного не происходило сейчас, когда он справлялся с дребезжащим стеклом, боясь наступить на свисавшие с колышков, опаленные морозцем помидорные побеги. Кусты резко пахли. Он продолжал возиться с окнами, чтобы не поддаться чувству сломленности. Он страшился чувства, которое еще откроет ему свои глубины, и уж тогда никакой блажью от него не заслониться.
Поверженно простертый на диване, в виде рухнувшего шимпанзе, забросив руки за голову и разбросав ноги, он лучившимися больше обыкновенного глазами вглядывался в свои тогдашние садовые дела с той отрешенностью, с какой рассматриваешь четкое мелкое изображение в обратную сторону подзорной трубы.
Страдалец-балагур.
Два необходимых пояснения. Он понимал весь бред перевода бумаги, письмовничества. Это шло помимо его воли. Блажь подмяла его.
Внутри меня сидит кто-то. Я в его руках. Когда я говорю о нем, я чувствую, как он дубинкой наводит порядок в моей голове. Он погубит меня.
Сообщалось, писал он, что пропало несколько экипажей советских космонавтов; распались – так это надо понимать. От одного поймали сигнал SOS – «Всем, всем, всем». Советского подтверждения не последовало.
Дорогая мама! Относительно того, что я давно не приходил на твою могилу…
Дорогая Ванда, дорогая Зинка, дорогая Либби, дорогая Рамона, дорогая Соно! Я страшно нуждаюсь в помощи. Я боюсь развалиться на части. Дорогой Эдвиг! Беда в том, что безумие мне не грозит. Не знаю, зачем я Вам вообще пишу. Уважаемый господин президент! Налоговое законодательство превратит всю нацию в счетоводов. Жизнь каждого гражданина становится бизнесом. По-моему, это едва ли не худшее толкование смысла жизни за всю историю. Человеческая жизнь не бизнес.
Как, скажите, это подписать? – подумал Герцог. Возмущенный гражданин? Возмущение – изнурительная вещь, лучше приберечь его для капитальной несправедливости.
Дорогая Дейзи, писал он первой жене, я знаю, что сейчас моя очередь ехать в родительский день к Марко в лагерь, но, боюсь, мой вид не очень желателен для него на этот раз. Я ему писал, так что я в курсе его дел. Он, к сожалению, осуждает мой разрыв с Маделин и переживает, что я бросил его сестричку. Откуда мальчику понять разницу между моими двумя разводами. Здесь Герцог задался вопросом, насколько разумно обсуждать это с Дейзи, и, представив ее красивое сердитое лицо склонившимся над этими еще не дописанными строками, решил: неразумно. Я думаю, продолжал он, что Марко лучше не видеть меня сейчас. Я болен, наблюдался у врача. Он с неудовольствием уличил себя в желании разжалобить. Личность всегда себя окажет. А рассудок – пусть пожурит. За свою личность Герцог не переживал, тем более сейчас, когда он не отвечает за ее капризы. Постепенно восстанавливая здоровье и силы. Весть, что его дела пошли на поправку (если это так), ее порадует– человека здравомыслящего, положительного, современного, с широким взглядом на вещи. Но подвластная капризам собственной личности, она, конечно, будет искать в газете его некролог.
Сильный организм Герцога исподволь боролся с ипохондрией. В начале июня, когда общее пробуждение жизни поселяет во многих тревогу и при взгляде на молодые розы – хотя бы и в витрине магазина – люди вспоминают о своих болячках, о бесплодии и смерти, в эту пору Герцог решил обследоваться. Он отправился в Вест-сайд против Центрального парка к доктору Эммериху, престарелому беженцу. Пахнущий старостью неряшливый привратник в фуражке балканской кампании начала века провел его в осыпающуюся сводчатую приемную. В тревожной, зловеще зеленой смотровой комнате Герцог разделся; темные стены казались распухшими от хвори, подтачивающей старые нью-йоркские дома. Он не был крупным мужчиной, но он крепко сбит, тяжелая деревенская работа развила его мышцы. Он потешился мускулатурой, широкими и сильными кистями рук, гладкостью кожи, но, взглянув на себя со стороны, он ужаснулся роли самодовольного молодящегося старика. Старый дурак, выругал он себя и отвел глаза от зеркала, седеющий, с веселыми и горькими морщинами. Сквозь жалюзи он выглянул в парк, увидел бурые слюдистые камни и жизнерадостный трепет июньской зелени. Скоро листья разлапятся, Нью-Йорк пригасит краски сажей и вид будет скучный. Но пока кругом благолепие, всякая мелочь радуется – веточки, зеленые жальца и нежные припухлости. Красота не людских рук дело. Сгорбленный, но расторопный доктор Эммерих осмотрел его, простукал грудь и спину, посветил зайчиком в глаза, взял кровь, ощупал предстательную железу, оплел проводами для электрокардиограммы.
– Ну что, вы здоровый человек, не как в двадцать один год, но еще крепкий.
Конечно, Герцог выслушал это с удовольствием, но осталась некоторая досада. Он рассчитывал на какую-нибудь такую болезнь, что ненадолго уложит его в больницу. И не надо будет заботиться о себе. Более или менее отдалившиеся братья разом слетятся к нему, и, может, за ним походит сестра Хелен. Семья возместит расходы и содержание Марко и Джун. Теперь на это надеяться нечего. Если не считать дрянь, которую он подхватил в Польше, у него хорошее здоровье, да и та излеченная дрянь ничего страшного собой не представляла. Виновато, скорее всего, было его душевное состояние, депрессия и усталость, а не Ванда. Страшно вспомнить тот день, когда он решил, что это гонорея. Надо написать Ванде, подумал он, заправляя рубашку и застегивая пуговицы на рукавах. Chere Wanda, начал он. Bonnes nouvelles. T en seras contente (Дорогая Ванда! Хорошие новости. Они тебя порадуют). Это был не единственный его роман на французском языке. Не зря же он зубрил Фрейзера и Сквэра в школе, а в колледже читал Руссо и де Местра! Он сделал успехи не только в учебном, но и в сексуальном плане. Впрочем, какие там успехи. Гордыня, пожалуй, удовлетворена. А плоти досталось то, что осталось.
– Так что же с вами происходит? – сказал доктор Эммерих. Седой узколицый старик проницательно заглянул ему в глаза. Герцог вроде бы понял его мысль. В этом задрипанном кабинете, внушал ему доктор, он смотрит действительно немощных, безнадежно больных людей, обреченных женщин, умирающих мужчин. Что Герцогу-то от него надо?
– Вы очень возбуждены, – сказал Эммерих.
– Совершенно верно: возбужден.
– Хотите попринимать милтаун (Транквилизатор (типа мепробамата))? Или змеиный корень? На бессонницу не жалуетесь?
– В общем, нет, – сказал Герцог. – Мысли у меня ни на чем не задерживаются.
– Может, я вам порекомендую психиатра? – Не надо, психиатрией я сыт по горло.
– Тогда, может, отдохнуть? Съездите с барышней в деревню, к морю. Дом в Массачусетсе еще имеется?
– Если я решусь его отпереть.
– Ваш друг по-прежнему там живет? Диктор. Как зовут того рыжего верзилу на протезе?
– Его зовут Валентайн Герсбах. Нет, он переехал в Чикаго со мной… с нами.
– Очень забавный человек.
– Да. Очень.
– Я слышал, вы развелись. Кто мне сказал? Это грустно. Гонясь за счастьем, готовься к скверному итогу.
Эммерих нацепил бен-франклиновские очки и черкнул несколько слов в карте.
– Девочка, очевидно, с Маделин в Чикаго, – сказал доктор.
– Да…
Герцог старался вытянуть из Эммериха, как тот относится к Маделин. Она ведь тоже была его пациенткой. Но Эммерих ничего не скажет. И правильно: доктор не должен обсуждать своих пациентов. Впрочем, о чем-то-нибудь проговорится взгляд, который перехватит Мозес.
– Она необузданная истеричка, – сказал он Эммериху. Старик сложил губы для ответа, но передумал говорить, и Мозес, по странной привычке договаривать за других, мысленно признался себе, что сам он тоже не подарок.
Чудное сердце, сам не могу с ним разобраться.
Теперь было ясно, что к Эммериху он пришел ради того, чтобы свалить вину на Маделин или хотя бы поговорить с человеком, который ее знал и мог трезво судить о ней.
– Вам нужна другая женщина, – сказал Эммерих. – Неужели никого нет? И сегодня вы обедаете в одиночестве?
У Герцога была Района. Прелестная женщина, но с ней, увы, тоже были проблемы, не могло их не быть. У Рамоны было дело – цветочный магазин на Лексингтон авеню. Немолодая, ей хорошо за тридцать, точных лет она Мозесу не скажет, но чрезвычайно привлекательная, с легким иностранным шармом, образованная. Магазин она получила в наследство почти одновременно с магистерской степенью от Колумбийского университета – в области истории искусств. При этом она посещала вечерние лекции Герцога. Вообще говоря, он был против романов со студентками, даже если те были рождены для них, как Района Донзелл.
Проделывая все, что полагается дикому человеку, писал он, оставаться все время серьезным. Проделывать это до ужаса всерьез.
Эта вот серьезность, безусловно, и привлекала Рамону. Идеи зажигали ее. Она обожала поговорить. К тому же прекрасно готовила, знала секрет креветок Арно, к которым подавала Пуйи Фюиссе. Несколько раз на неделе Герцог ужинал у нее. Когда из обшарпанной аудитории они катили на такси в ее просторную квартиру в Вест-сайде, она предложила послушать, как бьется ее сердце. Он нашел запястье, стал искать пульс, но она сказала:








