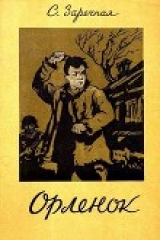
Текст книги "Орленок"
Автор книги: Софья Заречная
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Отец и сын
Дождливым осенним вечером Павел Николаевич шел из Лихвина в Песковатское. Нужно было захватить кое-что из продуктов жене и сыну на дорогу. Надежда Самуиловна уговаривала и его ехать с ними. Муж коммунистки, у которой были враги среди подкулачников, отец партизана… Если немцы придут, ему несдобровать. Павел Николаевич колебался. Ему не хотелось оставлять Шуру. Казалось, что в трудную минуту он может понадобиться сыну. И хозяйство жаль было бросать на стариков. В случае чего он и картошку закопает и одежу припрячет. Деду с бабкой одним не справиться. Немцы всё ограбят. Вернешься из эвакуации, а дома пусто.
Еще не совсем стемнело. Павел Николаевич тоскливо оглядывал с детства знакомые, столько раз исхоженные места. Вот здесь под вязами в троицын день собирался народ со всех окрестных деревень, девушки завивали венки, хороводы водили. Дальше за дождем и туманом притаилось родное село. Хмурились под намокшими крышами избы без единого огонька в окнах. На улицах тишь, безлюдье. Молодежь в армии. А кто не был еще призван, но способен носить оружие, ушли партизанить, скрывались в лесах. Нет, он не уедет с женой, Он будет держать связь с партизанами, будет, пока жив, отстаивать родную землю, своих стариков и нажитое трудом добро.
Дождь припустил сильнее. Ветер сбивал с деревьев последние мокрые листья, и они тяжело шлепались на дорогу.
Павел Николаевич прибавил шагу, потом побежал под хлещущим дождем, скользя сапогами по размокшей глине. В дедовой хате сквозь плотно занавешенные окна узенькой полоской пробивался свет. Не переводя духа, Павел Николаевич взбежал на крыльцо. В сени доносился громкий разговор, несколько мужских голосов наперебой. Пока Павел Николаевич искал в темноте сеней ручку двери, кто-то очень знакомый сказал:
– А в Косолапове обещали еще и телку дать.
«Шурка!» – задохнулся от радости отец и, нащупав наконец ручку, шагнул через порог.
У деда за столом, кроме Шуры, сидели Ильичев и Тетерчев.
– Вот здорово, что ты пришел, папка! – кинулся ему навстречу Шура. – Ты нам жутко нужен.
– Заготовку продуктов делаем, Павел Николаевич, – сказал Тетерчев. – Без тебя, как без правой руки. Мучицы бы нам надо, да поскорей. А то у нас повар не очень высокой квалификации. Разболтал муку с целым ведром воды, подсыпать – еще на неделю хватит, а не то скиснет. – И он со всеми подробностями рассказал, как Шура Горбенко пробирала дядю Колю за перевод партизанского добра.
– Мать уехала? – спросил Шура.
– Нет еще, собирается.
– Ты не вздумай с ней эвакуироваться, – тоном старшего наставлял он отца. – Проводи ее и возвращайся. Что ты будешь за ней ездить!
– Да, Павел Николаевич, ты нам здесь нужен, для связи, – сказал Тетерчев. – В отряд пока не зову, у нас людей хватит. А от тебя и на месте польза будет. Деревня на большаке стоит. Пройдут немецкие части – замечай какие, сколько их и куда направляются, А мы Сашу к тебе за сведениями посылать будем. А ежели отступать придется, так мы тебя в отряд с дорогой душой примем. Согласен, что ли?
По договоренности с колхозом партизаны получили крайние огороды, те, что у самой опушки.
– И нам способнее, и вам ближе, – говорил председатель. – Только уж не взыщите, доставка ваша. Мы в это дело не мешаемся.
Но овощи до прихода немцев партизаны так и не успели запасти.
– Капустки бы мне, – сетовал дядя Коля, – свинина есть, я бы вам таких щей наварил – язык проглотишь.
– Давайте телегу, привезу, – вызвался Шура.
– Из-под носу у немцев возьмешь? – усмехнулся Макеев.
– А то нет? Написано на мне, что я партизан, что ли? Приехал колхозный парень огород убирать – и все.
В голубых глазах Тетерчева мелькнула усмешка.
– А ведь он прав. В случае чего и председатель колхоза подтвердит, что свой парень собирает.
Шура просиял.
– Кто со мной? Вдвоем веселее, да и скорее наберем.
Вызвался Алеша Ильичев.
– Каков молодняк! – сказал Макеев, когда они пошли запрягать, оба рослые, широкие в плечах, темноволосые и смуглолицые.
– Орлы! – блеснул глазами Тетерчев. – Помрем – смена готова.
– Еще неизвестно, кого раньше ухлопают, – покачал головой Макеев. – Уж очень прыток этот Шурка! Удержу ему нет.
Капусты в это лето уродилось великое множество. Омытые дождем кочаны, белые с зеленоватым отливом, тесными рядами сгрудились на грядах. Шура зорким хозяйским глазом окинул огород.
– Все убрать надо. Не то либо немец огребет, либо морозом прихватит. А тогда это уж не капуста, а так, дрянь, кисель.
Пока он привязывал лошадь к дереву, Алеша, захватив мешок, направился было к огороду, но вдруг остановился.
– А чем срезать будем? Ножей-то не взяли. Что ж, теперь за восемнадцать километров назад ворочаться? Ну и разини мы с тобой!
Шура растерянно посмотрел на товарища, потом вдруг весело расхохотался.
– Ничего, я с запасцем! – и вытащил из-под мешка на дне телеги две длинные шашки.
– С ума ты сошел! – проворчал Ильичев, прикидываясь сердитым. – Какие ж это колхозники с шашками на огород ездят? Вот застукают нас немцы и пустят в расход.
– А какие это партизаны без оружия ходят! – с запалом перебил Шура.
– Ну, давай, давай! – торопил Ильичев. – Препираться некогда.
Они принялись за работу. Острые лезвия шашек, с хрустом впиваясь в крепкие кочаны, срезывали их начисто.
Шура рубил с остервенением. Направо и налево от него вырастали груды капусты.
– Фашистские бы головы так… – Глаза его сверкали ненавистью, щеки разгорелись. Ильичев едва поспевал за ним собирать кочаны в мешок и высыпать на телегу.
Тучи рассеялись. Отточенные клинки шашек серебром сверкали на солнце.
Ильичев разогнул спину и вытер рукавом вспотевший лоб.
– Хватит. Гляди, телега чуть не с верхом полная.
– Ни одного кочана гадам не оставлю, – процедил сквозь зубы Шура, еще яростнее круша капустные головы.
Вдруг Ильичев схватил его за плечи.
– Немцы!
Шура обернулся. На опушке, за лугом около десятка немецких солдат, видимо, о чем-то совещались. Вероятно, сверканье шашек на солнце привлекло их внимание. Они поняли, что имеют дело не с простыми колхозниками.
Шура прикинул на глаз расстояние.
– Ложись, Алешка, – шепнул он и, взвалив себе и ему на спину по мешку с капустой, пополз к телеге. Над их головами просвистела пуля, за ней другая, третья.
Отвязать лошадь, вскочить на телегу было делом одной секунды. Прикрываясь мешком с капустой, Шура изо всех сил нахлестывал бедную клячу. Когда телега скрылась в лесной чаще, он опустил поводья.
– Ну, дальше немцы за нами не погонятся. Лесов они избегают: досмерти боятся партизан.
Он ласково потрепал по крупу взмыленную лошадь.
– Досталось тебе, старик! Ничего, теперь мы с тобой отдохнем.
Оба приятеля развалились на телеге, и мясистые капустные листья заскрипели у них на зубах. Утомленная лошадь плелась шагом, но доехали все-таки засветло, и щи поспели к ужину.
Первый арест
Обезглавленный петух, судорожно взмахивая крыльями, пролетел над двором и камнем рухнул вниз. Алая струя из перерубленного горла, темнея, впитывалась в песок. Перепившиеся немцы гонялись за домашней птицей, длинными шашками сшибали головы уткам и гусям, стреляли в кур. Пьяный, бессмысленный хохот, выстрелы и полные предсмертного ужаса клохтанье, гоготанье и кряканье сливались в какой-то сумасшедший гул.
Бабушка Марья Петровна сидела на лавке, скрестив на коленях узловатые жилистые руки.
– Ходила за ними, кормила, поила… Племенные ведь, – шелестела она одними губами. Две слезинки, выкатившись из ее линялых глаз, замешкались в путаном узоре морщин на щеках.
– Молчи, мать, терпи, – невозмутимо наставлял дед. – Война, она терпения требует. Понимать надо.
Краснорожий немецкий солдат швырнул на колени бабушке еще теплое тело птицы.
– На, матка, делай!
Марья Петровна вздохнула и начала покорно ощипывать гуся.
– И ты! – Немец сунул Павлу Николаевичу убитую курицу.
Стараясь сохранить спокойствие, тот принялся за непривычное дело. Но руки не слушались. Он выдергивал перья, разрывая кожу и оставляя невыщипанным пух.
– Нет гут! – Немец отнял у него курицу. – Давай солома. Печка топил.
Павел Николаевич вышел на крыльцо. С глаз долой все-таки легче.
По ту сторону улицы темнел затушеванный мелким осенним дождиком стог. Чекалин перешел через дорогу. Уж лучше было ему уйти к партизанам в землянку или даже уехать с женой, чем прислуживать фрицам!
Правда, командир Тетерчев говорит, что здесь он нужнее для связи, а все же тяжко ему здесь. Работали, детей растили, радовались на них. И на вот! Семью развеяло кого куда. Все нажитое трудом разграблено. Только хата уцелела. Надолго ли? Уходить будут – подпалят.
В частой сетке дождя смутно наметилась фигура человека. Павел Николаевич вгляделся, и не то от радости, не то от испуга сильнее застучало сердце.
– Шурка!
Когда он подошел ближе, отцу показалось, что похудевшее обветренное лицо его стало взрослее и строже.
– Не ходи в избу: у нас немцы стоят, – сказал Павел Николаевич, – человек тридцать.
Шура усмехнулся:
– А почем они знают, что я партизан?
– Ступай лучше во двор. Полезай на сено. Я тебе и поесть туда принесу.
– Чего я не видал на сене? Мне поговорить с ними нужно, выведать. Я ведь не в гости к вам пришел.
– Тсс! – Павлу Николаевичу вдруг почудилось, что по ту сторону стога кто-то дергает сено. Сделав знак сыну, он тихонько обошел стог. И снова померещилось ему, что кто– то проскользнул в потемках.
– Да ну тебя, папка! – подсмеивался Шура. – Какой ты пугливый стал. Не бойся, мне не впервой. Ничего не будет.
Отец дал ему вязанку соломы.
– Что с тобой поделаешь! На, неси.
Немцы занимал, чистую половину избы. Хозяева ютились в той, что поменьше, около печки. Но дверь была открыта для тепла.
После ужина погасили свет и легли. Шура с отцом на одной койке. У немцев еще горела лампа. Они громко говорили о своих делах, не подозревая, что колхозный паренек внимательно прислушивается к их словам и почти все понимает.
– Слышь, папка, – прямо в ухо отцу зашептал Шура, – они мост хотят поднять на быки. Железнодорожный… Который наши взорвали при отступлении. Ничего, пускай поднимают. А мы обратно взорвем. Аммоналу у нас хватит.
– Тише ты! – Павел Николаевич заткнул ему рот рукой. – Они понимают по-нашему.
– Ни черта они не понимают! – глухо из-под отцовской руки пробормотал Шура.
Минуту спустя он уже спал, беспечно посапывая носом. Задремал и отец.
Где-то прокричал случайно уцелевший петух. В другом конце деревни робко и неуверенно, как будто предчувствуя свою скорую гибель, откликнулся ему второй. В темноте деревенской улицы вдоль спящих изб ощупью пробирался человек. Проходя мимо дремавшего патруля, он остановился и сказал что-то солдату. Тот ушел в избу. Немного погодя в полуосвещенном прямоугольнике двери показались двое в немецких шинелях. Электрический фонарь бросал в темноту снопы света, обрызганные дождем. Человек в ватной куртке шел впереди, немцы за ним. У избы Чекалиных они остановились. Двое вошли в избу. Третий, сутуля плечи, ушел в дождь, в темноту.
– Ты есть кто?
Павел Николаевич раскрыл сонные веки, но тотчас же опустил их: резкий свет электрического фонаря слепил глаза.
Рыжий рыластый немец грубо тряс его за плечо:
– Ты есть кто? Отвечайт.
– Чекалин, Павел Николаевич.
– Сколько лет имеешь?
– Сорок два года.
– А то кто есть? Сын?! – Рыластый ткнул пальцем проснувшегося Шуру.
– Да, сын.
– Какой он возраст?
– Шестнадцать лет, – спокойно разглядывая немца, ответил Шура.
– Вы есть арестованные… Одевайт!
Побег
Один конвойный шел впереди, другой сзади, Чекалины, отец с сыном, посредине. Дождь не переставал. Глина вязла к ногам. Шура потерял калошу и остановился.
– Ну! Иди!
Немец ткнул его прикладом в спину.
Привели в избу к Филиппихе.
– Павел Николаевич! Шура! – сочувственно заохала хозяйка. – За что они вас?
Подошел офицер. Прокартавил, ослепляя электрическим фонарем глаза:
– Пагтизаи? Где лесная хата? Где отгяд? Где мины?
Павел Николаевич развел руками:
– Мы ничего не знаем. Мы из деревни никуда не ходим, здесь всегда и живем.
– Пагтизан! – упрямо твердил немец.
– Да ведь это же пчеловод наш колхозный. Мед, мед! Сладко! – пыталась объяснить немцу Филиппиха. – А Шурка– сынишка его, в школе учится. Зачем вы их забрали? Мы всех их знаем.
– Молчи, матка! – топнул на нее офицер и, сказав что– то конвоиру, вышел.
– Слышь, папка, – зашептал Шура: – дорогой рыластый говорил другому по-немецки, а я все-таки разобрал: «Жена – коммунистка, а сын – партизан». Откуда же немцам знать? Никто, как свой, выдал.
Павел Николаевич перевел глаза на окно, потом на сына. Тот понял, оглянулся. Конвоир с автоматом в руках дремал стоя, прислонившись к двери. Шура шагнул было к окну, но Филиппиха, возившаяся у печи, загремела ухватом. Конвоир вздрогнул и протер глаза. Что-то показалось ему подозрительным в их поведении.
– Марш, рус! – рявкнул он и сердито стукнул прикладом об пол.
И снова их вытолкнули из тепла на дождь и ненастье. Привели в чужой погреб. Загремел засов, Шура нашарил какие-то мешки, зарылся в них и тотчас заснул.
Павел Николаевич прислушивался. Где-то тонко попискивала крыса. Шаги часового раздавались в разных местах одновременно, значит их было несколько. Высоко, под самыми сводами, чуть намечалось окошко. Можно бы подтянуться на руках и… Но бежать, когда нечем отстреливаться…
– Холодно, – пробормотал сквозь сон Шура и поджал под себя ноги.
Отец лег рядом с ним, обнял, потом начал растирать его озябшие руки. Ночи, казалось, конца не будет. Пахло плесенью. Стучал дождь по крыше. Перекликались часовые. Только под утро, согрев сына и сам согретый его теплом, Павел Николаевич задремал. Он проснулся от какого-то шума за дверями. Шура все еще спал.
– Пусти, чего пихаешься? – кричала женщина.
– Матка, нельзя!
Подтянувшись на руках, Чекалин выглянул в окно. Светало. Дождь перестал. У входа в погреб хозяйка препиралась с часовым.
– Картошки тебе моей жалко? Так я не по картошку, я по дрова.
– Нельзя, матка!
– Который день хата не топлена. Дети обревелись, холодные, голодные сидят.
Часовой круто повернул ее за плечи и для вразумительности поддал еще прикладом в спину.
Застучал засов. Павел Николаевич спрыгнул на пол. Шура, сидя на мешках, протирал глаза. Трое конвоиров окружили его.
– Вставай, пошли.
Выйдя из погреба, взяли направление к большаку.
– В город нас ведут наверное, в штаб, – сказал Шура.
Не дойдя до школы, немцы свернули с дороги, ввели арестованных в сад, поставили к стенке.
– Папа, нас расстреливать сейчас будут!
Павел Николаевич молчал. Ему и самому так казалось. Один из конвоиров, посоветовавшись о чем-то с двумя другими, ушел в школу.
Шура смотрел ему вслед.
– Нет, не расстреливать, а вешать. За веревками пошли. Они партизан всегда вешают.
Медленно проходили минуты. Конвоиры стояли, как деревянные чурбаны.
Шура нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ему не стоялось спокойно.
– Уж кончали бы скорее! Что они нас мучают?!
– Поспеешь! – не разжимая губ, проговорил отец.
Из школы с приглушенным говором высыпали люди в красноармейских шинелях, худые, с изможденными, землистыми лицами.
– Наши! – крикнул Шура. – Пленные, наверное.
– Правильно, сынок, пленные, – прохрипел простуженным голосом человек с рукой на перевязи. – Из окружения прорвались, потом в лесу плутали. Больше недели без пищи. А на опушке они нас настигли. Патроны все вышли. Голыми руками чего сделаешь! А вы кто будете?
– Нет разговаривайт! – крикнул конвойный.
Пленных выстроили парами. Шура с отцом оказались в последней.
В конце деревни, за огородом, отделенным от проулка высоким турлуком, стояла полевая немецкая кухня. Солдат– повар выплеснул из котла остатки пищи.
– Рус, кушай.
Изголодавшиеся люди, сбившись в кучу вокруг отбросов, подбирали их с земли и ели с жадностью.
От ненависти, от чувства унижения и боли за своих у Шуры перехватило дух.
– Как они с нашими… У, гады!
– Прикрой глаза, прикрой! – шепнул отец. – Тебя за одни глаза в расход пустят.
Худые клячи щипали пожелтевшую под осенними дождями траву. Солдат снял с них сбрую и швырнул в группу пленных.
– Рус, чтоб блестело!
Чекалиных заставили чистить картошку, остальных колоть дрова.
– С вас бы так шкуру сдирать, нечисть фашистская! – сквозь зубы бормотал Шура, с остервенением кромсая картофель.
– Тише ты, помалкивай, – опасливо оглянулся один из пленных. – Чего уж там после драки кулаками махать! Москву-то сдали.
– Кто сказал? Откуда?! – вскинулся на него Шура.
– Немцы сказывали. Уж они знают. И Тула взядена и Москва. Скоро за Урал наших погонят.
– Брешут псы поганые! – в бешенстве крикнул Шура, забывая всякую осторожность. – Я вчера только последнюю сводку слышал. Тула держится и будет держаться. Никогда еще Тула врагу не поддавалась. Наши оружейники не подкачают. А Москвы немцам, как своих ушей, не видать. Дайте срок, покатятся они назад, только пятки засверкают.
Шуру окружили.
– А Ленинград как?
– И Ленинград наш.
– Что ж они твердят, будто и Красная армия разбита и войне скоро конец?
– А вы слушайте больше. Мало чего они скажут!
В гуле голосов часовой не мог разобрать ни слова. До отвала набив живот награбленной у колхозников свининой, он с чувством превосходства оглядывал голодных людей. Наверное, они ссорятся из-за объедков, которые он так великодушно выплеснул им на землю. На всякий случай он крикнул начальственно:
– Рус, работа!
Пленные расходились по своим местам. Человек с рукой на перевязи задержался около Павла Николаевича.
– Как уйти отсюда? Расскажи дорогу.
Продолжая чистить картошку, Павел Николаевич ровным голосом объяснял ему, как добраться до Тулы. Полчаса спустя, когда, окончив работу, Чекалин огляделся, человека с рукой на перевязи уже не было среди пленных.
– Стройся!
Люди снова стали в пары. Павел Николаевич старательно сгребал в кучу картофельную шелуху и понемногу отодвигался к сараю. Негромко окликнул Шуру.
– В город поведут, – шепнул тот. – Я слышал. Как мы? Сейчас или оттуда?
– Сейчас, там хуже. – И, увлекая за собой сына, Павел Николаевич шмыгнул за сарай. Оба пригнулись, слушали.
Окрики конвойных… Обрывки слов… Нет, никто не заметил. Решились. Поползли огородами. Что-то загрохотало совсем близко. Оба замерли.
– Едут, – шепнул Павел Николаевич.
Машина с пулеметом зашуршала в кустах орешника, окаймлявших огород, и, обдав брызгами, осыпав пожелтевшими мокрыми листьями, пронеслась мимо.
– Свернула, – сказал Шура. – Пошли?
Ползком пробрались они через поле, потом перемахнули железнодорожную линию и скатились с насыпи в лощину.
– Здесь переждем дотемна. – Павел Николаевич вынул из-за пазухи остатки каравая, который сунула ему сердобольная Филиппиха, отломил половину Шуре.
– Последний. Надо как-нибудь потерпеть.
– В землянке накормят, – хрустя пропеченной коркой, посулил Шура. – Дядя Коля у нас знаменитый повар.
Весь день дул пронзительный ветер. Он разогнал тучи и подсушил грязь. Павел Николаевич часто прикладывал ухо к земле.
– Мельница стучит, слышишь? – Он осторожно поднял голову. – Возы! Это с мельницы. Не иначе – муку везут.
Шура смотрел по направлению его взгляда, подняв руку щитком над глазами.
По дороге, седлом выпирающей над двумя лощинами, медленно тащились возы, доверху набитые пузатыми мешками.
– Оружие бы нам! – вздохнул Шура. – Немцев бы шлепнули, а муку себе в лес.
– Об чем забота! – усмехнулся отец. – Тут впору бы ноги унести, а он…
– Ничего, мы по муку еще придем! – с уверенностью заявил Шура.
Стемнело. Теперь можно было размять застывшие от неподвижности руки и ноги.
Чекалины шли выпрямившись, бок о бок: плечистый, не по летам рослый сын и на полголовы ниже его, но тоже крепкий, по-молодому статный отец. От быстрой ходьбы они разогрелись Ветер обжигал щеки бодрящим холодком.
Шура радостно засмеялся.
– Ты что? – удивился отец.
– Так! Из-под носу у гадов ушли. Хорошо!
– Рано пташечка запела, – проговорил Павел Николаевич невесело. – Сегодня ушли – завтра можем попасться. Беда со всех сторон стережет.
– А ты что же, думал партизанить, да без тревоги? – усмехнулся Шура.
– Ну какой из меня партизан! – насупился отец. – Не к лицу вороне в павлиньи перья рядиться. Помочь – я с дорогой душой помогу, медом ли, мясом ли, мукой… не жалко. Что узнаю, расскажу. Отчего не рассказать? Только вояка из меня, чего там греха таить, никудышный. Я, сынок, сызмалетства пчеловодом был, рыбачил. Опять же охотник я неплохой и хозяин тоже. Кого хочешь спроси, никто не похает. Но чтобы воевать…
– Ты, отец, это оставь! – сурово оборвал его сын. – Ребята воюют, женщины, а уж мужчине совестно руки складывать. Да и податься тебе теперь некуда, кроме как к нам в землянку. «Жена – коммунистка, сын – партизан», слышал?
Павел Николаевич молчал. Шура говорил с ним, как старший. И возразить ему было нечего. Отступаться и правда не приходится. Он вздохнул и оглянулся на родную деревню, чуть намечавшуюся в поздних сумерках.
Чтобы обойти немецкие посты, приходилось дать крюку и переправляться вброд через речку. Ледяная вода колючими иглами впилась в обнаженные ноги, выскочили на берег, как ошпаренные. Бежали босиком, пока не обсушил ветер. Потом обулись, пошли медленнее. Углубляться в лес ночью не стоит. Павел Николаевич, как опытный охотник, хорошо это знал. И с дороги сбиться легко, да и свои могут обстрелять, не распознав. Заночевали в стогу на опушке. Шура зарылся в солому.
– Залезай и ты, – сказал он отцу. – Хорошо, тепло.
– Нет, уж я постерегу. Мне все равно не заснуть.
Ветер снова нагнал тучи и стих. Потеплело. Стал накрапывать дождь. Павел Николаевич обошел вокруг стога, прислушался. Потом вырыл в соломе нишу и укрылся от дождя. Тоска одолевала. Вот приходится ему, трезвому, трудолюбивому хозяину, скитаться без крова и пищи, как бездомному бродяге. А за какие грехи? За что разбита его мирная, налаженная жизнь? Ненависть к врагу душила его. Скорей бы рассказать кому-нибудь, поделиться, не то задохнешься от злобы.
– Шура, – позвал он, – Шура!
Но тот уже крепко спал.
До землянки добрались только утром.
У входа дежурил Ильичев. Завидя Шуру, он встрепенулся, просиял:
– Ну то-то! Заждались мы тебя.
Шура приложил палец к губам и, сделав знак отцу, начал спускаться по осклизлым земляным ступеням.
Партизаны просыпались. Дядя Коля, зевая, растапливал печку. Макеев с Тетерчевым тихо о чем-то разговаривали.
– А вот и я! – раздался у входа веселый Шурин голос.
– Саша, жив! – бросился навстречу комиссар. – Все тут за тебя перетревожились.
– Жив, здоров и еще одного партизана привел. Мы с отцом, можно сказать, чудом из петли ушли. Только дайте нам чего-нибудь поесть: голодные мы. как черти!







