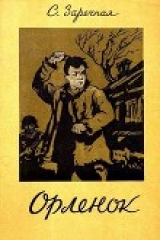
Текст книги "Орленок"
Автор книги: Софья Заречная
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Лесной дорогой
– Пойдем рыбу удить.
– Да я же не умею.
– И не надо. Я буду удить, а ты только смотри.
– Так мне же скучно будет.
– А я книжку для тебя возьму. Чехова хочешь? Там, где «Дочь Альбиона», тоже про рыбную ловлю.
Раннее утро, но уже душно, как в парнике. День будет жаркий. Тоне лень двигаться. Но Шура так умильно заглядывает ей в глаза, что у нее не хватает духа отказать.
Они идут крутыми холмами с прихотливо разбросанными на них купами деревьев, постепенно сливающимися в сплошной лес. Теплый ветер гонит облака. Просеянные сквозь них солнечные лучи теряют свою жгучесть и обливают землю матовым сиянием. Река тихо плещет. С того берега плывут голоса купающихся ребятишек. Их сброшенные рубашки белыми, алыми, желтыми флагами вздуваются на песке.
На траве, обрызганной яркими пятнами цветов, Шура расстилает свое пальто.
– Вот тебе, ложись, а я пойду удить.
– Охота была тащить пальто в этакую жару!
– Я для тебя. Земля сырая после вчерашнего дождя.
Он спускается к реке, расставляет подпуска, закидывает в воду три удочки.
Тоня смотрит ему вслед, потом бросается навзничь на землю, подложив руки под голову.
Ветер гонит по голубому полю белые курчавые стада. Тоня следит за ними долго, пока не начинают слезиться утомленные глаза. Ей становится почему-то грустно. Она чувствует себя такой маленькой, затерянной в этой голубой воздушной пустыне. Она поворачивается на бок и сквозь щели полуопущенных век видит родную зеленую землю, пеструю россыпь цветов, смуглого мальчика с удочкой на берегу. И от этого у Тони теплеет на сердце. Ветер слабо шевелит ее волосами, темными и волнистыми, как у Шуры. Говорят, что они похожи друг на друга, будто родные брат и сестра.
Сладко пахнет цветущим клевером. Прокравшиеся сквозь густую зелень березы солнечные зайчики прыгают по белому Тониному платью. Умеренное тенью, солнце греет, но не жжет. Тоня закрывает глаза. Дремлет. Вдруг она вздрагивает, испуганная. Что-то мягкое, пушистое падает ей на колени, будто кошка прыгнула с печи. Но это не кошка, а пышный букет полевых цветов – лиловые колокольчики, розовый клевер, ромашка, шалфей. Над цветами с жужжаньем кружится пчела. Шура отгоняет ее и скалит белые зубы.
– Не бойся, не укусит. Сегодня самый что ни на есть пчелиный день.
– Как пчелиный? – не понимает спросонок Тоня.
– Цветы медоносный нектар дают. Видишь, солнце какое неяркое. При таком свете лучше всего цветочный нектар собирать. Уж пчелы, они знают! А ты заснула? Как не стыдно! Соня ты после этого, а не Тоня. А сколько я рыбы наловил! Придем домой – уху сварим.
Возвращались той же лесной дорогой. Теперь, когда у Шуры в ведре плескалось около десятка жирных лещей, три судака и одна щука, торопиться было некуда. Закинув удочки на плечо, Шура шел лениво, с развалкой, приглядываясь к каким-то, ему одному ведомым приметам.
– Вчера на рассвете, когда мы с отцом ходили проверять пчел, соловей как защелкает… – неожиданно обернулся он к Тоне. – Хотел тебя разбудить, да после жалко стало.
– Зачем меня будить?
– Чтобы вместе со мной послушала. Мне одному скучно.
– Ишь ты! – Тоня провела рукой по его буйным волосам от затылка до лба, против шерсти.
– Ну-ну! – Он поставил на землю ведро с рыбой, бросил снасти, схватил Тоню за руки и осторожно, чтобы не сделать ей больно, но так крепко стиснул их за спиной, что она не могла пошевельнуться.
– Пусти!
– Не пущу! Ты думаешь, если ты взрослая, учительница, а я школьник, мальчишка…
– Пусти же…
– А, попалась, которая кусалась!
– Какой ты глупый, Шурка!
– Глупый? Ну и ладно.
– Не буду больше с тобой дружить.
– А я и не прошу.
Он сверху вниз смотрел на нее. В черных глазах его прыгали озорные огоньки.
– Ну пусти же!
– Отказываешься от своих слов?
– От каких?
– Что больше дружить не будешь.
– Как же я могу отказаться, когда ты так глупо ведешь себя?
Он неожиданно отпустил ее, как будто вдруг забыл о ней, и, присев на корточки, начал что-то внимательно рассматривать.
– Гляди, ведь это медведка.
– Да ну тебя! – Тоня сердито растирала покрасневшие около кистей руки.
– Слышишь, чирикает?
Она невольно прислушалась. И правда, это было нечто среднее между чириканьем воробья и стрекотаньем кузнечика. Она нагнулась, заинтересованная. Толстенькое бархатистое серо-бурое существо в полпальца длиной поводило усиками, таращило выпуклые глазки и со всем усердием трещало короткими жесткими надкрыльями.
– Медведка, – уже совершенно уверенно сказал Шура. – Смотри, испугалась, уходит.
Существо юркнуло в небольшое отверстие, видимо им же проделанное, и начало выбрасывать оттуда горсточки земли.
– Видишь, роет ходы, точно крот, – радостно смеялся Шура. – Ты обрати внимание: ножки, крылья, усики, щупальцы. И все точно прилажено, будто в хорошей машине. Замечательная штука! Эта медведка вредная тварь. В лесу ничего, пускай живет, а в огородах уничтожать надо, не то все сожрет. Знаешь, я иногда думаю, не пойти ли мне по биологии. Естественные науки тоже до черта занятная вещь. Если делать научные открытия… Только это долго. Пока одно открытие сделаешь, можно столько наизобретать. Нет, техника интереснее. Точность, математика и фантазия. Чудесно! Как ты думаешь, Тоня? – Вдруг, что-то вспомнив, он круто повернулся к ней и, встретив ее оживленные сочувствующие глаза, схватил ее за плечи, – Не сердишься?
– Ну как на тебя сердиться, негодный мальчишка!
– Не сердится! Не сердится! – твердил Шура нараспев и, подхватив ее на руки, закружился с ней на одном месте.
– Опять начинаешь! Пусти же! – отбивалась Тоня.
«В разведчики пойду!»
Второй день в Песковатском дул резкий северо-восточный ветер. Ветви старой березы, на которой была укреплена антенна, подломились у самой верхушки. В дедушкиной хате, где Шура с отцом, матерью и Витей теперь обыкновенно проводили лето, радиоприемник молчал с утра. Усевшись верхом на тонком раскачивающемся суку, Шура долго возился с антенной. Когда он окончил починку, вся семья сидела уже за обедом. От котла с картофелем поднимался пар.
– Скорее, а то простынет, – сказала мать, накладывая ему полную миску.
– Погоди, дай проверить. – Он включил вилку. Радиоприемник захрипел, как простуженный человек. И вдруг сквозь глухие нечленораздельные звуки прорвались отчетливые слова: «…без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли…»
– Война! – Крикнул Шура.
Надежда Самуиловна вскочила с места.
– Как! Война?
– С кем война? – недоумевал Павел Николаевич.
– С немцами, с Гитлером.
– Господи Иисусе! – крестилась бабка Марья Петровна, глотая слезы вместе с горячим картофелем. – Теперя всех заберут – и сынов и зятя.
Только дед Николай Осипович, крепкий семидесятидвухлетний кузнец, без единой сединки в темноволосой голове, с невозмутимым спокойствием дожевывал картофель.
– Не скули, мать. Ешь, раз что тебе пища дадена. Ешь да силы набирайся. Война, она много силы требует, опять же и терпенья. А кого заберут, кого нет – это от нас независимо. Кому что на роду. Иной, может, и здеся останется, а животом помрет, а иной на самой линии огня, в пекле адовом уцелеет. У кого какая планида. Понимать это надо.
Шура напряженно прислушивался к глухому бормотанью радиоприемника, что-то передвигал, подвинчивал.
«…Советским правительством дан нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины…» – неожиданно четко заговорил радиоприемник, но тут же оборвал и совсем замолк. Махнув рукой, Шура бросился к двери.
– Куда? – забеспокоилась мать.
– К Виноградовым. У них радио в порядке.
– И я с тобой! – побежал за ним Витя.
– Шура… голодный… поел бы… – сокрушалась Надежда Самуиловна.
Но обоих уже не было в избе.
Директор Песковатской школы Николай Иванович Виноградов, обычно такой сдержанный и ровный, взволнованно ходил из угла в угол. Антонина Ивановна сидела на диване в непривычной праздности. Грибок с натянутым для штопки чулком валялся на полу подле нее. В другом конце комнаты Леля и Левушка вполголоса о чем-то говорили.
Хлопнула дверь.
– У нас радио испортилось. Расскажите, Николай Иванович, – попросил Шура.
Витя подбежал к ребятам. Радуясь случаю поговорить со свежим человеком, директор изложил своими словами речь Молотова.
– Что же теперь делать? – волновался Шура.
– Как что делать? Бороться.
– Ну да, это Красная армия. А нам что делать? Которых не призвали.
Николай Иванович усмехнулся.
– Каждый будет свое дело делать: ты учиться, я учить.
Шура с удивлением взглянул на него.
– Учиться! Разве усидишь теперь за партой?..
– Что же ты хочешь делать? – спросила Антонина Ивановна.
– Брошу все и пойду воевать.
– Да ведь тебе шестнадцать лет, в армию не возьмут.
У Шуры загорелись глаза.
– В разведчики пойду! В двенадцатом году, когда Наполеон вторгся, бабы воевали, не то что ребята. А вы говорите… Ну, прощайте, я пошел.
– Куда ты? – подскочил к нему Витя.
– В Лихвин. Хочу узнать, что там.
– И я с тобой.
– Нет. Ступай домой, скажи матери, а то она с ума сходить будет.
По зову родины
В кабинете комиссара Макеева поминутно звонил телефон. Входили и выходили люди. Павел Сергеевич отдавал короткие распоряжения, записывал что-то в блокнот, потом накручивал звонок телефона, кого-то вызывал и снова что– то приказывал. Шура долго ждал, пока до него дошла очередь.
– Ну как? – спросил Макеев и улыбнулся.
– Я к вам, Павел Сергеевич. Что мне делать?
– А учиться?
– Не могу.
Светлые глаза Макеева, небольшие и проницательные, на секунду задержались на взволнованном мальчишеском лице.
– Тебе сколько лет?
– Шестнадцать, – с виноватым видом пробормотал Шура.
– Верхом ездишь?
– Ну еще бы!
– Я формирую истребительный батальон. Подай заявление. Пока будешь ходить ко мне на учебную стрельбу. Всё.
Шура обернул к нему счастливое раскрасневшееся лицо, пролепетал задыхающимся шепотом:
– Хорошо, Павел Сергеевич. Спасибо.
Макеев с ласковой усмешкой смотрел ему вслед. Складки на его большом умном лбу разгладились.
Враг подступал к границам Тульской области, и линия фронта проходила уже близко от Лихвина. Все чаще кружили над городом фашистские стервятники. Артиллерийская стрельба, еще недавно отдаленная и глухая, доносилась все явственнее. По тихим, заросшим травой улицам грохотали, подскакивая на ухабах, военные машины с людьми и грузом, медленно тащились набитые узлами и чемоданами телеги. Вокзал был набит доотказа людьми. У кассы день и ночь дежурила очередь. Паровоз с тяжелым пыхтеньем тащил перегруженный поезд. Люди сидели на крышах вагонов, гроздьями висели на ступеньках, цеплялись за буфера.
Во дворах спешно закапывали овощи, утрамбовывали землю, сверху накладывали кирпичи, щебень, дрова.
– Уезжай, Надя, – уговаривал жену Павел Николаевич. – На тебя кулацкое охвостье еще с каких пор в обиде. Ты думаешь, забыли, как ты на коллективизации поработала?
Надежда Самуиловна молчала, сжав губы и устремив куда-то темные, как у Шуры, глаза.
– Уезжай и Витю с собой забирай.
– А Шура? – быстро обернулась она к мужу.
Павел Николаевич неопределенно развел руками:
– С Шурой ты сама поговори.
Шура поступил в конно-разведывательный взвод истребительного батальона и теперь пропадал целыми сутками. Прибегая домой с работы, Надежда Самуиловна наспех готовила обед, кое-как прибирала в комнате и садилась у окна ждать.
Как она тревожилась! Как ей недоставало его! Он был не только ее любимцем, ее гордостью, но и помощником во всех ее делах. Он проводил слишком сложные для нее подсчеты в универмаге. Когда туда прибывала новая партия товара и в магазине скоплялся народ, он в подмогу продавцам становился за прилавок. Натаскать воды из колодца, наколоть дров, истопить печку, подоить корову, выкрутить белье – все это Шура делал охотно, ловко и весело, с шуткой, с острым словцом, будто играя. Надежда Самуиловна не знала технических затруднений в хозяйстве: портился примус или электричество, Шура все налаживал в несколько минут.
В тоске и тревоге, напряженно прислушиваясь, мять проводила долгие часы у окна. И когда вдруг со стороны огородов, тянувшихся до самой опушки, доносился голос, такой знакомый, такой родной:
Три танкиста, три веселых друга —
Экипаж машины боевой… —
она срывалась с места и выбегала на улицу. Сначала слышно было только цоканье копыт. Потом из-за угла появлялась складная фигура всадника, ловко сидевшего в седле. Надежда Самуиловна хваталась за грудь, чтобы сдержать сумасшедшую птицу, которая до боли сильно трепыхалась у нее внутри. И когда Шура соскакивал на землю, мать висла у него на шее, жадно вглядываясь в утомленное, но счастливое лицо.
– Ты, верно, голоден, сынок. Пойдем кушать.
– Погоди, мама, дай Пыжика убрать.
Он уводил вспотевшую лошадь в конюшню и, только расседлав и задав ей корму, садился обедать сам. Мать неотрывно смотрела на него, пока он ел. Если она начинала расспрашивать его, он отшучивался или отмалчивался, и она оставляла его в покое, браня себя за бестактность.
В этот раз он вернулся неожиданно скоро, в тот же день, когда ушел из дому. Он не выглядел усталым, но лицо его было сосредоточенно, как у взрослого человека, принявшего серьезное решение. Он ел молча, односложно и рассеянно отвечал на вопросы. Потом, вставая из-за стола, сказал:
– Ну, собери меня как следует, мама. Я, наверное, на всю зиму уйду.
Надежда Самуиловна молчала. Что она могла ему сказать! Коммунистка, активная общественница, она собственным примером воспитала его таким, каким он был. Она гордилась им. И все-таки по-матерински боялась за него и больше всего на свете хотела бы удержать его около себя.
– Мы с Витей на этих днях уезжаем, – охрипшим от волнения голосом заговорила она. – Может быть, и ты с нами?..
– Нет, не поеду, – сказал он решительно.
Надежда Самуиловна молчала, низко опустив голову.
Шура взглянул, подошел ближе, обнял ее за плечи.
– И тебе не стыдно просить меня, мама! Ты же сама смелая и умная. Ты все понимаешь. Зачем же?..
Надежда Самуиловна отвернулась и молча начала собирать вещи: белье, валенки, теплый джемпер, три буханки хлеба; потом вынула из печки большой кусок говядины, который приготовила себе с Витей на дорогу. И, выложив его из противня в миску, хотела остудить.
– Мяса не надо, – сказал Шура. – Нам папка целую свинью достал да еще пуда два меду.
У Надежды Самуиловны сердце закипело обидой. Значит, отец все знал раньше, а от нее скрыли. Что ж, поделом ей! Он, видно, не стал удерживать сына, а она… И не зная, как загладить вину, она достала из шкафа новый, недавно справленный Шурин костюм из хорошего сукна и еще не надеванный затейливой расцветки галстук.
Шура со снисходительной улыбкой смотрел на ее хлопоты.
– Ни к чему мне галстук, мама. И костюм убери. Что мне с ним делать в лесу? Вернемся – все себе достанем, а пока…
Пришел отец. Лицо у него было озабоченное.
– Что, готов? Ну, собирайся, там ждут.
И на молчаливый тревожный вопрос в глазах жены ответил:
– Я скоро вернусь, Надя. Только провожу его.
Надежда Самуиловна обняла сына, потом отстранила его голову и долго смотрела ему в лицо, любуясь и мучась.
– Ну, сын, защищай нашу родину, крепко защищай. Только смотри, ты ведь не учен военному делу. Будь аккуратней.
– Что ты, мама, – усмехнулся Шура, – я лучше старших стреляю.
Прибежал со двора Витя. Взглянул на расстроенное лицо матери, на вещевой мешок, набитый доотказа, все понял.
– Уходишь, Шурка? И ты уходишь, папка? А я как же? Я тоже хочу с вами.
Шура вплотную подошел к Вите, заговорил серьезно, как взрослый со взрослым:
– Ты должен ехать с матерью, защищать ее. А отец скоро вернется. Он здесь нужен. Понял?
– Понял! – тяжело вздохнул Витя.
Партизан Саша
Пробираться в лесу нехожеными тропами, прислушиваться к каждому шороху, находить дорогу по едва уловивым приметам, прячась в лесной чаще, не упускать из виду противника и в дерзких вылазках подбирать только что оставленное на поле битвы оружие – какое счастье! Главное, это была уже не ребячья игра в войну, а самая настоящая война. И он, Шура Чекалин, вчерашний школьник, был настоящим защитником родины.
Когда в партизанском отряде заговорили о нехватке вооружения, Шура первый вызвался добыть его. Никто лучше не знал местности, чем он. Недаром еще десятилетним парнишкой увязываясь за отцом на охоту, он вдоль и поперек исходил родные леса. Сначала только присматривался, учился заряжать ружье, раскладывать костер, а года три– четыре спустя стал и сам заправским охотником. Как все это пригодилось теперь – знание оружия, умение ориентироваться в незнакомой местности, способность выслеживать зверя, оставаясь необнаруженным, и прочие охотничьи навыки!
Трос суток Шура провел один в лесу. У него уже были припрятаны под ворохом опавших листьев две винтовки к несколько гранат. Ему хотелось раздобыть еще патроны. Буханка хлеба, которую он захватил с собой, кончилась. Чтобы обмануть голод, он жевал сосновые иглы и запивал их водой из колдобин и луж. На ночь забирался в дупло древнего дуба и засыпал спокойно, как у себя дома.
– Шура не приходил?
– Нет.
Командир отряда Тетерчев снял с плеча автомат и повесил его на крюк над нарами.
– Зря отпустили мальчонку. Молод еще самостоятельно в разведку ходить.
– Никто его не посылал. Сам вызвался! – огрызнулся комиссар Макеев, сушивший над печкой мокрую от дождя куртку. – А молод, так не надо было брать в отряд. У нас не детский сад – с младенцами нянчиться.
А сам на шум шагов бросился к выходу.
– Шура, ты?
Но это был Алеша Ильичев, рабочий-печатник, немногим постарше Шуры. Оглядев присутствующих, он начал отстегивать гранаты у пояса.
– Что, Шура еще не приходил?
Тетерчев молча покачал головой.
– Да-а… – протянул Ильичев. – Может, немцы его сцапали, а?
Партизаны один за другим возвращались в землянку. Кто из разведки, кто после выполнения другого задания, голодные, усталые, промокшие, и каждый непременно спрашивал:
– А Шура что? Не вернулся еще?
Все уже сидели за столом. Дядя Коля, кашевар, высокий, сухощавый, с небритой седой щетиной на длинном лице, разливал кипяток по кружкам. В дальнем конце землянки, там, где ступени круто поднимались вверх, показалась вихрастая мальчишеская голова. Обрызганное дождем лицо сияло.
Шуру окружили.
– Где пропадал?
– У немцев в плену, что ли, был?
– Ведь трое суток…
Молча, с торжественной улыбкой Шура положил перед командиром две винтовки, около десятка гранат и, схватив на ходу ломоть хлеба, побежал к выходу.
– Куда ты? Постой!
Но его уже не было в землянке. Минуту спустя он притащил целый ящик патронов.
– А ты говоришь, молод в самостоятельные разведки ходить, – подмигнул Тетерчеву Макеев. – Где же ты все это раздобыл, Шурка?
Набив рот по самое горло, Шура, ухмыляясь, пережевывал хлеб.
– Да не приставайте вы к нему, дайте ему поесть. – сказал Макеев. – Вот сейчас лепешки поспеют. Поужинаешь и спать ложись. Устал, поди.
С блаженным видом Шура прихлебывал кипяток из кружки.
– Спать некогда. До завтра хочу радио наладить, а там опять в лес смотаться. У меня в дупле припрятано еще несколько таких штучек, – кивнул он на гранаты, – да ящик с патронами. Всего сразу уволочь не мог.

– Экой ты неугомонный какой! – ласково попрекнул Тетерчев. – Да вот что, я уже говорил братве. Мы будем звать тебя Сашей, Шура у нас уже есть.
На раскаленной докрасна чугунной печке в шипящем на сковороде свином сале подрумянивались ржаные лепешки. Светловолосая девушка в гимнастерке, с засученными по локоть рукавами обернулась к Шуре раскрасневшимся от жара лицом.
– Ты не обижайся, что я у тебя имя отбила. Я постарше. И в отряде раньше тебя.
Она засмеялась, и вздернутый нос ее забавно натянулся над пухлой верхней губой.
– С чего это мне обижаться? – сказал Шура рассудительно, поднимая голову над радиоприемником. – «Саша» будет вроде боевой клички, «Шура» останется для домашних.
– Да ты, я вижу, шутник! – одними глазами улыбнулся командир. – Скажи, неужто и вправду наладишь у нас радио?
– А как же! Завтра утром проснетесь и услышите: «Внимание! Внимание! Говорит Москва».
– Вот здорово! – Шура Горбенко отошла от печки, вытирая платком вспотевшее лицо.
– Ну, граждане хорошие, я уже сотню отхлопала. Хватит с вас?
– Валяй другую, – сказал Тетерчев.
– Вот ненасытные! Дядя Коля, много еще у тебя там теста?
– Да тут на целую дивизию хватит, – жалобно проговорил кашевар. – Только это не тесто, а жижа какая-то!
– Эх ты, горе-повар! Зачем же ты столько воды наболтал? Подсыпь-ка еще муки.
– Да я уже подсыпал, а оно все не густеет, – горестно вздохнул дядя Коля. – Там в мешке немного осталось.
Шура Горбенко деловито поболтала палкой в жиже.
– Отлей-ка половину вон в тот горшок. Так. Теперь ведро вынеси на холод, чтобы не прокисло, а в горшок подсыпай муки. Правильно… А теперь замешивай. То-то вот оно, бабье дело, – поучительно добавила она, – Мы с вашим, мужским, справляемся, а вы с нашим что-то не очень. А еще старый партизан. Не стыдно тебе?
Дядя Коля сокрушенно крутил остриженной ежиком седеющей головой, юмористически поблескивая узкими щелками глаз.
После чая с хрустящими ржаными лепешками и медом, который Шура привез с отцовской пасеки, улеглись спать. От сосновых веток, устилавших, нары под матрацами, в жарко натопленной землянке стоял густой смолистый запах. Кругом храпели и посапывали на разные голоса. Над землянкой шумел осенний дождь, однообразный и унылый, как старческая воркотня. Шура долго лежал без сна, глядя в темноту широко открытыми глазами, и счастливо улыбался.
Утром он вскочил, когда все еще спали. Накинув полушубок, вышел из землянки, взлез на сосну и несколько минут в сером рассветном сумраке колдовал над антенной. Потом ощупью спустился в землянку, чиркнул спичкой и при тусклом свете коптилки снова начал возиться с радиоприемником. А немного времени спустя удивительно знакомый голос проговорил привычное: «Внимание! Внимание! Говорит Москва…»
Партизаны просыпались один за другим, щурили на свет удивленные глаза и, как старому другу, улыбались знакомому голосу.







