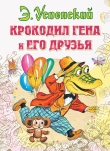Текст книги "История моего безделья"
Автор книги: Слава Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
2. Продолжение: родной завод
После работы наш герой поехал прямо домой. Чуть задержался на получасовую прогулку в ближайшей к метро аллее. Дома сел за письменный стол, столь нелюбимый прежде, и на карманном календаре тщательно подсчитал, сколько дней, несчитая праздников и выходных, остается до июля месяца, когда в вузах начинаются вступительные экзамены. Подсчитал и зачеркнул первый, крест-накрест, зеленой (цвет жизни!) ручкой – минус один!..
После этого взял нелюбимый же – но прежде, прежде! – математический задачник Сканави и опять подсчитал по оглавлению, сколько там задач. Разделил второе на первое и – ау, кафе “Марс”, ау, коктейль “Столичный”, ау, вечерние огни Тверской – этим же вечером прорешал (и не сквозь зубы,не через “не хочу”, а с освободительной радостью – вот как!..) получившуюся ежедневную норму по теме “логарифмы”. Причем каждый пример, повторяю, решался любовно, не торопясь, можно сказать, осматривая со всех сторон и сдувая каждую пылинку, вникая во все мелочи, чуть ли не медитируя!.. Ведь он был пусть маленькой, неровной, осыпающейся, но ступенькой на пути, ведущемиз морозной мглы, метро, толпящихся в холодном троллейбусе злых невыспавшихся людей, турникета, глотающего пропуска и (напрашивающаяся метафора) выплевывающегоих – тьфу! – обратно вместе с вами в конце длинного, бесконечно длинного рабочего дня…
Да, видимо, я был в таком экстазе, таком отчаянии и тоске, что в один из первых же моих рабочих дней Бог сжалился надо мной и послал подарок – 25 сиреневых советских рублей (честное слово, не вру!), немалая по тем временам сумма… Я нашел ее на снегу у метро, по пути с работы, странно, что никто не видел яркой бумажки, народу было много. Может быть, без шуток, это был знак? Что мое раскаяние принято?..
Кстати, еще одно доказательство этому, только сейчас вспомнил.
Ведь это было в день аванса, которогомне на работе не дали, поскольку я недавно пришел и бухгалтерия не успела что-то там оформить…
Странно, да? Совпадение.
Потому что, Господь, мне кажется, должен любить усердие, а я никогда,ни до той поры,ни, увы, по сей день после, не был столь усерден.
А знаете почему? Примитивный ответ…
Дело даже не в страхе перед “армией”. Просто я решил всерьез побороться за свое право сидетьнавысоком вертящемся стуле в маленьком баре в конце улицы Горького, у красной стойки на 2-м этаже и, покачивая ногой в такт, слушать оркестр Джеймса Ласта или даже виа “Слейд”…
Сейчас много говорят о свободе, кто сопротивлялся “Совку”, кто нет… Я, я сопротивлялся! И я тоже! Сидение в баре – это была моя маленькая свобода, мой резистанс, моя борьба, мой Остров, моей Свободы …
А может, мое Виши,это зависит, конечно, с какой стороны посмотреть.
И все же провал с путешествиями в Южные моря кое-чему меня научил. Я стал умнее и решил никогда больше не демонстрировать свое диссидентство, свою – лень или свободу? – открыто. Тем более в нашей трудолюбивой,как пчелка, стране. Тем более тогда, в ее трудолюбивом сердце, чуть ли не в Официальном Храме Труда – рабочем цеху.
Как мне показалось, игра стоила свеч. Сначала немного потрудиться, чтобы потом вволю побездельничать. Последнее сначала в институте – 5, или даже 6 лет, а потом – потом перед моим мысленным взором вставали тихие коридоры нашего научно-исследовательского корпуса, на взгляд из бездн опытного производства – просто-таки Килиманджаро безделья.
После окончания института (о, теперь я поумнел: любого… – какая разница?!) я видел себя дипломированным специалистом – в лаборатории… Столы, приборы (компьютеров тогда еще не было),мягкие стулья, чайник или даже (в зависимости от степени либерализма начальства) – кофейная турка на подоконнике и то, чего никогда не было даже в нашем, считавшемся белой костью, радиоцехе…
Удивительная тишина.
Как будто никого нет… Слышны шаги на том конце покрытого ковровой дорожкой коридора, негромко произнесенная фраза, хлопок закрываемой двери, солнце полосами стоит на натертом полу – и все, опять тихо. В такой тишине, думалосьмне по дороге в нашу грохочущую опытно-производственную преисподнюю, в такой тишине, в отсутствии начальника, можно что-нибудь даже и почитать украдкой, спрятавшись за осциллограф: кто там разберет издали, что ты читаешь… Например, Фолкнера, “Реквием по монахине”, тогда только вышло в “Иностранке”. Этакий молодой Сахаров на полигоне Новая Земля. Или лучше Оппенгеймер в Лос-Аламосе…
Сахаров…
Оппенгеймер…
А по вечерам иногда, после работы, у красной стойки – виа “Слейд”…
Забегая немного вперед, мудро-иронически усмехнусь: какое разочарование ждало меня впереди! Я был просто потрясающе, просто ох..тельно наивен. Мечтая, как тогда говорили, поступить и тем самым элементарно спастись от армии, я нарисовал себе Бог знает какие райские кущи… Этакий советский Йель, Башня из слоновой кости, Красный Оксфорд, ё-мое.
Ваш покорный слуга где? Например, в парке “Динамо”, с книгой, на скамейке, пора убирания клумб, время – часа два-три дня, горы срезанных настурций, желтая листва… Редкое посещение лекций лучших профессоров и сладкая домашняя дрема до полудня… Короче, юный марксист на парижских набережных.
Наивный идиот!
– Позвольте спросить: а курсов молодого бойца на базе своего вуза выне хотели бы, дорогой сэр?!
Наверху (или внизу), видимо, прекрасно понимали: студенчество, “социально активный класс”, “прослойка”, “пока сердца для чести живы”, остановка “Сенатская площадь”, следующая – “Тянь ань Мэнь”.
Потому что тотчас после вожделенного “поступления” пошло-поехало…
О, это поступление – это отдельная песня… Острый маятник, качавшийся так близко, что был слышен уже его свист, уже отчетливо пахло казарменным потом, казалось бы, подняли… но тутже закрыли в новой камере, просто попросторнее.
Перечислю, так сказать, обязательные процедуры.
Комсомольские собрания через день, овощная база по субботам, обязательная “общественная работа”минимум раз в неделю, еженедельное же 2-3-часовое радение в актовом зале. (Кстати, какие “акты”? Точно половые…) Чтобы не могли головы поднять!
Тематика радений могла быть самой разной – от торжественного барабана 7 ноября до безуспешных заклинаний китайских агрессоров во Вьетнаме в 80-м году. И – плюс ко всему (для меня самое страшное): жестокая борьба за стопроцентную посещаемость. Вплоть (в – плоть, чувствуете острие?) до лишения стипендии… Это “до лишения стипендии” висело над нами все 5 лет. До сих пор (сколько времени прошло!) холодеет в груди при этих словах – 40 советских рэ были внушительной по тем временам суммой…
Пидор-староста отмечал всех отсутствующих (просить было бесполезно, смотрел честными глазами: “да меня самого проверяют”…), после определенного числа пропусков шли вызовы в деканат:
– Почему не были?!
Объяснения типа – плохой преподаватель, неинтересно читает, не принимались, просто отметались со смехом: мало ли что вам не нравится, сидите! Или – невинный взгляд – уходите!.. Типа: вы уходите на набережную Темзы … Но я всё равно пропускал наиболее тоскливые часы и особенно первые пары – опять к 8.30, за что боролись! – иногда читал книжки на больших собраниях (когда людей много, это не так видно) и обнаглел настолько, что не пошел на первую же, нет, каков нахал! – первую же Овощную базу…
3. Я ходил!..
Здесь наша история приобретает черты настоящихвоенных мемуаров, так как после этого антиобщественного поступка в инстанциях наступило странное молчание.
Сперва староста меня спрашивал: ты почему не был?! потом вдруг отстал, я все ждал вызова в деканат, в комитет (сейчас долго не мог вспомнить, как это называлось, представляете, забыл?! а вспомнил и в очередной раз вздрогнул, слышите: КОМИТЕТ КОМСОМОЛА…), но ничего не было, все было тихо.
Теперь-то я понимаю, что со мной решили разобраться неформально (в стиле “коллектив – лучший воспитатель”), благо в нашей группе было много ребят с производства и так называемого рабфака… Но до сих пор не знаю точно, а было бы интересно узнать, было ли дальнейшее официальным решением, “спущенным сверху”, или спонтанным волеизъявлением улья.
Развязка наступила недели через две.
– Ты почему не ходил?! Все ребята были!.. – спросил у меня после физкультуры некий комсомольский активист, ныне, как и положено комсомольскому активисту, проживающий в штате Мичиган, США, – ты почему не был, бля?! Все же – были?!.
И тут я – один из немногочисленных, увы, случаев в моей жизни – вдруг заговорил со всеми на правильном языке (сам от себя не ожидал, честное слово):
– А пошли бы вы все – на х..! – отчеканил я, ужасаясь собственной смелости.
Или наглости?
Понимаю, что уморительно, невыносимо серьезен, но послушайте, пожалуйста, прошу Вас, послушайте, это очень важно для меня, маленького серого зайчика, сидящего в густой траве нашей жизни, в страхе, разочаровании и ненависти впередсмотрящего в телевизор, что все, слышите, ВСЕ – что на эту Овощебазу не пошлииз группы в 25 человек только двое: я и еще одна девочка, куколка, беленькая мамина дочка с пушистыми белыми волосиками, но она “заболела”, хитрюга, так что в общем она не в счет, – ЧТО ВСЕ ПОШЛИ, А Я НЕ ПОШЕЛ.
– Что-о-о?!
Позднее, курсе на 4-м, когда всё уже быльем поросло и все стали более или менее своими, и “коммунисты”, и беспартийные как-то сильно выпили и активист вдруг признался – выдал служебную тайну: а мы хотели тебе п…ы – дать. И дали бы…
– Что же помешало? – удивился я.
– Если бы ты меня не послал.
Я снова удивился:
– Как это, – наверное, должно было быть наоборот?
– Ну, мы решили, что раз ты так хамишь, значит, за тобой кто-то есть…
Похоже, он до сих пор в это верил.
Позднее я читал нечто подобное в мемуарах диссидентов. Невероятно, но оказывается, дракона можно было взятьна понт!..
А теперь, когда прошло уже пятнадцать лет, темница рухнула и частью устояла, а частью восстанавливается и даже архивы КГБ открылись, закрылись и снова закрылись, и многое тайное той поры стало явным, откроюсь и я, ибо вышли уже все сроки давности:
Я… я ходил.
Я ходил на эту проклятую базу!
Но, видимо, так не хотел, так “ломало”, ведь была суббота, вечер, осень – какая база!.. что опоздал к месту сбора и когда, наконец, в старой штормовке и сапогах (во видок-то был, да?.. бомж!) приехал на эту е..ную Варшавскую (опять то же место!), в центре зала, слава Богу, уже никого не было. Я походил немного по вестибюлю, а потом наверху вдоль каких-то гаражей и заборов, никого не нашел и с облегчением поехал домой…
По дороге вспомнил свое недавнее трудовое прошлое, подумал: а может, все-таки зря ушел с завода? Нас-тона базы не посылали, мы были пролетариат, белая кость, священные животные, нас не трогали, на базу гоняли только “интеллигенцию”, совслужащих, об этом уже тысячу раз писали: способ показательной классовой порки, магическая инициация, уголовное опускание, радость и развлечение овощебазных ворюг из партии и народа…
А потом хотел взять справку, покаяться, что-то придумать – и поленился, не взял, вроде не трогали, и я плюнул – решил, что обо мне забыли.
И в результате невольно! Противопоставил себя.
Всем!
Потому что у нас – никто не забыт и ничто не забыто.
(Снова общий ужас в зрительном зале…)
1-е замечание по ходу
Дал тут почитать свои записи одной знакомой. Она прочла и говорит: интересно, конечно, очередная “Застойная летопись”, но борьбы-то нет. Где борьба?
Я подумал: и правда. Надо борьбу. Расстроился.
А через пару недель перечитал еще и увидел: подруга – дура. Есть борьба! Но моя.
Заячья. Заячья борьба.
2-е замечание по ходу
Могут спросить: зачем я это все пишу? Что это? Терапия? Жалобы? Самоанализ? Сведение счетов, когда стало можно?
– Нет, это попытка освободится.
4. Из записи второй: начало пути
На выпускном вечере в институте наш завкафедрой, неплохой в общем мужик, напутствуя нас на прощание и прокричав официальную часть, неожиданно сказал:
– Возможно, эти пять лет вы будете вспоминать как лучшие годы своей жизни.
И все последующее десятилетие, пока – три минуты на размышление – пока не кончился “Совок”, работая в различных НИ-И и Кэ-Бэ, я вспоминал его слова.
Еще раз прошу, простите мне эту постоянно возникающую кондовую публицистичность, но дайте гвоздю– персонажу поэмы Маяковского “150 тысяч” (или “150 миллионов”? не помню…) выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке…
Какие слова?
– Оставьте нас в покое! – вот какие…
Закончили мы в июле или июне. После некоторых мытарств при распределении, счастливо избежав уже готовившейся принять молодого специалиста плавучей нефтяной платформы в Северном море (слышите, как шумит ветер в обледенелых снастях, как разбиваются волны о могучие сваи – колонны), я устроился в некий отраслевой НИИ, имевший один большой недостаток – он находился у московской кольцевой автодороги.
А может… Может, зря испугался? И несчастливо избежал? Как знать, было ли на 100 % романтической дурью наших родителей все эти Камчатки, новосибирские Академгородки, Хабаровски и Благовещенски, костры, байдарки, гитары, походы и прочее… От системы, конечно, не убежишь, но, ведь сказал Поэт: лучше жить в глухой провинции у моря. И потом слегка проветрить мозги, просто на пару лет сменить обстановку, пока молодой, было бы наверное даже полезно…
Но что теперь говорить – испугался.
Контора, где я должен был “отрабатывать” (было еще такое слово – “оттарабанить”) свое распределение, занималась добычей и перепродажей – современная шутка – переработкой (помните эти заклинания? Уренгой! Помары! Ужгород!..) не то нефти, не то газа.
Эх, вот не помню, чего же я все-таки делал положенный месяц, а у меня хитреца как-то получилось целых два месяца последнего еще студенческого отпуска между дипломом и началом трудовой деятельности…
Наверное, поехал в свою любимую Прибалтику, в Ригу, на ихнее взморье и там занимался онанизмом, гуляя взад-вперед по песчаному а ля Мунк – в зеленых водорослях и валунах – берегу, читая дефицитного Бальмонта, выменянного в знаменитом рижском книгообмене на бывшей Ленина на еще более дефицитный том из московской серии “Зарубежный детектив”, ругая перед консервативной (но очень сексуальной) подругойизПодмосковья советскую власть и убеждая себя, что это все – я имею в виду симпатичную подругу с короткой стрижкой, пляж в водорослях, аккуратненький чистый поселок, дом под островерхой крышей, в котором мы снимали комнату, магазин, в котором всегда всё было (и даже масло!) – уже на Западе.
Кстати, господа, поднимите руку, кто помнит, что в Москве, при Брежневе были перебои с этим продуктом? Ага, вижу, вот рука, и вот… Ну, тогда ладно…
Примечание
Недавно был в Прибалтике по делам. С неожиданным горьким консерватизмом скажу: как мы ошибались, никакой это не Запад… Или его глубокая, глухая, приграничная провинция. Типа какой нибудь Галлии у римлян. Нас обманули, а точнее – мы, как всегда, обманывались сами, восторженные варвары, всегдашние закомплексованные завоеватели с Востока. Впрочем, это долгий разговор.
Вернемся лучше к нашим баранам, так как, может, и зря ругаю бедную Балтию, какая демократия может быть у границы с Драконом?.. У границы с Драконом надо ежедневно и аккуратно, как у Булгакова, проверять яйца в курятнике, чтобы не затесалось случайно какое-нибудь с пятнышками, оттуда…
А может никуда я в тот год не поехал и стриженая девочка из Подмосковья была годом позже, а просидел эти два месяца в пыльной и душной Москве, на квартире у предыдущей, коренной москвички, интеллигентки, художницы, своей тогдашней, не знаю,как сказать, с уважением к прошлому или цинично: любови или сожительницы?..
В общем, просидел у… нее, сочиняя по своему обыкновению не то рассказ, не то поэму, не то эссе – меморию, как сейчас, а скорее всего просто валяясь на диване с книжкой, которых там было предостаточно. Бабка у любови-сожительницы была видной советской писательницей и даже экс-лауреаткой Сталинской премии.
Не могу удержаться от того, чтобы не перечислить хотя бы несколько названий избиблиотеки лауреатки.
Разумеется, там были не Ажаев и не “Кавалер Золотой звезды”, эти книги лауреаты сочиняли для нас, а, например, дореволюционные, по-моему, издания товарищества “Марксъ” с ять – Толстой, Тургенев и Гончаров, в переплетах с золотым обрезом, с золотыми же буквами на обложках и шмуцтитулах, были многие книги дефицитной бухаринской Academia…
Был не просто дефицитный, а дефицитнейший, тогда недавно изданный Пруст, синий “Иосиф и его братья” Томаса Манна (также суперраритет…), была “Избранная проза немецких романтиков” и даже черный с зелеными звездами на корешке реакционный коллаборационист Гамсун.
Сокровища пещеры Монте-Кристо!..
Обломов, Обрыв, Накануне, Ася, Под сенью девушек в цвету, Голод, Виктория… – золотой фонд русской-мировой культуры-литературы… Эх, жаль, что за одно это перечисление названий никто не заплатит!
А ведь не каждый сейчас может так перечислять…
Так вот, читая, листая, пробуя пописывать, занимаясь три раза в день любовью с пышнотелой внучкой лауреатки, провалялся на диване до середины августа.
Лето красное пропела, оглянутьсяне успела. Как говорила подмосковная хозяйка, у которой мои родители в далеком отрочестве снимали дачу (она любила грибной суп и перед тем как бросить в кастрюлю очередной очищенный от лесного мха, земли и еловых иголок подберезовик или белый грибочек, всегда приговаривала):
– Пожалте бриться.
– Ужас, да?..
– Пожалте.
В конце августа надо было идти договариваться, когда молодой специалист приступит к работе.
Ненавижу это слово – НАДО…
Каникулы кончились.
Еще два дня откладывал, пока было можно откладывать, потом позвонил – из дома сожительницы, с кухни, где так уютно кипел на электроплите модный в то время чешский стеклянный чайник и такой сундучок еще с полосатым матрасиком стоял у окна – чтобы полулежа, с книжкой, у окна, утром, этотчай пить …
Здесь нарастание, так сказать, внутреннего визга, но это для меня, плебея, в третьем поколении привыкшего с утра, как заяц, бежать на работу, это визг (чайник энд диванчик), а для других – нормально, как иначе?!
Потомукак, я уже сказал, бабка сожительницы знала толк в патрицианской утренней неге: за книги о колхозниках ей было высочайшим повелением даровано, даже нет, не даровано, – точнее будет все же позволено – с утра не вставать…
Позвонил по телефону, по-моему 531, точноне помню, но начинался с пятерки, то есть, по определению, позвонил куда-то в даль, разумеется, светлую, в Подмосковье, в ж..у какую-то полную позвонил часов в 12 дня и еще полусонный, с коричневым, с ледериновыми коронами Генри Джеймсом под мышкой, полулежа на сундучке, говорю:
– Але?..
А там бодрый, деловой (как я позже узнал, это было уже время обеда. В 12!) мужской голос:
– Да?
– Э-э-э, это вам звонит молодой специалист…
Тайный смысл ситуации: ты с книжкой, из центра, из сталинской высотки, полулежа, уютно – а все равно сюда звонишь. И скоро сможешь засунуть своего Генри Джеймса себе в задницу, дружок…
В общем, договорились, и через пару дней я поехал.
Хочу еще обратить ваше внимание, товарищи, на тот небезынтересный факт, что так называемая дорога на работу, как вам, наверное, хорошо известно, в те времена являлась началом веселого ежедневного каннибальского обряда под названием “рабочий день или, fuck yourself, дорогие товарищи…”
В моем случае это происходило следующим образом:
Сначала еще ничего, вступление, адажио и анданте – 15 минут пешком до метро, потом, воодушевляясь, центральная часть, аллегро – почти 40 минут на метро, до конечной станции красной ветки, засыпая и просыпаясь, не проехать бы, потом, кантабиле, певуче – 20 минут на автобусе (сначала долго шли новые районы, потом кольцевая автодорога, потом какой-то пустырь, только потом моя (моя?!) остановка) и – фине, в конце – уже с тоской в сердце и бодрясь, твердо решая сделать вид, что с энтузиазмом молодого ученого… проблемы добычи… аспирантура… утешая себя тем что: это же не трудно… многие так делали… Ну, кто… Т.С. Элиот, например. Днем в банке, вечером у муз…
И из наших: Чехов, Гончаров…
Но… издали завидя серые пятиэтажные коробки родного НИИ, тут же сломался, решимость изображать энтузиазм улетучилась, а когда попал в жаркую стеклянную оранжерею – предбанник-вестибюль, гдекакая-то мордав форме (опять! Опять!), остановив меня у своего колченогого стола, строго приказала “связаться по внутреннему телефону с лабораторией – пусть спустятся за вами!..” (где же обещанная в институте научная вольница?!.), – тут уже готов был с плачем “дяденька отпустите!” броситься к ногам седоусого, похожего на черноморского молдаванина с рынка, завлаба.
Может быть, надо было?..
Моя беда – это слишком нежная душа. Ведь все это можно было увидеть совершенно по-другому, по-хорошему, с большей иронией, даже с юмором, наконец…
Зачем страдать?
Но – что есть, то есть…
Кабинет начальства, впрочем, не производил тягостного впечатления – а “казарму” мнев первый раз предусмотрительно не показали… Наоборот, академический стиль, что-то в стиле больших фотографий советских ученых, висевших у нас на кафедре.
Заваленный бумагами стол заведующего, полная окурков пепельница, над столом непременная огромная карта Союза ССР – но физическая! – горы, речки, озерки … – невинная фронда тех лет, несколько черно-белых фотографий полевых сезонов, где завлаб и еще какие-то люди с геологическими молотками улыбались на фоне пейзажа, глубокое кожаное кресло 50-х годов, на окне цветок, корень в виде человечкаи чайник (когда-то же я об этом мечтал)…
Всё, казалось, говорило мне:
– Здесь можно жить, старик, не грусти…
Но 65-минутная езда за кольцевую автодорогу, с кварталами новостроек Орехово в последних кадрах и индустриальный пейзаж за окном с Московским газоперерабатывающим заводом на переднем плане, сделали меня совершенно невменяемым.
Мы полчасика поговорили уже не помню о чем – возможно, о науке, в процессе разговора о которой я, кажется, признался в гуманитарных интересах (зачем?!), на что завлаб только усмехнулся в седые усы, и молодой, энергичный, специально вызванный для знакомства со мной заместитель заведующего в идиотском белом костюме (в честь моего прибытия?) повел меня к автобусам.
Для удобства работающих (чувствуете инквизиторскую улыбку?)в начале и конце рабочего дня институтские автобусы, по далекому таежному образцу (институт-то – нефти и газа) – назывались вахтовки – собирали и развозили сотрудников по городу. По-моему, было восемь маршрутов. В основном, спальные районы: Ленинский, Беляево, Ждановская и ближайший город-спутник – Туманное. В центр автобусы не ходили. Считалось, что там никто из сотрудников не живет.
– Так что хорошо… – сказал заместитель заведующего, с подозрением на меня глядя.
Я кисло согласился:
– Очень…
– Небось, когда учился-то, такого не было?.. – гордо сказал заместитель заведующего, – наверное, сам на первую пару добирался?
Я хотел сказать, что сроду не ходил на первую пару, кроме нескольких лекций знаменитого химика, однажды случайно посетившего наш институт, но промолчал и вместо этого вдруг брякнул:
– А хорошее время было!
И пояснил:
– В институте…
Зам еще раз подозрительноменя оглядел и, сухо заметив, что “в каждом времени есть своя прелесть”, распрощался.
Снедаемый тоской, я забрался в автобус, идущий на Ленинский проспект, и, закрыв глаза, не открывалих до самой “Академкниги”, куда решил заехать, чтобы, купив что-нибудь абсолютно бесполезное типа голландского поэта XVII века Вовенарга в серии “Литературные памятники”, противопоставить хотя бы Вовенарга издевательской бессмысленности происходящего. Почувствовать, вопреки всему, свою близость, как иронически говорил кто-то из классиков, “ко всему чистому и высокому” и этим утешиться хотя бы на время.
И пошло.
Бедный мальчик…
Встает заря во мгле холодной…
Это про меня.
Следующий абзац я хочу представить в виде стихотворения. Хотя бы – в виде стихотворения. Потому что вообще это надо петь. Как романс. Утро – туманное, утро – седое…
Итак, стихи на начало трудовой деятельности молодого специалиста, записанные им самим 15 лет спустя. Опять почти Дюма-отец:
В начале сентября
Я поднялся чуть свет
в шесть (шесть!) утра
и съев
оставленные
мамой возлюбленной
(или сожительницы?)
бутерброды
(все, все! – еще спали!..)
отправился на трамвай
идущий к метро…
Как я уже говорил
мы жили в центре
и в этот час в нашем районе
было безлюдно.
Я тихо дошел
по пустынной улице
до остановки
вскоре подошел трамвай
и я спокойно сел -
в вагоне
кроме меня
было два человека!..
Трамвай тихо
тронулся
какой то работяга
с авоськой
курил на задней площадке
в открытое окно…
Кстати, однажды, много позднее, мы, с другими “молодыми специалистами” нашей лаборатории шутки ради посчитали, сколько тратится в среднем на так называемую дорогу на работу. Получилась чудовищная цифра.
Смотрите: в среднем два часа ежедневно. Десять за неделю. Сорок за месяц. Четыреста сорок – (минус отпуск, все учтено) за год.
Три недели. Всего-то.
Ноу комментс. А если что-то и говорить, то только очень спокойно. Без восклицаний. Без сожалений. Тихим и ровным голосом…
Четыреста сорок часов – это почти восемнадцать суток, почти три недели в году я (мы, вы – но не они) проводим в непрерывной дороге на работу, но если бы – в дороге. В закупоренном вагоне, в набитом троллейбусе, идущем (или бредущем) по кругу, по кольцу, по маршруту, в подземелье или наверху, привязанные за ноги и усы, глядя на пляшущих за окнами резиновых змей, на снег (яркое солнце) за стеклами и друг на друга.
– Кстати, почему эти гляделки, почему у вас в метро все друг на друга смотрят? – спросил меня однажды знакомый иностранец. – И на эскалаторе…Эти отрешенные взгляды…
Спуск/подъем в/из чистилища/?..
Где-то в институтском курсе физики остался ускоритель элементарных частиц – знаменитый синхрофазотрон, гонявший эти самые частицы по кругу. Может быть, московское метро – такой гигантский синхрофазотрон, когда-то изобретенный всемогущим КГБ или ЦК?.. Что происходило с частицами, я забыл. То ли они становятся атомами, обретая на бегу массу и плоть, то ли, наоборот, исчезают, превращаются в волны, в тени, в предполагаемое место, где они должны быть…
Я не ставлю восклицательных знаков. Я снова говорю тихо. Я просто перечисляю.
Тряска. Духота. Пыль. Усталые лица. Толпа. Запах немытых тел. Встречный эскалатор и смотрящие друг на друга люди. Страх… Озабоченность. Отрешенность. Отчаяние.