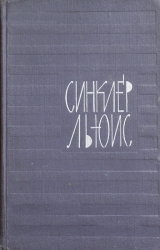
Текст книги "Главная улица"
Автор книги: Синклер Льюис
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Он по-прежнему улыбался.
– Да право же нет! А если вы говорите, что жены врачей так же завистливы, то… правда, с миссис Мак-Ганум мы не такие уж сердечные друзья, уж очень она тупа. Зато ее мать, миссис Уэстлейк, на редкость симпатична.
– Да, она, конечно, мягко стелет, но я на вашем месте, дорогая моя, не доверял бы ей своих тайн. Я еще раз повторяю, что во всем здешнем обществе только одна дама не занимается интригами, и это вы, вы – милая, доверчивая и всем чужая!
– Не надо льстить мне! Я все равно не поверю, что медицина – услужение страждущим – может быть обращена в копеечное ремесло.
– Ну, вспомните, не говорил ли вам Кенникот, чтобы вы были милы с какой-нибудь старушонкой, потому что она дает своим знакомым советы, когда какого доктора звать? Впрочем, мне не следовало бы…
Она вспомнила брошенное когда-то Кенникотом замечание относительно вдовы Богарт, смутилась и умоляюще взглянула на Гая.
Он вскочил, нервными шагами подошел к ней и погладил ее по руке. Она подумала, что ей, наверно, следует обидеться на эту ласку. Потом подумала, что ему, кажется, понравилась ее новая шляпка из розовой и серебряной парчи.
Он отпустил ее руку. Его локоть задел ее плечо.
Ссутулившись, он быстро отошел к своему стулу. Схватил вазу и с такой тоской взглянул поверх нее на Кэрол, что та испугалась. Но он заговорил на общие темы: о страсти Гофер-Прери к сплетням. Потом внезапно прервал себя.
– Боже мой, вы же не коллегия присяжных, Кэрол! У вас законное право не слушать это судейское заключение. Эх, я старый осел! Разбираю очевидные вещи, когда вы живой дух возмущения. Лучше расскажите, что вы-то сами думаете? Что такое Гофер-Прери для вас?
– Скука!
– А я не могу вам помочь?.
– Чем?
– Не знаю. Может быть, тем, что слушал бы вас. Не как сегодня, конечно. Но обычно… Не могу ли я быть для вас наперсницей, как в старых французских пьесах, камеристкой с зеркалом, всегда готовой служить поверенной своей госпоже?
– Ах, что же тут поверять! Люди здесь так бесцветны и этим гордятся. И как бы вы мне ни нравились, я не могла бы беседовать с вами без того, чтобы кругом не начали шептаться десятки старых ведьм.
– Все-таки заглядывайте поболтать хоть иногда.
– Не знаю, смогу ли я. Я усиленно стараюсь отупеть и стать довольной. Мне не удалась ни одна попытка сделать хоть что-нибудь хорошее. Надо, как здесь говорят, «прижиться» и постараться быть ничем.
– Не будьте такой пессимисткой! Мне больно видеть это в вас. Это – как кровь на крылышках колибри.
– Я не колибри, я – ястреб, маленький пойманный ястреб, которого вот-вот до смерти заклюют эти большие, белые, рыхлые сонные курицы. Но я благодарна вам за то, что вы утверждаете меня в вере. А теперь я пойду!
– Посидите еще и выпейте со мной кофе.
– Я бы рада, но меня уже успели терроризировать. Я боюсь, что скажут люди.
– А я не боюсь. Я боюсь только того, что скажете вы!
Он подошел к ней. Взял ее руку.
– Кэрол! Вам было хорошо здесь? (Да-да, умоляю!)
Она быстро пожала ему руку, потом вырвала свою.
Ей почти несвойственно было любопытство кокетки, и страсть к запретному не влекла ее. И если она была наивной девочкой, то Гай Поллок оказался в роли застенчивого мальчика. Засунув руки в карманы, он заметался по конторе.
– Я… я… я… ах, черт! – бормотал он. – Пробудиться от покойного сна, чтоб обречь себя страданиям… Я пойду приведу Диллонов, и мы все вместе выпьем кофе.
– Диллонов?
– Да. Вполне приличная молодая пара – Харвей Диллон и его жена. Он зубной врач, совсем недавно приехал. У них тоже квартира здесь же, где кабинет, как и у меня, и они еще никого тут не знают.
– Я слыхала о них. И до сих пор не подумала к ним зайти! Мне ужасно стыдно. Приведите их.
Она запнулась, сама не зная почему, но его лицо откровенно говорило – и ее смущение тоже, – что лучше бы им было вовсе не вспоминать об этих Диллонах. С деланной радостью он воскликнул:
– Великолепно! Я сейчас!
В дверях он оглянулся на нее, приютившуюся в облупленном кожаном кресле. Он выскользнул и вернулся с доктором и докторшей Диллон.
Вчетвером они напились довольно скверного кофе, приготовленного Поллоком на керосинке. Смеялись, говорили о Миннеаполисе и были невероятно тактичны. Потом Кэрол под резким ноябрьским ветром отправилась к себе домой.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Кэрол шла домой.
«Нет. Я не могла бы влюбиться в него! Он мне нравится, даже очень. Но он такой затворник! Могла бы я поцеловать его? Нет, нет! Гай Поллок в двадцать шесть лет… Тогда, может быть, я могла бы целовать его, даже если бы была замужем за другим, и, вероятно, ловко уговорила бы себя, что «в этом нет ничего дурного».
Самое удивительное, что я нисколько не удивляюсь себе. Я, добродетельная молодая женщина! Могу ли я быть уверена в себе? Что, если бы явился прекрасный принц?..
Жительница Гофер-Прери, хозяйка дома, всего год замужем – и мечтает о прекрасном принце, как шестнадцатилетняя девчонка! Говорят, замужество до неузнаваемости меняет женщину. Но я не изменилась. Однако…
Нет! Я не хотела бы влюбиться, даже если бы явился принц. Я не хотела бы огорчить Уила. Я так привязана к нему! Да-да! Я больше не влюблена в него, но я могу на него положиться. Он мой дом и дети.
Хотелось бы знать, когда наконец у нас будут дети? Я хочу детей.
Не забыла ли я сказать Би, чтобы она отварила на завтрак кукурузы вместо овсянки? Она, верно, уже легла спать. Придется встать пораньше.
Я очень привязана к Уилу. Я не решилась бы огорчить его, даже если бы мне пришлось отказаться из-за этого от самой безумной любви. Если бы явился принц, я только разок поглядела бы на него и убежала со всех ног! О, Кэрол, ты не героична и не утонченна. Ты неисправимо вульгарная молодая особа!
Но я не из тех жен, которые предают мужей болтовней о том, что дома их «не понимают». О нет, я не такая!
Ты уверена?
Во всяком случае, я не шептала Гаю о недостатках Уила и о том, что он не замечает моей особенной, необыкновенной души. В сущности, Уил, пожалуй, вполне понимает меня! Если бы только… Если бы только он поддержал меня в моих усилиях разбудить город!
Сколько женщин, какое несметное множество женщин забывают все на свете ради первого Гая Поллока, который им улыбнется. Нет! Я не желаю быть овцой в этом стаде искательниц сочувствия. Этих жеманных замужних невинностей. Хотя если бы принц был молод и не боялся стать лицом к лицу с жизнью…
Как все ясно у этой миссис Диллон! Она так явно обожает своего дантиста! А в Гае видит только какого – то непонятного чудака.
Чулки на миссис Диллон были не шелковые; это фильдекос. У нее изящные, стройные ноги. Но все-таки не лучше моих. Терпеть не могу плотные пятки у шелковых чулок. Неужели у меня толстеют ноги? Я не хочу, чтобы у меня были толстые ноги.
Нет! Я страшно привязана к Уилу. Его работа… Один спасенный им от дифтерита фермер стоит дороже моего нытья об испанских замках… замках с ванной комнатой!
Эта шляпа слишком тесна. Надо ее растянуть. Гаю она понравилась.
Вот и дом. Я совсем продрогла. Пора достать меховые вещи. Будет ли у меня когда-нибудь бобровая шубка? Нутрия – это не то! Бобер блестит! И так приятен на ощупь. У Гая усы – как бобровый мех. У, что за чепуха!
Я так привязана к Уилу. Он моя опора. Неужели я не найду лучшего слова, чем «привязана»?
Он уже дома. Он скажет, что я очень поздно пришла!
Вечно он забывает опустить шторы! Сай Богарт и все эти отвратительные мальчишки постоянно заглядывают в окна. Впрочем, ему, бедному, не до того. Он думает о своей практике. У него столько волнений и работы, а у меня только и дела, что болтать с Би.
Не забыть бы про кукурузу…»
Она влетела в переднюю. Кенникот выглянул из-за «Журнала Американской медицинской ассоциации».
– Ты уже вернулся? Давно? – воскликнула она.
– Часов в девять. Где это ты пропадала? Уже двенадцатый час.
Это было сказано добродушно, но не слишком одобрительно.
– Соскучился один?
– Да, ты забыла закрыть нижнюю отдушину в печи.
– Ах, вот досада! Но ведь это случается со мной нечасто, правда?
Она села к нему на колени, и он, предварительно откинув голову, чтобы спасти очки, потом сняв их, потом пересадив ее более удобно и слегка откашлявшись, ласково поцеловал ее и сказал:
– Нет, я должен признать, что ты прекрасно справляешься с такими вещами. Я не сердился. Мне только жаль было, что ушло тепло. Если оставлять поддувало открытым, все тепло уходит. А по ночам теперь уже здорово холодно. Я порядочно зябну в дороге. Сегодня так дуло, что я спустил в автомобиле боковые занавески. Впрочем, отопление в доме работает теперь исправно.
– Да, ветрено на улице. Но я отлично чувствую себя после прогулки.
– Ты гуляла?
– Я ходила повидать Перри. – Усилием воли она заставила себя добавить: – Их не было дома, и я зашла к Гаю Поллоку в его контору.
– Что? Неужели ты сидела и болтала с ним до одиннадцати часов?
– О, там был еще кое-кто и… Уил, какого ты мнения о докторе Уэстлейке?
– Об Уэстлейке? А что?
– Я встретила его сегодня на улице.
– Он не хромал? Если бы бедняга сделал себе рентгеновский снимок зубов, там, верно, оказался бы гнойник. А он воображает, что это от ревматизма. От ревматизма, черта с два! Как этот старик отстал от века! Не удивлюсь, если окажется, что он делает себе кровопускание. Ну-у-о-хо-хо! (Глубокий и серьезный зевок.) Не люблю портить компанию, но уже поздно, а врач никогда не знает, не вытащат ли его ночью из постели. (Она вспомнила, что за минувший год он объяснял ей это в тех же самых выражениях не меньше тридцати раз). Пора, пожалуй, на боковую. Часы я уже завел и печь прикрыл. Ты заперла дверь, когда пришла?
Они побрели по лестнице, после того как он выключил свет и дважды подергал входную дверь, чтобы убедиться, хорошо ли она заперта. Продолжая разговаривать, они начали раздеваться. Кэрол все еще несколько стеснялась и раздевалась за дверцей шкафа. Кенникот был менее застенчив. В этот вечер, как и всегда, ее сердило, что, прежде чем открыть шкаф, приходится отодвигать старое плюшевое кресло. Сколько раз она ни открывала шкаф, столько же раз она отодвигала кресло.
Но Кенникоту нравилось это кресло, а другого места в комнате для него не было.
Она толкнула кресло, рассердилась и поспешила скрыть досаду. Кенникот зевал все откровеннее. Воздух в комнате был застоявшийся, душный. Кэрол пожала плечами и начала болтать:
– Ты говорил о докторе Уэстлейке. Скажи, пожалуйста, хороший он все-таки врач?
– О да, он ловкая бестия!
«Ага! Вы видите, что между врачами нет соперничества. По крайней мере в моем доме!» – мысленно обратилась Кэрол к Гаю Поллоку.
Она повесила свою шелковую нижнюю юбку на крючок в шкафу и продолжала:
– Доктор Уэстлейк такой деликатный и такой ученый человек!
– Ну, я не сказал бы, что он такой уж образец учености. Он только пыль в глаза пускает. Ему хочется, чтобы люди думали, будто он все еще занимается французским, и греческим, и бог знает чем еще. На столе в приемной у него всегда красуется какая-то испанская книга, но мне сдается, что читает он больше детективные рассказы, как и мы, грешные. И вообще я не знаю, где он мог изучить такую уйму языков! Он всем дает понять, будто учился не то в Гарварде, не то в Берлине, не то в Оксфорде, а я заглянул в справочную книгу о врачах, и оказалось, что он окончил какой-то третьеразрядный колледж в Пенсильвании, и было это в незапамятные времена – в тысяча восемьсот шестьдесят первом году!
– Но важно другое. Он честный врач?
– Как ты понимаешь слово «честный»? Все зависит от точки зрения.
– Предположим, что ты заболел. Позвал бы ты его? Разрешил бы ты мне позвать его?
– Ну нет! Если бы я мог только рукой шевельнуть, я не допустил бы его к себе. Извините! На порог бы не пустил старого шарлатана! Не выношу его вечной манеры переливать из пустого в порожнее и подлаживаться к пациентам. Он еще годится, если нужно вылечить расстройство желудка или пощупать пульс у какой-нибудь истерички. Но я ни за что не позвал бы его при серьезном заболевании. Дудки! Ты знаешь, что я не люблю злословить, но все-таки… Честно скажу тебе, Кэрри: я никогда не мог простить Уэстлейку, как он лечил миссис Йондерквист. Ничего особенного у нее не было, ей просто нужен был отдых, а Уэстлейк ходил и ходил к ней несколько недель, а потом, конечно, послал ей огромный счет. Никогда ему этого не прощу. Так поступить с йондерквистами, почтенными, трудолюбивыми людьми!
В батистовом пеньюаре Кэрол стояла перед комодом, по привычке размышляя о том, как ей хочется иметь настоящий туалет с трельяжем, и, наклоняясь к неровному зеркалу и подняв подбородок, разглядывала крошечную родинку у себя на шее. В заключение она принялась расчесывать волосы. В такт взмахам гребенки она продолжала разговор:
– Но скажи, Уил, разве существует какая-нибудь борьба за сферы влияния между тобой, с одной стороны, и Уэстлейком с его компаньоном Мак-Ганумом – с другой?
Кенникот важно и грузно повалился в кровать и смешно брыкнул пятками, закутывая ноги в одеяло. Он проворчал:
– Боже сохрани! Я никогда не ставлю другому в укор, если он отобьет у меня какой-нибудь грош – конечно, честным путем.
– Но честен ли Уэстлейк? Не проныра ли он?
– Вот это ты удачно сказала. Именно проныра. Этот старик – настоящая лисица!
Кэрол увидела в зеркале усмешку Гая Поллока. Она покраснела.
Кенникот заложил руки под голову и зевал:
– Угу. Хитрая, очень хитрая бестия! Но я уверен, что зарабатываю не многим меньше, чем Уэстлейк и Мак – Ганум вместе, хотя никогда не старался хватать сверх моей законной доли. Если кто-нибудь предпочитает обращаться к ним, а не ко мне, это его дело. Но, должен сказать, меня злит, что Уэстлейк примазывается к Доусонам. Льюк Доусон бегал ко мне, что у него ни заболит – голова ли, пятка ли, – только время отнимал у меня по пустякам. А вот летом, когда у него гостила маленькая внучка и у нее от жары сделался понос или что-то в этом роде – мы с тобой в это время были в Лак-ки-Мер, помнишь? – Уэстлейк подъехал к мамаше Доусон и напугал ее до смерти, уверив, что у ребенка аппендицит. Они с Мак-Ганумом сделали операцию и сколько шума потом подняли: и что спайки-де они нашли ужасные, и что таких хирургов, как они оба, на свете больше нет, и что промедли они еще два часа, и у девочки началось бы воспаление брюшины. И бог знает что еще. А затем загребли на этом деле кругленьких полтораста долларов. Наверное, они представили бы счет на все триста, если бы не боялись меня. Я не жмот, но мне все-таки досадно, что приходится за полтора доллара давать Льюку советов на десять, а тут из рук уплывает полтораста! А уж я ли не делаю полостных операций лучше этих двух голубчиков!
Кэрол укладывалась в постель, а ее все время дразнила усмешка Гая. Кэрол продолжала расспрашивать:
– Но Уэстлейк умнее своего зятя, как ты находишь?
– Да, пусть Уэстлейк старомоден и все такое, но он все же не лишен интуиции, а Мак-Ганум – тот лезет всегда напролом и старается внушить пациентам, что они и вправду больны всем тем, что ему взбрело в башку. Знал бы свое место, занимался бы акушерством и не совался в терапевты. Право, он ничуть не лучше этой костлявой мозольной операторши, миссис Мэтти Гуч!
– А все-таки миссис Уэстлейк и миссис Мак-Ганум обе очень славные. Они чрезвычайно любезны со мной.
– А что, разве у них есть причины не быть любезными? О, они будут с тобой милы, но можешь побиться об заклад на свой последний доллар, что обе они все время хлопочут в пользу своих мужей, стараются расширить им практику. И я не вижу большой любезности в том, что, когда я окликаю на улице миссис Мак-Ганум, она в ответ кивает мне так, словно у нее шея распухла. Но все же о ней я не скажу худого. Вся беда в мамаше Уэстлейк, которая шныряет и пакостит без конца. Нет, я не стал бы доверять никому из этой уэстлейковской шатии, и если миссис Мак-Ганум кажется тебе искренней, ты никогда не должна забывать, что она дочка Уэстлейка. Так-то!
– А доктор Гулд? Он, пожалуй, хуже их обоих? У него такие вульгарные вкусы: пьет, играет на бильярде и вечно с фатовским видом дымит сигарой.
– Ну, тут нет ничего такого! У Терри Гулда не слишком изысканные удовольствия, зато он знает медицину, не забывай об этом ни на секунду!
Она усилием воли отогнала усмешку Гая и более спокойным тоном спросила:
– А честен ли он при этом?
– Ууууу-а! Черт, до чего я хочу спать!
Он зарылся в одеяло, сладко потянулся, потом словно выплыл из глубины и, покачав головой, жалобно произнес:
– О чем это ты? Кто? Терри Гулд-честен? Не смеши меня, я совсем засыпаю! Я не говорил, что он честен.
Я сказал только, что у него хватает смекалки заглядывать в указатель при «Анатомии» Грея, а Мак-Ганум и на это не способен. Но я и не думал говорить, что он честен. Какое там! Он подлый, как гадюка, и много раз подкапывался под меня. Он вздумал уверять миссис Глорбах (до нее от города семнадцать миль), что я будто бы отстал в акушерстве. Не много ему было от этого проку! Она сразу же прикатила и все сказала мне! Потом Терри – лентяй. Он скорее даст задохнуться больному воспалением легких, чем бросит партию в покер.
– Ах, что ты, я не могу поверить!..
– Я тебе говорю!
– Он много играет в покер? Доктор Диллон говорил мне, что Гулд предлагал ему сыграть…
– Диллон тебе сказал? Да откуда это ты знакома с Диллоном? Он без году неделя в городе.
– Он был с женой сегодня у мистера Поллока.
– Вот как, гм! Ну как они, по-твоему? Ты не нашла, что Диллон пустоват?
– Ничуть. Он показался мне неглупым. Я уверена, что он гораздо больше следит за последними достижениями в медицине, чем наш старый зубной врач.
– Ну, положим! Наш старик – хороший дантист. Он знает свое дело. А Диллон… я не советовал бы тебе слишком дружить с Диллонами. Поллоку они, может быть, и компания, это нас не касается, но мы…
– Почему? Ведь он тебе не конкурент?
– Да, само собой разумеется… – Кенникот совсем проснулся и смотрел воинственно. – Но он будет работать в контакте с Уэстлейком и Мак-Ганумом. По-моему, это они его сюда зазвали и устроили. Они будут посылать пациентов ему, а он, кого ни зацепит, будет направлять к ним. Не доверяю я тому, кто состоит в нежной дружбе с Уэстлейком. Дай только этому Диллону заполучить пациента, который недавно купил здесь ферму и явился в Гофер-Прери лечить зубы, увидишь, этот его пациент сразу же подастся к Уэстлейку и Мак-Гануму, можешь мне поверить.
Кэрол потянулась за блузой, висевшей на стуле у постели. Накинув ее на плечи, она села, опершись подбородком на руки и разглядывая Кенникота. Из передней в комнату проникал мутный свет от маленькой лампочки, и Кэрол видела, что Кенникот сердится.
– Уил, вот что… я должна это выяснить. Мне сказали, что в провинции врачи еще сильнее, чем в больших городах, ненавидят друг друга из-за денег…
– Кто это сказал?
– Это все равно.
– Даю голову на отсечение, что это твоя Вайда Шервин. Она умная баба, но с ее стороны было бы еще умнее помалкивать и не совать всюду свой нос.
– Уил! Уил! Это прямо ужасно! Мало того, что это вульгарно… но ведь как-никак Вайда Шервин – мой лучший друг. Даже если бы она это сказала, хотя в действительности это была не она…
Он пожал массивными плечами в нелепой розовой с зеленым пижаме. Потом сел в постели, раздраженно щелкнул пальцами и заворчал:
– Ладно. Не она, и черт с ней! Мне все равно, кто это сказал. Важно то, что ты этому веришь. Господи! Подумать только, что ты так плохо понимаешь меня!
Деньги!
«Это наша первая серьезная ссора!»– с болью подумала Кэрол.
Он протянул свою длинную руку и рванул со стула измятую жилетку. Достал из нее сигару, спички. Бросил жилетку на пол. Потом зажег сигару и яростно запыхтел. Сломанная спичка отлетела и ударилась о спинку кровати.
Эта спинка кровати вдруг показалась Кэрол могильным камнем любви.
Спальня была оклеена мрачными обоями и плохо проветривалась – Кенникот не позволял открывать окна настежь и «отапливать улицу». Спертый воздух как будто никогда не менялся. В полумраке оба они были похожи на два узла постельного белья с приставленными растрепанными головами.
– Я не хотела перебить тебе сон, милый! – примирительно произнесла Кэрол. – И, пожалуйста, не кури. Ты так много куришь! Постарайся уснуть. Мне очень жаль.
– Что тебе жаль, это хорошо, но я хочу сказать тебе два слова. Когда ты принимаешь на веру все, что бы ни сболтнули при тебе о зависти и соперничестве среди врачей, все это у тебя идет от одного. Ты всегда готова думать плохое о нас, бедных простаках из Гофер-Прери. Вся беда с женщинами вроде тебя в том, что вам всегда надо спорить. Вы не можете принимать вещи такими, какие они есть. Вам необходимо спорить. Так вот, я ни под каким видом не желаю обсуждать эту тему. Очень досадно, что ты нисколько не стараешься оценить нас по заслугам. Ты ставишь себя неизмеримо выше нас и считаешь Сент-Пол бог знает каким замечательным местом и все время хочешь, чтобы мы все делали по-твоему…
– Неправда! Я стараюсь, как могу. А они… А вы смеетесь и критикуете меня. Я должна приспособляться к здешним взглядам. Должна посвятить себя их интересам. А они моих интересов даже не понимают, не говоря уже о том, чтобы разделить их. Я прихожу в восторг от их излюбленного озера Минимеши и дачных коттеджей, а они прямо гогочут – что тебе очень нравится, – когда я говорю, что хотела бы также видеть Таормину.
– Что ж, Тормина… не знаю, где это, но, по-видимому, это какое-нибудь дорогое дачное место для миллионеров. В этом вся суть: вкусы на шампанское, а доходы на пиво! Будь уверена, наших доходов никогда не хватит больше, чем на пиво. Да!
– Ты, может быть, намекаешь на то, что я неэкономна?
– Ну, я этого не имел в виду, но раз ты сама завела об этом речь, то можно отметить, что счета от бакалейщика вдвое больше, чем следовало бы.
– Да, так оно, верно, и есть. Я неэкономна. Я не могу быть экономной. Благодаря тебе!
– Это еще с какого потолка ты взяла?
– Пожалуйста, не надо просторечий, вернее, просто грубостей.
– Я буду говорить так как мне нравится. Откуда ты взяла это «благодаря тебе»? Год назад ты наскочила на меня за то, что я забыл дать тебе денег. Что же, я признаю разумные доводы. Я не бранил тебя и даже сказал, что сам виноват. Ну так вот: с тех пор я хоть раз забывал?
– Нет. С тех пор не забывал. Но дело не в этом. Мне нужна определенная, регулярная сумма. Я настаиваю на этом! Строго определенная сумма на каждый месяц.
– Недурно придумано! Доктор, конечно, всегда регулярно получает определенную сумму! Именно! В один месяц – тысяча, а в другой – рад, если сколотишь сотню.
– Хорошо! В таком случае какой-нибудь определенный процент. Или что-нибудь в этом роде. Как бы ни колебался твой заработок, можно приблизительно исходить из среднего…
– Но какой в этом смысл? Куда ты, собственно, гнешь? Неужели я так нечестен и скуп, что надо связать меня контрактом? Ей-богу, это обидно! Я всегда охотно давал тебе деньги и не скупился. Иной раз говорю себе: «Вот она обрадуется, когда я дам ей эти двадцать долларов… или там пятьдесят». А теперь оказывается, что ты хочешь превратить это в какие-то срочные платежи. Я, как дурак, воображал, что даю более чем достаточно, а ты…
– Пожалуйста, перестань жалеть себя! Тебе доставляет удовольствие чувствовать себя обиженным. Я согласна со всем, что ты говоришь. Вполне! Ты давал мне деньги и щедро и предупредительно. Совсем как если бы я была твоей содержанкой!
– Кэрри!
– Да, да! То, что было жестом величественного благородства для тебя, для меня было унижением. Ты давал мне деньги, как давал бы их своей содержанке, если она была благосклонна к тебе, и тогда ты…
– Кэрри!
– Не прерывай меня!.. И тогда ты считал бы себя… свободным от всяких обязательств. Так вот, с этого дня я отказываюсь принимать твои деньги как подарок. Или я твой компаньон и веду домашнее хозяйство с определенным бюджетом, или я ничто. Если же я содержанка, то уж я сама выберу себе любовника. Я ненавижу… ненавижу эти улыбочки и выклянчивание денег, которые я не могу даже истратить, как содержанка, на бриллианты, ибо должна покупать на них тебе же носки и сковороды! В самом деле! Ты щедр: даешь мне доллар – прямо: на, бери! – с единственным условием, чтобы я купила на него тебе же галстук! И даешь этот доллар тогда, когда тебе угодно. Как же мне не быть неэкономной?
– Да, конечно, если смотреть так…
– Я не могу закупать продукты большими количествами, должна держаться лавок, где отпускают в кредит, не могу рассчитывать вперед, так как не знаю, сколько у меня будет денег. Вот чем я плачу за твое восхитительное представление о собственной щедрости! Ты заставляешь меня…
– Погоди! Погоди! Ты сама знаешь, что преувеличиваешь. Все эти глупости про содержанку ты только что придумала. И тебе никогда не надо было «улыбочками выклянчивать деньги». Но в остальном ты, может быть, и права. Ты должна вести хозяйство, как коммерческое дело. Завтра я составлю подробный план, ты будешь получать определенную сумму или процент и будешь иметь свой текущий счет в банке.
– О, вот это мило с твоей стороны!
Она повернулась к нему, стараясь быть ласковой. Но в пламени спички, которой он зажигал потухшую зловонную сигару, она увидела покрасневшие злые глаза. Он опустил голову, и под подбородком собралась жирная, покрытая светлой щетиной складка.
Кэрол сидела не двигаясь, пока он не прохрипел:
– Нет! В этом нет ничего милого. Это просто справедливо. И видит бог, я хочу быть справедливым. Но я требую справедливости и от других. А ты так горда и так свысока смотришь на всех! Возьмем Сэма Кларка: добрейшая душа, честный, преданный и отличный товарищ…
– Да, и прекрасно бьет уток, не забудь этого!
– Ну что же, и прекрасный стрелок в то же время. Сэм заходит посидеть вечерком, и только потому, что он не зажигает сигару, а просто перекатывает ее во рту да иногда сплевывает на пол, ты смотришь на него, как на свинью. Ты этого не знаешь, но я наблюдал за тобой и надеюсь, что Сэм не заметил, но я-то всегда вижу!
– Да, у меня бывало чувство брезгливости. Плевать – брр! Но мне жаль, что ты отгадал мои мысли. Я старалась быть с ним любезной и скрывала их.
– Я, может быть, вижу гораздо больше, чем ты думаешь!
– Охотно верю.
– А знаешь, почему Сэм не зажигает сигары, когда бывает у нас?
– Почему?
– Он страшно боится обидеть тебя курением. Ты нагнала на него страху. Стоит ему заговорить о погоде, как ты заводишь про Готе, или… как его? – Гете, или о каких-нибудь таких высоких материях, отлично зная, что это не по его части. Он так оробел, что почти никогда и не заглядывает.
– О, мне очень жаль! Но я уверена, что теперь преувеличиваешь ты.
– А по-моему, нисколько! И скажу тебе одно: если будет так продолжаться, ты разгонишь всех моих друзей.
– Это было бы с моей стороны отвратительно. Ты знаешь, что я не хочу… Уил, да чем же я, собственно, пугаю Сэма?.. Если только это на самом деле так.
– Очень просто. Когда он приходит, то вместо того, чтобы положить ноги на другой стул, расстегнуть жилетку и рассказать мне крепкий анекдотец или пошутить о чем-нибудь, он сидит на краешке стула, старается вести разговор о политике и не смеет даже выругаться. А если он хоть изредка не выругается, он чувствует себя скверно!
– Другими словами, он чувствует себя скверно, если не может вести себя, как мужик в грязной лачуге?
– Ну, довольно об этом! Ты хочешь знать, чем ты его отпугиваешь? Во-первых, ты нарочно задаешь ему вопросы, на которые ему никак не ответить, – всякому дураку ясно, что ты над ним просто издеваешься, – а потом ты шокируешь его разговорами о содержанках и тому подобном, вот как сейчас…
– О, конечно! Целомудренный Сэм лично никогда не упоминает о таких заблудших леди!
– Во всяком случае, не в присутствии дам. Головой ручаюсь!
– Итак, непристойно не уметь притворяться, что…
– Знаешь, не будем вдаваться в психологию и всякие такие дебри. Я говорю, что, во-первых, ты шокируешь его, а затем ты так перескакиваешь с предмета на предмет, что никому не угнаться за тобой. То ты хочешь танцевать, то барабанишь на рояле, то становишься чернее тучи и не желаешь даже разговаривать. Если у тебя так меняются настроения, то не можешь ли ты предаваться им наедине с собой?
– Ну, дорогой мой, я ничего так не хочу, как побыть иногда наедине с собой! Иметь отдельную комнату! Ты, по-видимому, находишь, что я могу сидеть тут, и деликатно мечтать, и предаваться моим «настроениям», когда ты вваливаешься из ванной с намыленной физиономией и орешь: «Где мои коричневые штаны?»
– Хм!
Ее слова, по-видимому, не произвели особого впечатления. Кенникот больше ничего не ответил. Он слез с кровати, гулко шлепнув ногами о пол. Потом вышел из комнаты – смешная фигура в мешковатой пижаме. Она слышала, как в ванной он набирал воду, чтобы напиться. Она была возмущена его пренебрежением, съежилась в постели и, когда он вернулся, смотрела в другую сторону. Он не обратил на нее внимания. Бухнувшись в кровать, он зевнул и словно невзначай заметил:
– Ладно. Когда выстрою новый дом, сможешь уединяться сколько захочешь.
– Когда это будет!
– Придет время, построю. Не беспокойся! Но, конечно, благодарности я за это не жду.
Теперь она произнесла: «Хм!» Она вдруг почувствовала себя сильной и независимой, соскочила с постели, выудила из картонки для перчаток в правом верхнем ящике комода одинокую окаменевшую шоколадку, раскусила ее, почувствовала кокосовую начинку, пробормотала: «Черт!» – и тут же пожалела, что у нее вырвалось это слово, лишившее ее превосходства над мужем с его вульгарными выражениями. Она швырнула шоколадку в мусорную корзинку, где та злобно и насмешливо зашуршала среди рваных полотняных воротничков и коробок из-под зубного порошка. Затем Кэрол, исполненная трагизма, с великим достоинством возвратилась в постель.
Все это время Кенникот продолжал рассуждать о том, что он ни за что не ждет благодарности. А она думала о том, что он «деревенщина», что она ненавидит его, что было безумием выйти за него замуж, что она сделала это только потому, что устала работать, что пора отдать в чистку длинные перчатки, что она больше ничего не сделает для него и что надо не забыть про кукурузу ему на завтрак. Но вдруг его слова заставили ее снова прислушаться. Он бушевал:
– Дурак я, что думаю о новом доме! Пока я его выстрою, ты, верно, успеешь рассорить меня со всеми моими друзьями и со всеми пациентами.
Она разом села и холодно сказала:
– Очень благодарна тебе за откровенно высказанное мнение. Если это выражает твои чувства ко мне, если я такая помеха для тебя, я не могу оставаться ни минуты под этой крышей. Я вполне способна зарабатывать себе на жизнь. Я сейчас же уйду, и, раз тебе так хочется, ты можешь получить развод! Тебе нужна не женщина, а кроткая корова, которая с удовольствием слушала бы и смотрела, как твои любезные друзья разговаривают о погоде и плюют на пол!








