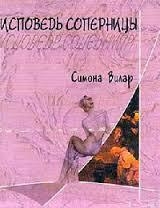
Текст книги "Исповедь cоперницы"
Автор книги: Симона Вилар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Самолет мягко, словно ему именно сюда и надо [26] было, выкатился на край обрыва и остановился.
Впереди поблескивала река.
– Ну вот и все, – сказал летчик, будто и не было у него никакого страха и не от волнения покрылось
капельками пота лицо.
– В самом деле все получилось просто, – так же спокойно ответил Смушкевич, но прежде, чем пожать
летчику руку, старательно вытер о комбинезон вдруг взмокшую ладонь. – Молодец! Будешь летать!
Может, он был даже слишком рискованным, озорным в небе, этот молодой комбриг. Таким был на земле, таким оставался и в небе.
Уже не первый месяц в бригаде шло упорное соревнование между эскадрильями. Эскадрилья Медянского
пока была на первом месте, обогнав всех по технике пилотирования. Но сегодня ей предстояла
решающая встреча на ночных полетах с эскадрильей Б. Туржанского.
И для тех и для других это – новое дело. Летать ночью стали недавно. Правда, витебцы раньше других, но все равно опыта маловато.
В стороне блеснули фары автомобиля, и только по ним летчики догадываются: приехал комбриг. Не в его
правилах вмешиваться в распоряжения командира эскадрильи, и, чтобы не смущать его своим
присутствием, он располагается в стороне.
Присев на подножку своего «газика», он беседует с пилотами. Вскоре вокруг него образуется плотный
оживленный кружок. Говорили, что, когда Смушкевич на аэродроме, шума моторов не слышно: его
заглушают взрывы смеха возле машины комбрига.
Слушая веселые шутки, вглядываясь в лица, Смушкевич ловил себя на том, что, наверное, многое отдал
бы за то, чтобы знать, как сложится жизнь каждого из них дальше. [27]
Вот того, например, только что прибывшего из училища, Чучева...
...Спустя много лет генерал-полковник Чучев откроет альбом и, найдя в нем пожелтевшую фотографию, скажет:
– Вот я тогда, второй слева. После тех полетов снимались. Да, много воды утекло.
Или старательного Будкевича, чей характерный белорусский выговор помогает легко отыскать его в
темноте.
...Пройдет время, услышав гул самолета в небе, рванется с больничной койки к окну поседевший
Будкевич и скажет:
– Врачи летать запретили. На аэродроме устроился. Все-таки возле самолетов. И бензин. Привык я к его
запаху. Не могу без него. А они, чудаки, мне свежий воздух рекомендуют. В постель уложили. Чудаки.
Если бы вдруг время ускорило свой бег, то перед взором комбрига, словно кинокадры, пронеслись бы
страницы жизни каждого из тех, кто сейчас рядом с ним.
Все это будет еще не скоро. А пока идут ночные полеты. Одна эскадрилья сменяет другую, и комбриг не
уходит с аэродрома.
Наутро свежий, бодрый, словно и не было бессонной, беспокойной ночи, потому что именно такие ночи, среди своих, в заботах о деле, и вливали в него эту бодрость, он вошел в столовую, где завтракали
летчики.
– Подведем итоги, – сказал он. – Быть хорошо подготовленным сейчас к войне – это главное.
Эскадрилья товарища Туржанского в этом отношении выглядит лучше других. Первое место за ней. Но
наступление на боевую подготовку продолжается. [28]
Те, кому не повезло в этот раз, могут еще взять свое.
Наступление продолжалось... И, как во всяком наступлении, были потери.
Есть командиры, принимающие потери на пути к цели как неизбежное. Смушкевич тоже шел к цели, но и
одной человеческой жизни не хотел оставлять на этом пути.
Когда в квартире комбрига раздавался один короткий звонок – словно тому, кто был за дверью, совсем
не хотелось звонить, не хотелось, чтобы его видели, не хотелось замечать сочувственных глаз жены и
притихших детей (но что поделаешь, если он всегда теряет ключи!), – все уже знали: случилось
непоправимое. Ведь, если все хорошо, звонок был призывным, долгим. Тогда навстречу отцу выбегали
дочки. Старшая, Роза, и совсем еще маленькая Ленинка бросались помогать ему раздеваться. Это было их
любимое занятие. Особенно зимой, когда после долгих усилий удавалось стянуть с него унты. При этом
все весело возились на ковре.
Но сейчас звонок был коротким. Смушкевич вошел молча. Снял шинель и, ни слова не говоря, ушел к
себе. Домашние знали, что теперь он долго будет лежать, не раздеваясь, спрятав голову под подушку.
В квартире наступала тишина.
О чем думает он в эти часы, оставшись один на один с собой?
Наверное, клянет себя, что не уберег товарища, что не успел научить его всему, что спасло бы ему жизнь, что плохой он командир, если гибнут у него еще летчики, а он ничего не в силах сделать, чтобы быстрее
пришла в авиацию совершенная техника. И это бессилие было тяжелее всего...
За окном догорал день, и комнату заполнил полумрак. [29] Солнечным лучам с трудом удавалось
пробиться сквозь листву разросшихся деревьев, и лишь кое-где на полу и стенах вздрагивали маленькие
«зайчики». Гулко напоминали о себе часы...
Нет людей неошибающихся. И он меньше всего относил себя к их числу. Хотя его никто ни в чем не
обвинял, сам себе он скидок не делал. Знал, что все-таки виноват. Виноват, что, быть может, не
предусмотрел всего, а командир обязан быть втрое зорче. Думал, что можно перескочить через
второстепенные на первый взгляд кое-какие летные упражнения, чтобы поскорее взяться за главное —
боевую подготовку. Ведь так неспокойно стало в мире...
А утром снова аэродром.
– Товарищ комбриг, – окликнул его техник Плоткин, – готово!
– Что готово?
– О чем говорили.
– Электрифицировали старт? Молодцы! Ну показывайте, что вы там придумали...
На старте Смушкевич не увидел привычных фонарей «летучая мышь», которыми в ночное время давался
сигнал к взлету. В бригаде давно думали над тем, как избавить летчиков от них. Малейшая
неосторожность с огнем грозила бедой. И вот теперь Плоткин показывал комбригу стартовый светофор.
Кнопки, провода, лампочки – все просто и безопасно.
– Это то, что нам нужно, – сказал комбриг, осмотрев прибор. – Только вот что... Надо сделать так, чтобы о нем знали и соседи. Мы ведь монополии устанавливать не собираемся. Верно?
– Точно, – обрадованно согласился Плоткин.
– Ну вот и отлично. Подготовьте быстренько описание с чертежами. Пошлем в округ. [30]
Витебский светофор приняли во всех частях Военно-Воздушных Сил.
«Награждаю старшего техника Плоткина за проведенную большую рационализаторскую работу в
бригаде и изобретение светофора для ночного освещения старта...»
В Москве, в квартире на Гоголевском бульваре, этот отпечатанный на машинке приказ комбрига
Смушкевича и по сей день хранят как драгоценную реликвию.
Неподалеку от аэродрома в старинном парке на берегу Двины стоял особняк. Раньше он принадлежал
какому-то графу. Смушкевич давно уже поглядывал на него. Ведь это было идеальное место для
задуманного им ночного санатория. Оставалось только убедить окружном и горсовет передать его
летчикам.
Машина, в которой Смушкевич направлялся в город, вдруг резко затормозила. Видно, опять забарахлил
мотор.
– Надолго? – он посмотрел на огорченного шофера и понял, что, видно, надолго. – Ну, не
расстраивайтесь. Погода сегодня отличная.
Он любил ходить пешком. Такие минуты выдавались редко. Можно спокойно, не торопясь, подумать.
Ходил широким легким шагом, чуть наклонясь вперед. Походка осталась от того времени, когда работал
грузчиком. Сколько лет прошло, а держится походка... Да и сила тоже. Он мог не спать несколько ночей
кряду, вызывая удивление всех. И всегда оставался бодр и свеж. Здоровыми, бодрыми хотел он видеть и
своих летчиков.
...В небе послышался знакомый рокот мотора. Смушкевич посмотрел вверх. Там, растягивая дымчатый
шлейф, настойчиво полз ввысь самолет. Он [31] уже превратился в совсем маленькую точку, но взбирался
все выше.
Ведь вон на какую высоту летать стали! Еще год назад никто бы не поверил, а сейчас почти на семь
километров забираемся. И это не предел. Новая техника приходит. Будем летать еще выше. И на плечи
летчиков лягут дополнительные нагрузки... А санаторий просто необходим. Перед полетом ничто не
должно волновать летчика. Он должен быть абсолютно спокойным, отдохнувшим, собранным.
Не заметил, как подошел к зданию окружкома.
– Привет покорителям небес! – добродушно улыбаясь, приветствовал его секретарь. – Можешь не
беспокоиться. Отдаем вам особняк. И сад бери. Пусть отдыхают твои летчики на здоровье. Только
летайте...
Ночной санаторий стал его гордостью. О нем он заботился непрестанно.
О том, как отдыхают летчики, ему каждый день докладывал бригадный доктор. Невысокий, плотный
Зитилов уже много лет врачевал в Витебской бригаде. К нему привыкли, его считали своим в домах
летчиков. Большими друзьями они были с комбригом. Однако дружба дружбой, а когда в котле с супом
обнаружился крохотный обрывок веревки, он устроил Зитилову такой разнос, что тот помнит и по сей
день.
Не было для Смушкевича мелочей, когда дело касалось летчиков. Однажды зимой начальник
хозяйственной части рано утром развез на квартиры летчиков отличные сухие дрова взамен тех, что
выдал накануне. Потом причина такой заботы стала ясна. Смушкевич, вышедший наколоть дров, увидел
у соседа покрытые ледяной коркой поленья. Значит, у него сухие, а у всех вот такие, мерзлые.
Немедленно заменить! [32]
О том, что он долгое время жил в одной комнате, потому что всегда находился кто-нибудь из вновь
прибывших, кому он уступал свою квартиру, знала вся бригада.
– У них семья большая, – говорил он в таких случаях жене. – Потерпи еще немного, будет и у нас
квартира.
– Когда ты был политруком, мы жили лучше, чем сейчас, – возмущалась жена. – Ну, что ты молчишь?
Нет, сил моих больше не хватает... Беру детей и уезжаю к маме...
Он лишь молчал в ответ, бросая изредка укоризненные взгляды на жену.
– Ладно, покажи свою обновку. . – невозмутимо, словно ничего не произошло, наконец произнес он.
– Завтра увидишь! – почему-то замялась она.
– Почему же завтра? Мне не терпится посмотреть твою новую шубу, ты так давно мечтала о ней.
– Сейчас уже поздно, – отнекивалась Бася Соломоновна.
– Посмотри-ка на меня, – попросил Смушкевич.
– Ну что? – по-прежнему отворачиваясь, спросила жена. – Ну не купила я ее. Не нравится она мне. Да
и вообще, зачем мне шуба?..
– Вот те раз... А я-то думал... И чего это ты вдруг? – притворно недоумевал он, хотя знал уже, что она
опять отдала свой ордер (тогда промтовары выдавали по ордерам).
– Ну отдала. Ты бы посмотрел на ее пальто!
– Да разве я что говорю? Просто хотелось свою жену в шубе увидеть. Наверное, здорово тебе пошла бы,
– улыбаясь, продолжал Смушкевич. [33]
– Да уж как же! Знаю я тебя.
– А я тебя...
Вскоре на берегу Лучесы, там, где раньше был пустырь, вырос большой городок летчиков. И первые
дома вместе со всеми строил комбриг. Сажал деревья в большом саду, что раскинулся на краю городка.
И любил лазать на деревья... Кто-то сказал, что странности людей придают их облику черты
неповторимой индивидуальности. Может, это действительно так.
Смушкевичу доставляло истинное наслаждение обмануть бдительность сторожа, перелезть через забор
и, взобравшись на дерево, набить полную пазуху яблок. Потом он угощал ими поджидавшую его жену и с
удовольствием ел сам. Ел с аппетитом, с хрустом вонзая в яблоко крепкие, ослепительно белые зубы.
Но старика сторожа провести было не так-то просто. Он уже давно догадался, кто лазит к нему в сад. И, будто невзначай встретив комбрига с женой, жаловался: лазят там какие-то пацаны по деревьям. Разве их
поймаешь?
Смушкевич улыбался. А старик, глядя ему вслед, ворчал в бороду:
– Командир, а как дитя малое...
– Вот бы ему поймать тебя, знал бы тогда, – выговаривала Смушкевичу жена.
– Ничего, это полезно. Тренировка перед прыжками с парашютом, – отшучивался он. – Ведь учиться
еду.
Учиться Смушкевич уехал в знаменитую авиационную школу имени Мясникова в Каче. Надо же было
наконец получить официальный диплом летчика. Здесь он вновь встретился с Кушаковым. Василий
Антонович был начальником школы. [34]
– У меня, Яша, без скидок на знакомство, – поздоровавшись, сказал Кушаков. – Придется выполнять
все...
– И с парашютом прыгать заставишь? – пряча улыбку, спросил Смушкевич.
– А как же? – всерьез приняв его вопрос, удивился Кушаков.
– Ну вот и отлично, – вспомнив свои походы в сад, рассмеялся Яков Владимирович. – Я-то боялся —
не придется. А поблажек, дорогой Василий Антонович, не надо. Не затем приехал. Время дорого. На
поблажки расходовать жаль.
Школу он закончил досрочно. И с дипломом летчика вернулся в Витебск.
Здесь его ждала прибывшая из Москвы комиссия, в состав которой входил Чкалов.
В своей неизменной кожаной куртке Чкалов сидел на траве и, нетерпеливо покусывая стебелек какого-то
цветка, наблюдал за полетами. Потом ему, видно, надоедало на земле и, забравшись к кому-нибудь в
самолет, он улетал. А вернувшись, довольно улыбаясь и по-волжски окая, говорил Смушкевичу:
– Хорошо у тебя ребята летают.
И тот, стремясь скрыть свою радость от того, что все идет хорошо, отвечал:
– Да, летают ничего...
– Ну, ты не скромничай, – перебивал его Чкалов. – Летают что надо.
Бригада заняла первое место в округе, а эскадрилья Бориса Туржанского стала первой в Военно-
Воздушных Силах страны. Первенства не отдавали много лет.
То, что в Витебской бригаде умеют не только летать, показали маневры 1936 года. Бригада должна [35]
была нанести удар по аэродромам «синих». План операции готовил весь штаб. Но в нем ясно проступало
то, что всегда отличало Смушкевича, – дерзость решений, смелость мысли и точность расчета.
– Чтобы достичь максимального эффекта, для нанесения удара надо выбрать такое время, когда на
аэродроме находится больше всего самолетов противника, – говорил Смушкевич.
К аэродрому «синих» витебцы подошли, скрывшись за облаками. Был тот особенный, наверное, самый
тихий в природе час, когда день уже угасает, но вечер еще не начался. По пути им не встретился ни один
самолет «противника». Но когда перед самым аэродромом вынырнули из-за облаков, их заметили.
Открыли огонь зенитки. Забегали у машин летчики.
Смушкевич ожидал этого. Больше того, он знал, что там, на аэродроме, летчики одной с ним школы. Хоть
и «синие», а свои. Их, конечно, не обескуражит его внезапное появление. И потому пошел на хитрость.
Специально отвлек внимание на себя. А в это время из-за леса с противоположной стороны на аэродром
«синих» выскочили самолеты Гомельской бригады, которой командовал брат командира эскадрильи
витебцев Александр Туржанский. Они накрыли «синих» дымовой завесой. Вот тогда-то и обрушили свой
удар витебцы. Аэродром «противника» был разгромлен. А спустя несколько часов посредники сообщили
в штаб маневров, что самолеты витебцев появились над другим аэродромом «синих».
Они подошли незаметно и, появившись над целью, зажгли все огни. Тогда стал виден четкий строй, в
котором атаковали «противника» самолеты. Затем огни погасли. Самолеты словно растворились во тьме, а может, ушли вовсе. Но через несколько минут они вновь обрушивали на голову «противника» [36] удар.
Невидимые с земли, они были полными хозяевами в небе.
В штабе маневров Смушкевича тепло поздравил Уборевич.
– Пойдемте, представлю вас нашим гостям, – упирая на последнее слово и пряча за стеклами пенсне
усмешку, сказал Уборевич.
Немного поодаль у деревьев стояла большая группа военных. Некоторые были в форме иностранных
государств.
– Командир Витебской бригады, – представил Смушкевича Иероним Петрович.
– О, ваш ночной полет был просто великолепен, – восторженно пожимая Смушкевичу руку, сказал
итальянский генерал.
– Это было колоссально... – подтвердил англичанин.
– Однако я должен вам сказать, господин Смушкевич, что в этой истории с дымовой завесой вы
поступили не по-рыцарски, – стремясь явно поддеть его, заметил, улыбнувшись, французский атташе.
– А у нас есть одно правило, которое мы стремимся всегда выполнять, – вежливо улыбнувшись, заметил Смушкевич и, выдержав короткую паузу, отпарировал: – Уничтожать противника всеми
средствами и везде, где застанем.
Прошло немного времени, и в прозрачном московском небе Смушкевич готовил своих витебцев к параду
над Красной площадью. Но уже знал, что в параде участвовать ему не придется, что совсем скоро ему
летать в небе другой страны, ведя самолеты не на парад, а в первый в его жизни воздушный бой. [37]
В грозовых облаках...
В конце октября 1936 года в кабинете командующего авиацией республиканской Испании майора
Сиснероса раздался телефонный звонок. Сиснерос снял трубку и услышал голос дежурного по аэродрому
в Альбасете.
– Только что произвел посадку «Дуглас» из Парижа, – докладывал дежурный.
– Хорошо, что прорвался, – обрадованно заметил командующий. – А кто прилетел?
– Дуглас, – ответил дежурный.
В кабинет вошел советский военно-воздушный атташе полковник Свешников.
– Я понимаю, что «Дуглас», – на строгом лице Сиснероса появилась улыбка. – Я спрашиваю, кто
прилетел на этом «Дугласе»?..
– Дуглас, – опять повторил дежурный.
– Дуглас?! Ну ты, брат, или забыл испанский язык, или пьян, – перестав улыбаться и раздражаясь, проговорил Сиснерос. – Я тебя спрашиваю...
Он не кончил фразу, увидев смеющееся лицо Свешникова, удивленно посмотрел на него.
– Ты от него ничего не добьешься. Я тебе сейчас все объясню, – ответил Свешников. – Дуглас скоро
будет здесь.
Спустя немного времени оба увидели входящего в кабинет широкоплечего, выше среднего роста
человека в темно-коричневой кожаной куртке и темно-синих брюках. Он был похож на испанца: такое же
смуглое лицо с живыми карими глазами. Они сразу обращали на себя внимание. Казалось, где-то в
глубине их затаились искорки задорного смеха и, если бы не официальность обстановки, человек сейчас
бы [38] рассмеялся, довольный тем, что, несмотря на трудности перелета, он все-таки здесь.
И, глядя на него, Сиснерос не мог сдержать улыбки. Словно прожилки слюды в куске гранита, она
заискрилась на его угловатом, будто высеченном из твердого камня лице.
– Я рад вашему приезду, камарадо Дуглас, – сказал Сиснерос, идя к нему навстречу. Они обменялись
крепким рукопожатием. – Как летели?
– Все обошлось как нельзя лучше. Долетел, – коротко ответил Дуглас. Так теперь звали Я. В.
Смущкевича.
Когда стало известно, что он едет, его пригласил к себе Уборевич.
– Ну вот, Яков Владимирович, теперь уже не маневры, а настоящая война ждет тебя. – Как всегда
аккуратный, подтянутый, Иероним Петрович неторопливо прохаживался по кабинету, заложив руки за
спину. Он как бы размышлял вслух, и от этого все произносимое им приобретало особый смысл.
– Настоящая война, – повторил Уборевич. – Такой мы еще не видали. И Германия и Италия тут
постараются испробовать все. И тактику новую, и новую технику, и, думаю, не постесняются одеть в
испанские мундиры как можно больше своих офицеров. Для них это прежде всего школа... Школа
подготовки к другой, главной войне.
Уборевич остановился возле карты и долго вглядывался в Пиренейский полуостров, словно хотел
разглядеть скрытую за тысячами километров Испанию.
– Тяжело там сейчас. Противник сильный, – Иероним Петрович опустился в кресло напротив
Смушкевича и, наклонившись к нему, мягко произнес: – Ты помни об этом. Не думай, что все уже [39]
знаешь. Ведь не воевал же еще. Про гражданскую знаю... Но это только как крещение, чтоб человек к
свисту пуль привык... Там совсем иная война... А потому учись, – он кивнул в сторону карты. —
Учиться ни у кого не зазорно. Важно, какие выводы человек из учения делает и чему служат его знания.
Присмотрись ко всему. Все взвесь. Не горячись.
Всегда сдержанный, производивший на некоторых даже впечатление холодного человека, Уборевич был
сейчас заметно взволнован. Смушкевич еще никогда не видел его таким. Волнение охватило и его.
Только сейчас он понял, как много значит для него этот человек.
Уборевич протянул ему руку.
– Помни. Воевать надо умеючи. Ну, до встречи.
Он крепко тряхнул ему руку. Словно стесняясь чего-то, они в нерешительности постояли минуту-другую
и обнялись.
И вот теперь Смушкевич с трудом привыкал к мысли, что он в кабинете командующего военно-
воздушными силами республиканской Испании, что этот уже успевший изрядно поседеть майор
называет его чужим именем – Дуглас.
– Вам придется нелегко, – слова командующего прервали воспоминания. – На знакомство времени
мало. Обстановка весьма напряженная. – Он подошел к карте.
– Положение на фронте очень тяжелое. Войска мятежников непрерывно продвигаются вперед.
Несколько дней назад, 18 октября, им удалось выйти к первому поясу мадридских укреплений, и сейчас
бои идут на самых ближних подступах к столице.
Карандаш в руках Сиснероса, за которым не отрываясь следил Смушкевич, остановился у края
прямоугольника, обозначавшего на карте Мадрид. [40]
Можно было и не переводить. Все понятно и так.
– Со второй половины августа авиация мятежников непрерывно бомбит Мадрид, – продолжал
Сиснерос. – А мы ничем не можем ему помочь.
Страшным, кровавым стало испанское небо. О нем написано немало страниц. Его запечатлела кисть
художника на бесчисленных полотнах. Темно-голубое, оно смотрит с картин Веласкеса, почти черное на
полотнах Рибейры, сумрачным, суровым показал его Гойя. Михаил Кольцов увидел его бездонным и
прозрачным и с горечью заметил: «Жаль, что оно такое!»
Весь мир уже знал о произнесенной ранним июльским утром фразе: «Над Испанией безоблачное небо», давшей сигнал к тому, чтобы небо Испании надолго перестало быть просто небом. Теперь оно было
пространством, где летают самолеты и откуда грозит смерть.
Страшным стало небо Испании. И делалось тем страшнее, чем чище и безоблачней становились его
просторы. Вот почему не радость и поэтический восторг вызвал его безмятежный вид у Михаила
Кольцова. Он знал – а впрочем, это было известно всем, – что, раз оно такое, жди самолетов врага.
Они не заставляли себя ждать. Сотни килограммов бомб обрушивались ежедневно на Мадрид.
– У нас и до мятежа авиации современной, можно сказать, не было. – Сиснерос отошел от карты и сел
рядом с Дугласом. – «Ньюпоры» конца мировой войны, «Бреге», «Потезы». Но и этого сейчас не
хватает.
– Да... У них достаточно и новейшей техники... – заметил Свешников. – И летают-то в основном
немцы и итальянцы... [41]
– Ваши летчики делают настоящие чудеса, – сказал Сиснерос. – Ведь им приходится воевать на
непривычных для них машинах, да еще на таких безнадежно устарелых... Но уж когда в их руки попадает
что-нибудь поновее – тут для них невозможного нет...
– К сожалению, у нас пока еще очень мало новых самолетов, – добавил Свешников. – Германия и
Италия рядом, а нам вон откуда надо добираться...
– Самое главное для нас – это прикрыть Мадрид. Избавить его от бомбежек. А для этого нам
понадобится авиации во много раз больше, чем у нас есть, – задумчиво произнес Сиснерос.
Стройный, крепкий Сиснерос был лет на десять старше Смушкевича. Одет он был, как и все летчики.
Лишь по металлическим полоскам на груди можно было узнать его чин. Держался он просто,
непринужденно, но за каждым его словом чувствовалась культура изысканно воспитанного человека.
Смушкевич вспомнил все, что знал о Сиснеросе, о чем рассказывали ему по пути испанские товарищи.
Наследственный гранд, потомок вице-королей Аргентины, офицер, перед которым открывалась
блестящая карьера, накануне мятежа он, военный атташе в Италии и Германии, не колеблясь, стал на
сторону республики и принял на себя командование ее пока еще почти не существующими военно-
воздушными силами. В один из дней, когда фашисты особенно яростно рвались к Мадриду, а его приказ
гласил: «Пусть вылетит истребитель», и в небо смог подняться один-единственный оставшийся в его
распоряжении целый самолет, в этот самый трудный для него день Игнасио Идальго де Сиснерос вступил
в коммунистическую партию. [42]
Смушкевич тоже вступил в партию в самое трудное для своей родины время. Но путь его был иным. Сын
портного, заброшенного войной на далекую северную станцию Няндома, он стал там рабочим в пекарне.
Катал тяжелые бочки, колол дрова, бегал за шкаликами, выметал мусор и получал подзатыльники. А
выдавалось немного свободного времени – читал, спрятавшись в укромный уголок между мешками с
мукой. Тогда у него еще не было любимых книг, и он брался за все, что попадалось под руку. Читал с
каким-то упорством. У него стало правилом: какой бы трудной и непонятной ни казалась вначале книга, обязательно дочитывать ее до конца. И это правило – доводить до конца задуманное – он сохранил
навсегда. А потом, когда подрос и начал понимать, о чем говорят не только книги, но и жизнь, нашел свой
правильный путь. Было это в сентябре 1918 года в уже по-зимнему холодной Вологде. Тогда Яков
Смушкевич, шестнадцатилетний парнишка, стал большевиком.
И вот теперь – «Гренада, Гренада, Гренада моя» – возникла в памяти строчка стихотворения. Теперь
она действительно становилась его, эта земля, и защищать ее надо было так же, как и ту, в
восемнадцатом...
– Ну, ладно. Хватит на сегодня о делах. Я оказался не очень гостеприимным хозяином. Для испанца это
тяжкий грех. – Сиснерос мягко улыбнулся. – Даже не угостил гостя...
Он достал из шкафчика, стоявшего в углу комнаты, темную бутылку и налил в бокалы искрящееся
золотистое вино.
– За счастливый приезд, камарадо Дуглас, – поднимая бокал, сказал Сиснерос.
– За нашу дружбу, – сказал Дуглас. [43]
Вино было терпким, и каждый глоток его приятно обжигал.
– С дороги полагается отдохнуть, – заметил Сиснерос. – За работу завтра.
– Я бы хотел начать сегодня, – сказал Дуглас. – Я уже отдохнул, пока добирался сюда.
– Ничего не поделаешь, если такой нетерпеливый. Желаю удачи. – Сиснерос крепко пожал ему руку и в
ответ почувствовал такое же крепкое рукопожатие. Сильной была рука у этого русского Дугласа. —
Камарадо Борис, – он указал на Свешникова, – в курсе всех дел. Он вас проводит.
Так Смушкевич приступил к обязанностям старшего советника при командующем военно-воздушными
силами республиканской Испании, одновременно возглавив группу советских летчиков-добровольцев.
По дороге Свешников, прибывший в Испанию вскоре после начала мятежа, рассказал о его
подробностях.
Мятеж не явился большой неожиданностью. Правда, неизвестно было, когда он начнется, но то, что
после победы революции 1931 года, свергнувшей монархию и провозгласившей республику, генералы не
успокоятся и попытаются его поднять, ни у кого сомнений не вызывало. Ни у кого, кроме правительства
республики, которое пребывало в состоянии полнейшего неведения.
Борис Федорович угрюмо молчал. Для него, участника гражданской войны у себя на родине, многое
было неприемлемо в этой стране. Но, став неожиданно для себя дипломатом, он пристально
приглядывался ко всему и терпеливо пытался разобраться во всем происходящем. В отличие от Дугласа,
[44] впервые оказавшегося за рубежом, Свешников не чувствовал себя новичком за границей, где провел
два года, учась в Версальской авиашколе.
– Что касается наших дел, – возобновляя прерванный разговор, продолжал Свешников, – то тут
положение такое. У мятежников почти десятикратное превосходство в самолетах. Господство в воздухе, можно считать, полное. Наши ребята пока летают, как говорится, на чем бог послал. Сам понимаешь, радости от этого большой ждать не приходится.
Среди испанцев не редкость великолепные летчики. Особенно те, что перешли из гражданской авиация.
Настоящие асы. Но новой техники у них нет, да они ее и не знают... Есть тут еще одна эскадрилья.
Командует ею француз Андре Мальро. Самолетов двадцать в ней. Добровольцы. Есть там отличные
парни. Эти живут не в отеле «Флорида», а на аэродроме... Но есть и... Ну, ты, например, слышал о такой
профессии «специалист по краже автомобилей»? Нет. Я тоже раньше не слышал. А тут один из этой
эскадрильи так прямо себя и называет... «Специалист!» И вот приходится пользоваться услугами таких
«специалистов», которых по утрам надо из публичных домов вытаскивать, да еще уговаривай, чтобы
полетели куда надо.
– Может, когда наших станет больше, такие не понадобятся? – спросил Дуглас. Он внимательно
слушал Свешникова, впитывая в себя каждое слово, каждую подробность. Свешников уже тогда про себя
отметил эту его особенность.
– Думаю, что так... Да и Сиснерос ждет этого не дождется. Кроме всего, республике такие
«специалисты» влетают в копеечку. За каждый сбитый самолет им должны платить отдельно.
Дуглас только покачал головой. [45]
– Наши отказались получать за сбитые, – после короткой паузы заметил Свешников. – Говорят, мы для
того и приехали, чтобы сбивать, иначе что же тут еще делать?
Машина, в которой они ехали, уже давно оставила позади Альбасете и теперь неслась по дороге на
Мадрид. По обеим сторонам расстилалась покрытая пестрым ковром цветов равнина, а дальше в синюю
полоску горизонта врезались холмы темно-красного цвета, и надо всем ясное аквамариновое небо.
Можно было не отрываясь любоваться этой красотой. Но взгляд, брошенный на дорогу, заставлял забыть
о ней. Печальной была дорога на Мадрид поздней осенью 1936 года. Казалось, по ней шла в те дни вся
Испания, Испания, не хотевшая остаться с фашистами.
Навстречу машине двигались нагруженные нехитрым скарбом повозки, уныло брели мулы, навьюченные
собранными впопыхах узлами. Война гнала людей с насиженных мест на дороги, и теперь дороги
надолго становились их домом. Они хотели уйти от войны, но она шла за ними по пятам, преследуя их
взрывами бомб, пулеметным лаем и воем самолетов.
И Смушкевич подумал, что когда-то он уже видел нечто похожее. Но когда? И вдруг в памяти встал такой
же жаркий день. И дорога, запруженная повозками, бричками, телегами... Храпят уставшие кони. Ревут
упрямые, как и здешние мулы, волы.
Такой была дорога на Двинск, по которой они летом 1914 года уходили от немцев. Горестно вздыхала
мать, мрачно погонял уставших коней отец. А на телеге рядом с братьями и сестрой сидел он, тогда
совсем еще маленький. Они шли, как и эти вот сейчас, в неизвестное. Что ждало их впереди? [46]
И вот тогда, лежа на телеге, он впервые в жизни увидал в знойном небе самолет. Кто знает, чей он был?
Свой или чужой?
Самолет проплыл над ним и исчез. Но, быть может, именно тогда в мальчишеском сознании родилось и с
тех пор все крепло желание не летать, нет, об этом он и не думал, а хоть как-то приобщиться к тому миру
знаний и чудес, из которого прилетела эта загадочная птица.
Поток беженцев поредел. Машина свернула с шоссе и пошла по берегу маленькой речки.
– Вива, Рус! Вива, камарадо русо! – вдруг провозгласил шофер. Видя, что его не поняли, он обернулся
к Смушкевичу и Свешникову, кивнул в сторону реки и сказал: – Рус. – Затем, указав на видневшийся
впереди городок, добавил: – А там русос...
И, довольный своей шуткой, рассмеялся.







