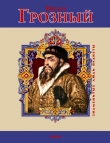Текст книги "Прелестные картинки"
Автор книги: Симона де Бовуар
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
– Но ты же не веришь психологам!
Я почувствовала, что говорю слишком громко, Жан-Шарль бросил на меня недовольный взгляд.
– Послушай, раз Катрин соглашается поехать с нами и не устраивает из этого трагедии, не устраивай и ты.
– Она не устраивает трагедии?
– Ничуть.
– В чем же дело?
Отец и Доминика произнесли одновременно: в чем же дело? Юбер покачал головой с понимающим видом. Лоранс заставила себя есть, но именно тут она почувствовала первый спазм. Она знала, что потерпела поражение. Против всех не пойдешь. Ей никогда не хватало высокомерия, чтобы считать себя умней всех. (Были Галилей, Пастер и другие, которых приводила в пример мадемуазель Уше. Но я не мню себя Галилеем.) Итак, на пасху – она к этому времени, разумеется, выздоровеет, тут дело нескольких дней, несколько дней пища тебе противна, а потом все налаживается само собой – они повезут Катрин в Рим. Желудок Лоранс судорожно сжался. Возможно, что она еще долго не сможет есть. Психолог сказала бы, что она заболела нарочно, потому что не хочет ехать с Катрин. Абсурд. Если бы она в самом деле не хотела, она бы отказалась, она бы боролась. Они все вынуждены были бы отступить.
Все. Потому что против нее – все. И снова на нее надвигается картина, которую она яростно вытесняет из сознания и которая возникает снова и снова, стоит ей ослабить бдительность: Жан-Шарль, папа, Доминика улыбаются, как на американском плакате, расхваливающем овсянку. Мир, единство, радость семейного очага. А различия, казавшиеся непреодолимыми, на поверку решающего значения не имеют. Она одна, иная, отверженная, неспособная жить, неспособная любить. Обеими руками она вцепляется в одеяло. На нее наваливается то, чего она страшится хуже смерти: мгновение, когда все рушится; ее тело – камень, ей нужно закричать, но у камня нет голоса, нет слез.
Я не хотела верить Доминике; мы встретились через три дня после того обеда, через неделю после нашего возвращения из Греции. Она мне сказала:
– Представь себе, что мы – твой отец и я – подумываем, не жить ли нам снова вместе.
– Как? Ты и папа?
– Тебя это так удивляет? Почему же? В сущности, у нас много общего. Прежде всего наше прошлое, и ты, и Марта, и ваши дети.
– У вас такие разные вкусы.
– Они были разными. Мы слегка изменились, постарев.
Спокойствие, говорила я себе. Салон был полон весенних цветов: гиацинтов, примул. Папины подарки? Или она меняет стиль? Кому она подрaжaeт? Той женщине, которой намеревается стать? Она говорила. Слова обтекали меня, я все еще отказывалась им верить: она так часто выдумывает. Она нуждалась в защите, привязанности, уважении. А он ее уважает, даже очень. Он осознал, что неправильно судил о ней, что ее светскость, честолюбие были проявлением жизненных сил. И ему тоже необходим кто-нибудь живой рядом. Он чувствует себя одиноким, скучает; книги, музыка, культура – все это прекрасно, но существования этим не заполнишь. Надо отдать ему справедливость, он еще может нравиться. К тому же он эволюционировал. Он понял, что негативизм бесплоден. Она ему предложила, поскольку он в курсе парламентских дел, принять участие в радиодискуссии: «Ты не можешь вообразить, какое это ему доставило удовольствие». Голос струился, уравновешенный, умиротворенный, в уюте салона, где недавно раздавались дикие вопли. «Переживет, переживет». Жильбер оказался прав. Вопли, рыдания, конвульсии, точно в жизни есть нечто достойное того, чтоб так вопить, рыдать, волноваться. А это неправда. Нет ничего непоправимого, потому что ничто не имеет значения. Почему же не остаться на всю жизнь в кровати?
– Не понимаю, – сказала я. – Ты ведь находишь папино существование таким тусклым!
Доминика не переменила внезапно мнения о папе, не приняла его мировоззрения, не смирилась с тем, чтоб разделить с ним жизнь, которую именовала посредственной.
– Ах, я сохраню собственную жизнь, – живо возразила она. – Тут мы единодушны, у каждого свои дела, своя среда.
– Некое мирное сосуществование?
– Если угодно.
– Почему же вам тогда не ограничиться встречами время от времени?
– Ты решительно не знаешь света, просто не отдаешь себе ни в чем отчета, – сказала Доминика.
Она помолчала; мысли, которые она перебирала в голове, явно не были приятными.
– Я тебе уже говорила: женщина без мужчины, с точки зрения социальной, деклассирована; в этом есть некая двусмысленность. Я знаю, про меня уже распускают сплетни, что я содержу мальчиков, впрочем, некоторые мне предлагали свои услуги.
– Но при чем тут папа? Ты могла найти человека более блестящего, – сказала я, подчеркнув последнее слово.
– Блестящего? В сравнении с Жильбером никто не будет блестящим. Все сочли бы, что я удовлетворилась эрзацем. Твой отец – другое дело. – По ее лицу пробежало мечтательное выражение, прекрасно сочетавшееся с гиацинтами и примулами. – Супруги, вновь обретшие друг друга после многих лет раздельной жизни, чтоб встретить вместе надвигающуюся старость: возможно, люди удивятся, но подсмеиваться не будут.
Я не была в этом столь же уверена, как она, но теперь я поняла подоплеку. Надежность, респектабельность – вот в чем она нуждается в первую очередь. Новые связи отбросили бы ее в ранг доступных женщин, а мужа найти нелегко. Я уже видела роль, в которой она намеревается выступать: женщина, сделавшая карьеру, пользующаяся успехом, но отказавшаяся от легкомысленных радостей ради иных – более тайных, глубоких, интимных.
И папа согласился? Лоранс поехала повидаться с отцом в тот же вечер. Квартира одинокого мужчины, которую она так любила, газеты и книги, набросанные в беспорядке, аромат старины. Почти тотчас она спросила, стараясь улыбаться:
– Доминика рассказывает, что вы будете снова вместе. Это правда?
– Как это тебе ни покажется невероятным, да. Так-то!
Вид у него был немного смущенный. Он вспомнил, что говорил о Доминике.
– Да, признаюсь, мне это кажется невероятным. Ты так дорожил одиночеством.
– Никто не заставляет меня отказаться от него, если я поселюсь у твоей матери. Квартира у нее большая. Разумеется, в нашем возрасте мы оба нуждаемся в независимости.
Она выдавила из себя:
– Я считаю, что это хорошая мысль.
– Думаю, что да. Я веду слишком замкнутый образ жизни. Нужно все-таки сохранять контакт с людьми. А Доминика стала более зрелой; знаешь, она понимает меня куда лучше, чем раньше.
Они поговорили о том, о сем, вспомнили Грецию. Вечером, после обеда, ее стошнило; назавтра она не поднялась с постели, на следующий день тоже; она была сражена лавиной картин и слов, непрерывно дефилировавших и бившихся между собой в ее голове, точно малайские криссы в запертом ящике (откроешь – полный порядок). Она открывает ящик. Просто я ревную. Эдипов комплекс, не ликвидированный вовремя: мать, ощущаемая, как соперница. Электра. Агамемнон… Не потому ли меня так волновали Микены? Нет. Нет. Чушь. Микены были красивы, меня тронула красота. Ящик заперт, криссы бьются. Я ревную, но главное, главное… Она дышит слишком часто, задыхается. Значит, это не было правдой, что он владеет радостью, мудростью, что ему хватает внутреннего света! Она упрекала себя в неумении раскрыть секрет, а секрета-то, может, и вовсе не было. Вовсе не было: она поняла это в Греции. Она РАЗОЧАРОВАЛАСЬ. Слово пронзает, как кинжал. Она зажимает платок между зубами, точно желая помешать крику, хотя кричать не в силах… Разочаровалась. У меня есть для этого основания. «Ты не можешь вообразить, какое это ему доставило удовольствие!» А он: «Она понимает меня куда лучше, чем раньше». Он был польщен. ПОЛЬЩЕН. Это он, который смотрел на мир сверху вниз, с просветленной отчужденностью, он, который познал тщету всего и обрел душевный покой по ту сторону отчаяния. Он, непримиримый, будет выступать по тому самому радио, которое обвинял в лживости и лакействе. Он не принадлежал к другой породе. Мона сказала бы: «Какого черта! Они похожи как две капли воды».
Она задремала в изнеможении.
Когда она открывает глаза, рядом Жан-Шарль.
– Милая, совершенно необходимо, чтобы ты согласилась повидать доктора.
– Зачем?
– Он поговорит с тобой, поможет тебе понять, что с тобой происходит.
Она вскрикивает:
– Нет, ни за что! Я не дам копаться во мне. – Она кричит: – Нет! Нет!
– Успокойся.
Она вновь падает на подушки. Они заставят ее есть, они принудят ее проглотить все. Что все? Все, от чего ее тошнит, ее собственную жизнь, жизнь всех остальных, все их мнимые любви, денежные истории, вранье. Они ее излечат от отказов, от отчаяния. Нет. Почему нет? Если крот откроет глаза и увидит, что все вокруг черно, какой ему от этого прок? Закрыть глаза. А Катрин? Ей тоже приколотить веки? «Нет!» – она закричала вслух. Только не Катрин. Я не позволю, чтобы с ней сделали то, что со мной. А что из меня сделали? Женщину, которая никого не любит, не чувствительна к красоте мира, не способна даже плакать, женщину, которой меня рвет. Нет, она должна немедленно открыть глаза Катрин, может, луч света пробьется к ней, может, она выкарабкается? Откуда? Из этого мрака. Из невежества, из равнодушия… Катрин… Внезапно она поднимается.
– С ней не сделают того, что со мной.
– Успокойся.
Жан-Шарль берет ее за руку, в глазах у него смятение, точно ему хочется позвать на помощь; властный, уверенный в себе, он пугается при малейшей неожиданности.
– Не успокоюсь. Не хочу врача. Я больна от вас и выздоровею сама, потому что не уступлю вам. Катрин я не уступлю. Со мной покончено. Меня обработали раз и навсегда. Но Катрин не искалечат. Не хочу, чтоб она лишилась подруги. Хочу, чтоб она провела каникулы у Брижитт. И к психологу она больше не пойдет.
Лоранс отбрасывает одеяла, встает, натягивает халат, перехватывает ошарашенный взгляд Жан-Шарля.
– Не зови врача. Я не спятила. Просто говорю, что думаю. О господи, да не гляди ты на меня с таким видом.
– Я решительно не понимаю, о чем ты.
Лоранс делает над собой усилие, тон ее становится рассудительным:
– Очень просто. Катрин занимаюсь я. Ты вмешиваешься эпизодически. Но воспитываю ее я, следовательно, принимать решения должна я. Я их принимаю. Воспитать ребенка не значит сделать из него прелестную картинку…
Помимо собственной воли Лоранс повышает голос, она говорит, говорит, говорит, сама не понимая, что; не важно, важно перекричать Жан-Шарля и всех остальных, заставить их замолчать. Сердце ее колотится изо всех сил, глаза горят.
– Я приняла решение, и я не уступлю.
Замешательство Жан-Шарля растет, он шепчет умиротворяюще:
– Почему бы не сказать мне всего этого раньше? Совершенно не обязательно болеть. Я не знал, что ты приняла эту историю так близко к сердцу.
– Слишком близко к сердцу, да; у меня, может, больше нет сердца, но эту историю я принимаю близко к сердцу.
Она смотрит на него прямо в глаза, он отворачивается.
– Ты должна была поговорить со мной раньше.
– Возможно. Во всяком случае, теперь все сказано.
Жан-Шарль упрям; но в глубине души он не относится серьезно к дружбе Катрин и Брижитт: эта ребяческая история не затрагивает его по-настоящему. И в моей болезни пять лет назад веселого было мало, и у него нет ни малейшего желания, чтобы я снова свалилась. Если я упрусь, победа за мной.
– Хочешь воевать, будем воевать.
Он пожимает плечами.
– Мы – воевать? С кем ты говоришь?
– Не знаю, это зависит от тебя.
– Я никогда ничего не делал тебе наперекор, – говорит Жан-Шарль.
Он задумывается.
– Правда, что ты занимаешься Катрин куда больше меня. В конечном итоге решать тебе. Я никогда с этим не спорил. – Он добавляет раздраженно: – Все было бы куда проще, если б ты объяснилась. Сразу.
Она натянуто улыбается.
– Я виновата, но я тоже не люблю идти тебе наперекор.
Они молчат.
– Значит, решено, – говорит она после паузы, – Катрин проводит каникулы у Брижитт?
– Если ты этого хочешь.
– Да.
Лоранс причесывается, приводит в порядок лицо. Моя песенка спета, думает она, глядя на свое отражение – бледное лицо, обострившиеся черты. Но дети еще могут на что-то рассчитывать. На что? Если б знать.