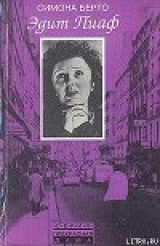
Текст книги "Эдит Пиаф"
Автор книги: Симона Берто
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Большим ее другом стал Мишель Симон. Удивительный человек! На редкость уродлив, но этого не замечаешь. Я могла слушать его часами… Он часто приходил поболтать с Эдит. Когда они находились вместе, эти два священных кумира сцены, от них нельзя было отвести глаз.
Мишель мало говорил о своей работе, больше о жизни, с ним столько всего случалось! Рассказывал о животных, о своей обезьяне, которую любил, как близкое существо.
Он был прекрасным рассказчиком, и его голос, не похожий ни на какой другой, совершенно особый, придавал щемящую достоверность тому, о чем он говорил. Он так и не смог смириться со своей внешностью, его терзала мысль о собственном уродстве. «У меня такая рожа, что она не противна только шлюхам, это добрый народ… А еще меня любят животные. Моя обезьяна, например, находит меня красивым. И она права, пойди найди другую такую обезьяну, как я!»
Эдит смеялась, а я ему сочувствовала.
Мишель Симон считал, что в этом он схож с Эдит, что она, в своем женском облике, так же чудовищна, как он – в мужском. Это придавало ему уверенности, прогоняло чувство одиночества. «Видишь, Эдит, мы с тобой и без красоты добились успеха».
Удивительно то, что через некоторое время я тоже стала смотреть на Эдит его глазами. Раньше я считала ее хорошенькой, а теперь стала находить в ней отклонения от нормы: узкие плечи, огромный лоб, маленькое личико. Но в жизни она была лучше, чем на сцене: утрачивала страдальческий вид, и тогда можно было обратить внимание на округлые бедра и стройные ноги.
Мишель Симон и Эдит рассказывали друг другу свою жизнь. Оба любили соленую шутку и смеялись до слез. И оба умели крепко поддать. «Мы с тобой страшны, как смертный грех, – говорил Мишель, – зато не слабаки!»
Бывали у нас Жан Шевриер и Мари Бель из «Комеди Франсэз». Она выглядела как светская дама, что не мешало ей приходить в наш бордель. Мы принимали их в гостиной, а потом они незаметно поднимались наверх. В то время они еще не были женаты.
Приходила и Мари Марке. Когда обе Мари встречались, у них были довольно кислые мины. Они не любили друг друга. Эдит очень ценила Мари Марке, считая ее актрисой высокого класса. В ней все было крупное: фигура, рост (когда она раскидывала руки, мы обе свободно проходили под ними), талант. Никто не умел так читать стихи, как она. Это было прекрасно, как сон! Эдит слушала ее с уважением: «Мари, ты декламируешь, а я учусь, потому что стихотворение – это песня без музыки, здесь те же трудности».
Забавно было наблюдать эту женщину такой высокой культуры в обстановке нашего дома свиданий. Она ее нисколько не шокировала. Мари рассказывала нам удивительные истории. Она познакомила нас с пьесами Эдмона Ростана: «Сирано де Бержераком», «Орленком», «Шантеклером» – и рассказывала нам о доме Ростана в Арнаго, возле Камбо. Поэт и она очень любили друг друга. Это была прекрасная история любви, приводившая Эдит в восхищение.
Постоянно у нас находились Мадлен Робэнсон и Мона Гуайа[22]22
Мадлен Робэнсон и Мона Гуайа – известные драматические актрисы.
[Закрыть]. Первая была лучшей подругой Эдит.
Однажды в 1943 году Эдит вызвали в полицейский участок по поводу ее матери. Ее вызывали уже не в первый раз, но, как оказалось, в последний. С тех пор, как Эдит стала знаменитой, мать устраивала скандал за скандалом. Не один раз она попадала в тюрьму Фрэн. Ее подбирали прямо на улице в состоянии опьянения вином или наркотиками, выглядела она, как клошары… Мы забирали ее из тюрьмы, одевали с головы до ног… И все начиналось сначала.
Когда в 1938 году Эдит выступала в «АВС», однажды вечером какая-то нищенка вцепилась в дверцу такси, в которое села Эдит. Волосы закрывали ей лицо, от нее несло винным перегаром, и она кричала хриплым голосом: «Это моя дочь… Это моя дочь…»
Реймон Ассо тогда возмутился и на некоторое время избавил от нее Эдит. Но потом она стала всем плакаться: «Моя дочь – Эдит Пиаф. Она купается в золоте, а я подыхаю в нищете». Она угрожала Эдит, что пойдет в редакции, газет. И она это сделала, более того, она обратилась в отдел общественной благотворительности газеты «Пари-суар». Она хорошо отработала свой номер, но, так как она практически не протрезвлялась, он проходил не всегда. К 1943 году мы уже так привыкли ко всему, что от нее исходило, что в этот раз Эдит мне сказала:
«В полиции мне сообщили, что она умерла ужасной смертью в канаве. Она жила на Пигаль с одним молодым парнем, жалким опустившимся подонком. Их связывали наркотики; оба нюхали кокаин. Как-то вечером он поднялся с их кишевшего насекомыми топчана, чтобы пойти раздобыть дозу. Он посмотрел на мать Эдит: она храпела. Когда он вернулся, она лежала в той же позе. Он дотронулся до нее, она уже была холодной. Потеряв голову от страха, одурманенный кокаином, он вынес тело на улицу и там бросил. Она умерла, как предсказывал отец, – в канаве».
Все хлопоты взял на себя Анри Конте, я ему помогала. Эдит похоронила свою мать на кладбище в Тье. Она не пошла на похороны. Не была ни разу на ее могиле. «Моя мать умерла для меня очень давно, через месяц после рождения, когда она меня бросила. Матерью моей она была только по документам».
Это правда. Между Эдит и ее матерью никогда не было никакой привязанности. Мать приходила к дочери только ради денег.
Эдит много работала. И не всегда у нее все проходило гладко с оккупантами. Она не была героиней, но в ней было слишком много от Гавроша, от парижского гамэна, чтобы она могла позволить посягнуть на свою независимость.
В 1942 году, когда она выступала в «АВС», в вечер премьеры в зале оказалось много немецких офицеров в мундирах всех цветов. Зеленый – цвет вермахта, черный – СС, серый – военно-воздушных сил, синий – военно-морских. Но зал был битком набит также парижанами всех мастей. В конце программы Эдит для них выдала «Где все мои друзья?» на фоне трехцветного знамени, высвеченного прожекторами на сцене. Что творилось в зале!
На следующий день ее вызвало немецкое начальство. Ей сделали серьезный выговор, потом потребовали:
– Уберите эту песню из своего репертуара.
Эдит умирала от страха, но ответила:
– Нет.
– Тогда я вынужден ее запретить.
– Запрещайте. Но над вами будет смеяться весь Париж.
В конце концов песню оставили, убрали только трехцветное знамя.
Немцам очень нравилось пение Эдит. Раз двадцать, не меньше, они приглашали ее выступить с концертами в больших немецких городах, но она всегда отказывалась.
Зато готова была сколько угодно петь в лагерях для военнопленных и отдавала им полученные гонорары. Из этих поездок она возвращалась потрясенной. Солдаты были ей дороги, как верные друзья, она всегда их любила. Принимали они ее, как королеву.
Андре Бижар попросила Эдит сопровождать ее вместо меня в поездках по лагерям.
– Ты так любишь фрицев?
– Я просто люблю путешествовать.
– Она лжет, – сказала мне как-то Эдит.
Мы давно уже обратили внимание на то, что в комнате Вижар бывает много мужчин. Вначале Эдит смеялась: «Смотри-ка, это, наверное, атмосфера дома оказывает на Андре такое влияние. Ты заметила, сколько к ней мужиков ходит! Я от нее этого не ожидала!»
Потом мы поняли, что, оказавшись в логове врага, она использует положение и активно участвует в Сопротивлении. А все мужчины, которые у нее бывают – «террористы», как их называли фашисты.
Поездки по ту сторону Рейна были связаны с большими неудобствами для Эдит. Как-то после концерта один из старших офицеров немецкой армии спросил ее:
– Надеюсь, мадам, вы довольны гостеприимством, которое вам оказывает рейх? Как вы находите Германию?
– О чем вы говорите? В комнате холод, стекла в окнах выбиты, пища не съедобна, и нельзя получить две капли вина! Жуть!
Немец покраснел, схватил телефонную трубку и стал кричать в нее что-то по-немецки. Эдит подумала: «На этот раз я хватила через край». Она ошиблась. Через час ее устроили в лучшей гостинице, подали приличный ужин и бутылку французского бордо.
В другой раз, снова в лагере, Эдит узнала, что французские пленные положили на мелодию гитлеровского гимна следующие слова:
В ж… в ж…
Получат они победу.
Они потеряли
Всю надежду на славу,
Они пропали,
И весь мир радостно поет:
«Они в ж…, в ж…!»
И вот в конце своего выступления Эдит сказала:
– Чтобы поблагодарить господ офицеров, я спою немецкую песню, но, так как слов я не знаю, я ее только напою.
И она запела во всю мощь своего голоса. Все немцы встали по стойке «смирно» и слушали, как Эдит им пела, по сути дела, «В ж…».
Так как атмосфера создалась благоприятная, мадам Бижар сказала Эдит:
– Попросите разрешения сфотографироваться с военнопленными.
Чокнувшись с комендантом лагеря «за Сталинград», «за победу», за все, что он хотел, Эдит сказала:
– Полковник, окажите мне любезность.
– Заранее согласен, – ответил тот, щелкнув каблуками.
– Мне бы хотелось, чтобы на память о таком прекрасном дне у меня осталось две фотографии: одна с вами, другая – с моими заключенными.
Немец согласился. В Париже Эдит отдала фотографию Андре. Ее увеличили. Голова каждого солдата была переснята отдельно и наклеена на фальшивые удостоверения личности и на фальшивые документы французов, «добровольно» приехавших в Германию. Потом Эдит попросила разрешения снова посетить этот лагерь. В коробке с гримом, в которой было двойное дно, Андре доставила все фальшивые документы и раздала их военнопленным. Тому, кто сумел бежать, эти бумаги очень помогли. Некоторым они спасли жизнь.
Эдит и мадам Бижар повторяли эту операцию каждый раз, когда это оказывалось возможным. Эдит говорила: «Нет, я не участвовала в Сопротивлении, но своим солдатам я помогала».
Мы бы до конца войны оставались в нашем роскошном борделе, но, к несчастью, семейка Фреди переусердствовала с черным рынком. Дело близилось к концу, и оккупанты, решив навести порядок среди своих, для острастки стали забирать тех, кто был связан с черным рьюком. Потом произошли истории с девицами, которые обирали клиентов; среди них попался один немецкий офицер. Мерзавцы из гестапо приходили теперь не за тем, чтобы развлекаться, а чтобы выполнять свою грязную работу. С каждым днем в доме становилось все опаснее, и однажды утром, весной 1944 года, Анри пришел за нами. «Девочки, запахло жареным. Пора сматывать удочки».
Эдит, всегда быстрая в решениях, объявила: «Отступаем в отель «Альсина».
Мы расстались с Фреди, уплатив им два миллиона франков. Эту сумму мы им перед отъездом еще оставались должны, несмотря на огромные деньги, которые выплачивали все время. Предоставляя нам кредит, они регулярно вытягивали из нас все, и мы практически оставались на нуле.
На следующий день после нашего отъезда их дом на улице Вильжюст был оцеплен и хозяев посадили. Так кончилась наша красивая жизнь в борделе!
Глава девятая. Эдит открывает Ива Монтана
В отеле «Альсина» мы вернулись к своим привычкам. Но вначале все было очень трудно.
Война для немцев оборачивалась плохо. Повсюду на стенах расклеивались объявления в траурных рамках; это были списки заложников, среди которых могли оказаться ваши соседи, родные, друзья. Тут уж было не до веселья. Немцы всех считали террористами, даже старушку, продававшую на углу газеты. Свободной зоны больше не существовало. Евреев увозили, набивая ими до отказа товарные вагоны. «Корректные» оккупанты, которые вначале заигрывали с населением, исчезли.
Мы совсем упали духом. Денег не было. Не было Чанга. Со слезами расстались мы и с мадам Бижар. Считать деньги, ограничивать себя Эдит не умела. На улице Вильжюст она жила, ни о чем не задумываясь, все деньги уходили на еду и вино. Живя у Фреди, мы совершенно обносились, так как все время выплачивали им долги.
Раз не было денег, не стало и друзей, выпивающих на дармовщину. Это должно было бы послужить Эдит уроком. Отнюдь. Как только у нее завелись деньги, ее снова начали доить.
Эдит уехала в один из лагерей военнопленных. С ней поехала мадам Бижар, присутствие которой было оговорено контрактом. Андре потихоньку плакала от волнения и повторяла: «Это в последний раз…» Все трое мы были в этом уверены.
Когда я вернулась с вокзала в отель, портье сказал мне: «Звонил слуга отца мадам Пиаф. Он просил, чтобы вы срочно позвонили ему».
С этим слугой была забавная история. Эдит не бросила отца на произвол судьбы, она с ним виделась довольно часто.
Однажды он сказал ей: «Теперь, когда ты выбилась в люди, мне бы хотелось иметь слугу. Это произвело бы впечатление на моих друзей». Ну и смеялись же мы в тот день! Так как Эдит сама склонна была иногда мыслить подобным образом, она тут же поместила объявление, сказав мне: «Бедный старикан, может, ему уже не так долго жить осталось. Наймем ему слугу. Но за то, чтобы поселиться на улице Ребеваль, придется дорого платить!» Отец действительно так никогда и не захотел расстаться со своим грязным, жалким, полуразвалившимся отелем, в котором не было никаких удобств. Держать в таких условиях слугу, это же надо придумать… И тем не менее он его завел.
Не знаю почему, но я встревожилась. Отец всегда звонил из ближайшего кафе на углу, когда ему были нужны деньги. Я набрала номер этого кафе, так как слуга должен был сидеть там и ждать звонка. Мне его тотчас позвали. «Я только хотел сообщить мадам, что ее отец умер».
Я не замечала, что у меня из глаз льются слезы. Я очень любила нашего старика. Вместе с ним уходил целый кусок и моей жизни.
Не колеблясь, я вызвала Анри Конте. Вместе мы поехали на улицу Ребеваль. Предупредить Эдит не было никакой возможности, однако она успела вернуться к похоронам. Она очень горевала об отце.
В отеле, где жил отец, нас ждала целая куча родственников – двоюродных и троюродных братьев, которых мы в жизни в глаза не видели. Все они хотели получить что-нибудь на память. Пока отец был жив, никто бы ему не подал стакана воды! Золотые часы папаши Гассиона Эдит подарила слуге. «Другим отдай трубки», – сказала она мне. Я раздала всем его старые, обкуренные трубки, которые он так любил.
На кладбище Пер-Лашез его опустили в могилу. На похороны приехало несколько бывших «девиц» из борделя в Нормандии. Они проливали искренние слезы и не смели подойти обнять Эдит. С нами был Анри Конте. Распорядители из фирмы Борниоль[23]23
Фирма, организующая проведение церемонии похорон.
[Закрыть] поместили его в похоронной процессии в числе «членов семьи». Когда земля застучала по крышке гроба, мне стало больно. Эдит крепко сжимала мне руку. Обе мы думали об одном: мы хоронили свое детство, свою юность.
Все кругом было мрачным. Анри приходил к нам какой-то скучный, тусклый. Ему было не до песен. Каждый старался забиться в свою нору. Даже Гит не появлялась больше. Она потеряла свой последний велосипед. У нас в отеле не было пианино. А Гит умела разговаривать, только когда под руками у нее были клавиши.
Наверное, это было не самое подходящее время, но Анри вбил в голову Эдит, что она должна вступить в SACEM (Общество авторов, композиторов и музыкальных издателей).
– Это тебя займет. Ты ведь уже писала песни, но поскольку ты не член общества авторских прав, то ты не можешь их подписывать, и поэтому ничего за них не получаешь. Вступи в SACEM, и твои права будут охраняться.
– Ты сошел с ума, Анри. Никогда мне не выдержать экзамена!
Тут уж я насела, и, как Эдит ни сопротивлялась, все-таки она туда пошла. «Я подала заявление, Момона, до чего же у них все серьезно поставлено! С ними не соскучишься. Чтобы быть допущенным к экзаменам, нужно представить метрику, справку об отсутствии судимости, фотографию и пройти еще довольно занятное испытание: написать прямо с ходу на заданную тему песню в три куплета: я просто умираю от страха».
В начале 1944 года Гассион Эдит, известную под именем Эдит Пиаф, вызвали на экзамен. «Ничего не получится, Момона, я никогда в жизни не сдавала экзаменов. Я обязательно провалюсь. И все эти бородачи будут меня судить…». (Ей казалось, что судьи и профессора обязательно носят бороды, а она их терпеть не могла.)
За час до экзамена, буквально не помня себя от страха, она все же отправилась на улицу Балю в SACEM. В маленькой комнате одна перед листком белой бумаги, на котором была написана ее тема: «Вокзальная улица», Эдит совершенно растерялась.
«Момона, листок бумаги плыл у меня перед глазами, а слова «Вокзальная улица» мелькали, как мухи, не вызывая никаких мыслей. Чего они от меня хотели с этой дурацкой улицей? Мне пришли в голову такие слова:
На Вокзальной улице
Девушка заблудилась.
Она потеряла свое сердце,
А с ним – свое счастье.
Ничего глупее нельзя было придумать! Я не могла написать больше ни одного слова и, разумеется, забыла думать об орфографии. В голове у меня все смешалось. Я вышла оттуда не помня себя и того, что я там написала! И с отчаянной головной болью».
Затея провалилась.
Луи Барье вошел в жизнь Эдит удачней, чем кто-либо другой. И он остался с ней до конца. Это был поразительный человек. Достаточно рассказать, как он появился. Портье отеля позвонил однажды к нам в номер и сказал Эдит:
– Здесь некто мсье Луи Барье. Он хочет вас видеть.
– Хорошо. Иду (она повесила трубку). Ты знаешь такого Луи Барье, Момона?
– Нет, не имею представления.
К нам приходило тогда не так много людей. Мы сбежали вниз по лестнице и увидели в вестибюле у входной двери высокого симпатичного блондина: одной рукой он придерживал велосипед, на брюках у него были велосипедные зажимы. Он стоял и ждал очень спокойно. «Видите, какое дело, мадам Пиаф, я пришел к вам, потому что я импресарио».
Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Уже десять лет как мы ждали импресарио, представляя его себе в «Роллс-Ройсе» и с сигарой в зубах, а он явился на велосипеде и с подколотыми брюками… Это было до того забавно, что не могло не принести удачи. У него не было никаких рекомендаций, ничего, кроме честного, открытого лица. Луи понравился Эдит.
«Я хотел бы заняться вашими делами. Я знаю, что у вас никого нет. Возле вас нет мужчины, который защищал бы ваши интересы. У вас никогда не было импресарио. Сейчас он вам необходим. Вы больше не можете без него обходиться. Вы вступили на путь успеха, это удачный момент: я к вашим услугам. Располагайте мной».
Сказать такое, как раз тогда, когда нас несло под откос, – вот это характер! И какое чутье!..
«Я принимаю ваше предложение, – сказала ему Эдит, – вы мне нравитесь».
Они не подписали контракта, никакой даже самой маленькой бумажки. Им это было не нужно. Эдит всегда полностью доверяла Лулу. Он был ей предан, как сенбернар. И он был одним из немногих, кто никогда не обращался к ней на «ты». Он всегда выручал ее, а с Эдит часто бывало нелегко.
Барье замечательно повел дела Эдит. В ее карьере он сыграл очень важную роль. Он был талантливым импресарио – Эдит это сразу же ощутила. В тот трудный период он сумел получить для нее контракт на две недели в «Мулен-Руж», который был тогда одним из лучших мюзик-холлов страны.
Снова вернулись славные времена лихорадочной работы. Но у нас все-таки оставались минуты для болтовни. Сидя в ванной комнате, на краешке биде, я слушала Эдит.
«Момона, ты умеешь меня слушать, как никто. Для этой роли у тебя потрясающий талант!» Она была настроена сентиментально, вспоминала свои былые увлечения: «Чтобы хорошенько во всем этом разобраться, Момона, я придумала разделить их по периодам: «улица», «моряки и колониальные солдаты», «сутенеры» и «безумие после смерти Лепле»… Ты помнишь это время, Момона?»
Еще бы не помнить!..
«Ассо и Мёрисс, – продолжала Эдит, – период «учителей». Конте – это «бордель», а потом…».
Периоду, который наступал, суждено было длиться долго. Эдит назвала его «фабрикой», потому что она сама стала формировать певцов. Открыла их серийное производство. Начала она с Ива Монтана.
Лулу сказал как-то Эдит: «Больше вам не будут навязывать актеров в качестве «американской звезды». Теперь право выбора за вами. Для концертов в «Мулен-Руж» вам предлагают Ива Монтана». – «Нет. Я о нем не имею представления… Я хочу Роже Данна, оригинальный жанр. Это товарищ, его я знаю».
Но Роже не было в Париже. И никого нельзя было пригласить из провинции, все стало слишком сложно. Дело происходило за месяц до Освобождения.
«Ну ладно, – сказала Эдит. – Назначьте прослушивание вашему Иву Монтану. Я приду».
Сидя в глубине зала «Мулен-Ружа», Эдит ждала. На сцену вышел крупный темноволосый парень, по типу итальянец, красивый, но безвкусно одетый: куртка в немыслимо яркую клетку, маленькая шляпа, наподобие шляпы Шарля Трене. В довершение всего он стал петь старые американские и псевдотехасские песенки, подражая Жоржу Ульмеру и Шарлю Трене. До чего же это было плохо! Я следила за Эдит, будучи уверена, что она не досидит до конца.
Спев три песни, он вышел на авансцену и вызывающе спросил: «Ну что, продолжать или хватит?»
«Хватит, – крикнула Эдит, – подожди меня».
Я была уверена, что он сейчас взорвется. Эдит знала, что он злится на нее за это прослушивание и что он, не стесняясь, говорил о ней так: «реалистическая песня в уличном исполнении», «скука смертная» и т. п.
Забавно было смотреть на них издалека: он стоял на краю сцены, она – внизу, такая маленькая, что ее нос не доставал до его колен. Он счел унизительным для себя нагнуться к ней. Но Эдит не собиралась вести с ним длинной беседы: «Если хочешь петь в моей программе, приходи через час ко мне в отель «Альсина».
Ив задохнулся, побелел от бешенства. Однако через час в комнате отеля «Альсина» сдался на милость победителя. Эдит не стала надевать белых перчаток.
– Для краткости начнем с твоих достоинств. Ты красив, хорошо смотришься на сцене, руки выразительные, голос хороший, приятный, низкий. Женщины по тебе будут сходить с ума. Ты хочешь выглядеть и выглядишь умным. Но все остальное – нуль. Костюм дурацкий, годится для цирка. Жуткий марсельский акцент, жестикулируешь, как марионетка. Репертуар не подходит совершенно. Твои песни вульгарны, твой американский жанр – насмешка.
– Он нравится! Я с ним добился успеха.
– В Марселе! Там уже четыре года ничего не видели. А в Париже публика рада, когда пародируют оккупантов. Здесь аплодируют не тебе, а американцам. Но когда американцы будут здесь, рядом с ними ты будешь выглядеть как придурок. Ты уже вышел из моды.
Пытаясь подавить злость, Ив даже скрипел зубами. Эдит внутренне веселилась.
– Спасибо, мадам Пиаф. Я понял. Я вам не подхожу.
– Опять не угадал. Подходишь, и я не хочу помешать тебе заработать на жизнь. Две недели в программе с тобой пройдут быстро.
Ив был уже не в состоянии сдерживаться. Он хотел бы вылететь из комнаты, не открыв больше рта, но Эдит остановила его.
– Подожди, я не кончила. Я не сказала самого главного. Я уверена, что ты певец, настоящий певец. Я готова заняться тобой. Если ты будешь меня слушать, доверишься мне, ты станешь самым великим.
Он ответил ей: «Благодарю!» – и ушел, хлопнув дверью.
Я была ошеломлена. Все продолжалось менее четверти часа. За это время передо мной предстала женщина, о существовании которой я не подозревала. Как она разобрала его по косточкам! С какой уверенностью она выделила лучшее, что в нем было, отбросив смешное, фальшивое и вульгарное. Я в себя не могла прийти. Эдит всегда меня удивляла, но до такой степени еще ни разу.
Сидя на кровати, она продолжала смотреть на дверь. И я чувствовала, что в голове ее несется поток мыслей.
– Он мне не подходит! До чего мужчины глупы… Дурак, о твоей красоте можно только мечтать… Момона, он произведет революцию в песне. Публика такого давно ждет. Это он! Вот он, послевоенный эстрадный певец!
– Ты думаешь, он согласится, чтобы ты учила его?
– Да.
Я в этом не была так уверена. Гордый, к тому же итальянец. А они не любят, чтобы ими командовали женщины, у них это не принято.
На следующий день на репетиции он снял куртку, пел в рубашке.
– Видишь, Момона, я была права.
После него репетировала Эдит. Проходя мимо, она поймала его на слове:
– Ты меня уже слышал?
– Нет, мадам Пиаф.
– Так откуда же ты знаешь, что я «торговка скукой»? Можешь называть меня Эдит и останься послушать. Тогда будешь судить.
Он остался в зале до конца, потом исчез, не сказав ни слова. Но Эдит его ждала. И была права. Он пришел в «Альсина».
– Так вот, Эдит, если ваше предложение еще в силе, я согласен.
– Тебе неприятно, что будешь подчиняться женщине?
– Нет. Я слышал, как вы поете. И понял. Вы знаете все, чего не знаю я.
Мы выпили по рюмочке, произнесли тост за каждого, и работа началась.
– Ты подумал о своем костюме?
– Да, но…
– У тебя нет денег? Ну и что! Тебе не нужно петь в смокинге. Сейчас ничего нельзя достать. Значит, будешь выступать в рубашке и брюках. Только рубашка не должна быть белой, иначе публика воспримет, будто ты как вышел из спальни, так и влез на сцену. Публику нужно уважать, она не любит небрежности. Кроме того, это тебя будет перерезать на две части. Рубашка должна быть одного цвета с брюками. Ты высокий, худой, у тебя узкие бедра, это надо подчеркивать.
Она не переставала меня удивлять. Откуда взялась такая уверенность! Как она разбиралась в том, о чем говорила!
– Марсельский акцент вызывает смех. Оставь это тем, у кого нет ничего другого. Я научу тебя способу, которым пользуются актеры. Ты берешь в рот карандаш, закусываешь его зубами и так будешь проговаривать и петь свои песни. Я составлю тебе список слов, где встречается «о», которое ты произносишь по-марсельски. Будешь мне его читать несколько раз в день.
– С карандашом? На кого я буду похож?
– Человек, который трудится, смешным не бывает. Давай!
Нелегко говорить с карандашом в зубах! Ив чертыхался, но терпел. Эдит смеялась. Было действительно забавно видеть его красивое лицо, перечеркнутое карандашом.
Когда Ив бывал у нас, в комнате совсем не оставалось свободного места. Его метр восемьдесят семь роста и восемьдесят два килограмма веса занимали все пространство.
Он стоял перед ней одновременно покорный и своенравный, наморщив лоб, и был похож на щенка, который не понимает, что от него хотят. У меня он вызывал нежность. Он боялся выглядеть глупым, но все-таки им выглядел, и мне таким нравился.
Мы тотчас же подружились. Он не был похож на тех, кого мы знали раньше. Он был как глоток чистого воздуха. Как молодой волк на пороге жизни, полный сил, с длинными и крепкими мышцами. Его улыбка, честная и открытая, сразу покоряла. Он все время смеялся, и нам казалось, что все вокруг залито солнцем.
После урока мы вышли из отеля. Мы шли рядом по улице Жюно. Он наподдал камешек ботинком не менее сорок шестого размера! Остановился, засунув руки в карманы, и сказал мне очень серьезно: «Мне кажется, я могу ей полностью доверять. Я буду работать до седьмого пота».
Слова не разошлись с делом. Через две недели даже со своими неудачными песнями Ив очень многого добился. Надо правду сказать, что уроки он теперь брал на дому. Он перебрался к нам. Эдит влюбилась в него по уши. Липший раз я убедилась в том, что у нее хороший вкус и что она умеет выбирать мужчин. Ив и сейчас все еще красив, а в двадцать два года вместе с ним в комнату, казалось, входило солнце.
Любовь не мешала Эдит заставлять его работать в поте лица. Для нее не было мелочей. Она решила, что он должен быстро добиться успеха, она не могла ошибаться! Поскольку в работе она была неутомима, занятия продолжались часами. Бывали дни, когда она могла довести до белого каления. В таких случаях мы с Ивом переглядывались, нам хотелось сбежать. Но об этом не могло быть и речи; она нас крепко держала в своих маленьких ручках. «Момона, не отвлекай его или уйди. Когда он кончит, я отпущу вас прогуляться на часок».
Это было совершенно необходимо: комната была слишком мала, а Эдит не любила, чтобы открывали окна. После получаса занятий Ив своими атлетическими легкими выкачивал весь воздух.
О том, чтобы отпустить его на прогулку одного, не было и речи. Он не имел на это права. Его должна была сопровождать я. Не то чтобы Эдит ему не доверяла, она принимала меры предосторожности. «В нем жизнь бьет ключом, Момона. Его нельзя выпускать одного на природу».
Я начинала думать, что ему надоест, если я буду всюду таскаться за ним. Несмотря на улыбку, которая не сходила с его лица, он был не из тех, кто позволяет надеть на себя ошейник и держать на привязи.
Работали они оба, как одержимые. Один заводил другого. Ив вкалывал не жалея сил, а терпения у него было на двоих. Еще не успев ничему научиться, он уже наседал на Эдит:
– Согласен, Эдит, мне нужен новый репертуар. Но где ты найдешь песни для меня? К кому ты думаешь обратиться?
– Не беспокойся, любовь моя. Все в порядке. Я уже обратилась.
– Как? Уже? К кому? Я имею право знать.
У него тоже был нелегкий характер. Каждый из них был личностью, и оба друг друга стоили. Да, нам предстояли веселые деньки! Когда Эдит надоедали его расспросы, она обрывала: «Ты мне веришь или нет?»
Эту фразу мне предстояло слышать бесконечное множество раз. Они готовы были схватиться по любому поводу. Эдит любила, чтобы вокруг все кипело, так она понимала жизнь. В лице Ива она обрела прекрасного партнера. Он всегда был готов к бою.
Я знала, что она ему солгала: она еще и не начинала ничего искать для него.
«Понимаешь, Момона, я еще ничего не знаю о его жизни. Человек может хорошо петь только о том, что его держит за живое, о том, что приносит ему радость или боль. Ив вообразил себя ковбоем, но это бредни мальчишки, насмотревшегося американских фильмов. У него голова забита старыми довоенными вестернами. Честное слово, он думает, что он – Зорро! Мне нужно, чтобы он подробно рассказал о себе. Мне нужно знать, о чем он думал, когда его руки были заняты работой или когда он гулял по городу. О девчонке? О поездке за город? О пении? Ив нормальный парень. Все другие должны узнавать себя в нем. Значит, у него должны быть такие же желания, как у них. А старше двенадцати лет немногие мечтают скакать на кляче по горам и долам американского Запада! Я примерно уже представляю себе его жанр, но должна быть в нем абсолютно уверена».
Эдит говорила, а мне казалось, что я слышу Реймона Ассо, когда он занимался с ней в нашей комнатке на Пигаль.
«Момона, ты будешь его слушать вместе со мной».
В течение нескольких вечеров мы слушали Ива. Великолепный театр! Он прекрасно рассказывал. На сцене его жесты были неудачны, но в жизни – точны, совершенны. Я знала, что Эдит, как и я, думала: «Как прекрасно владеет своим телом, собака!»
«Ты ведь знаешь, что я итальянец, макаронник. Родился в пятидесяти километрах от Флоренции, в маленькой деревушке, в октябре 1921 года. Мама назвала меня Иво. Фамилия моего отца – Ливи. Когда я появился на свет, у меня уже были брат и сестра. Родители говорили, что жизнь была тогда очень трудной: нищета, безработица. В 1923 году, когда отец со всеми нами сбежал во Францию, мне было всего два года. Ему не нравился фашизм. Он боялся, как бы его сыновей не забрали силой в отряды Балилла[24]24
Отряды Балилла – фашистская молодежная воспитательная организация, созданная в 1926 г.
[Закрыть]: «Мои сыновья не будут ходить в черных рубашках, они не будут носить траур по Италии…» Он был прав. Италия черных рубашек была страной, заранее надевшей траур по своим детям.







